Жак Лакан Семинар IV Объектные отношения
Жак-Ален Миллер Комментарии

текст по-русски: перевод Мощенко С. редакция и коррекция Кольцова И., Золотарёв В.
Артель Буквы Фрейда и Лакана
Жак Лакан Семинар IV Объектные Отношения Жак-Ален Миллер Комментарии
перевод Мощенко С., редакция и коррекция Кольцова И., Золотарёв В.
Оглавление

Предисловие само(на)званного переводчика
В понедельник 2 октября 2017 года начинался новый учебный год в Университете Париж VIII. В полдень почти весь поток студентов департамента психоанализа (порядка 90 человек на тот момент) собрался чтобы послушать Клотильду Легиль. Её курс того года был посвящён любви, и на первой же лекции она нарисовала схему вуали из Семинара IV, сопроводив её удивительными по своей ясности комментариями. Оказалось, что с помощью трёх точек и одной черты Лакан сформулировал суть объекта и любовных отношений. И оказалось, что существуют такие прекрасные женщины и блестящие лекторы, которые могут лакановскую схему запросто объяснить, и ещё есть целый посвящённый этому Семинар, который, к сожалению, совсем никак не переведён на русский. Так начались мои отношения с этим текстом. Я купил объёмистую книгу и поставил её красиво на полку. В июне 2018 года я взялся за перевод.
Работа над текстом, который вы (не) держите в руках, заняла 5 лет. Сначала я дважды перевёл Семинар от начала и до конца, ежедневно и подолгу встречаясь с французским языком Лакана, что называется не на жизнь, а на смерть. И как раз этим интенсивным отношениям отводилась большая часть моих речей в кабинете аналитика. Я считаю, что это самый насыщенный клиническими комментариями Семинар Лакана, и, конечно, многие его смыслы пересекли мой собственный анализ. Когда был готов второй черновик перевода, к работе над текстом подключилась Ирина Кольцова, взяв на себя тяжёлое и порой мучительное бремя этих забористых отношений в части редакции и коррекции русского текста. Но главный и решающий вклад сделал Александр Черноглазов - он откликнулся на просьбу просмотреть текст очень сырого на тот момент перевода и внёс большое количество правок. Далее с Семинаром в режиме чтения-обсуждения в течение целого года работала вся Артель буквы Фрейда и Лакана. Один из участников Артели, Вадим Золотарёв, в свою очередь взял на себя огромный труд и дважды скрупулёзно вычитал весь текст, и думает о том, чтобы дополнить его целым корпусом развёрнутых примечаний.
Ранние черновики моего перевода сразу же загуляли по сети и уже переродились в версиях других переводчиков, появление которых можно только поприветствовать, ведь каждый последующий подход должен быть лучше, поскольку может опираться на фундамент уже проделанной и наиболее трудоёмкой части работы.
К сожалению, пока не удалось найти возможность договориться об издании книги на бумаге. Я много раз пытался завести разговор о перспективах публикации, но в ответ, как правило, получал молчание, которое иногда возвращалось из-за спины эхом высказанных в мой адрес званий дилетанта, выскочки и самозванца (на самом деле званий довольно точных и почётных для меня). Исходя из того, что данный сделанный текст перевода не рассматривается обладателями морального права и прочим компетентным сообществом в качестве достойного для официальной публикации, я не могу указать первого во всех смыслах и любимого всеми нами за многолетний самоотверженный труд переводчика в качестве редактора, но и не смог не упомянуть в этом предисловии его участия и выражаю большую искреннюю благодарность от всех причастных, поскольку его вклад в итоговый результат был действительно решающим.
Что касается лекций ЖАМа, очень помогающих иметь отношения с таким объектом, как текст Лакана, то в личной переписке я получил от автора нечто, вполне напоминающее согласие на перевод и публикацию, но это не точно, поскольку ответ был кратким и скорее открытым для интерпретации, нежели разрешающим вопрос по делу.
Учитывая всё вышеизложенное, прошу не считать весь следующий текст ни полноценным переводом Семинара Лакана, ни авторизированным переводом лекций ЖАМа, но принять этот материал в качестве любительских и само(на)званных смысловых набросков, вольно интерпретирующих французский оригинал. И тем не менее прошу выйти со мной на связь в случае обнаружения ошибок и опечаток любого рода.
И пусть для начала у нас будет такой русский текст.
5 сентября 2023

Часть I Теория нехватки объекта

глава 1 Введение
Схема Z
Объект потерянный и обретённый
Перлы
Объект, тревога, дыра
Фетиш и фобический объект
В этом году мы обсудим тему, которая в результате развития психоанализа или того, что мы так называем, сможет занять в более или менее отчётливой форме центральное положение как в теории, так и в практике.
Это тема объектных отношений (la relation d'objet).
Почему я не выбрал её, когда мы начинали эти семинары, хотя она уже тогда была актуальной, важной, решающей? Именно по той причине, которая повлияла на вторую часть моего названия - и фрейдовские структуры.
К теме объектных отношений действительно можно подойти только после некоторого возврата к этому вопросу. Прежде нам нужно было прояснить для себя, что образует те структуры, в которых Фрейд показал движение и действие анализа. Особенно важным было рассмотреть сложную структуру отношений между двумя субъектами, присутствующими в анализе, а именно структуру отношений между анализируемым и аналитиком. Этому были посвящены три года наших комментариев и толкований текстов Фрейда, содержание которых я вам кратко напомню.
В первый год мы занимались элементами самой техники лечения, то есть понятиями переноса и сопротивления. Второй год касался основы фрейдовского опыта и открытия, а именно понятия бессознательного. Надеюсь, я достаточно хорошо показал вам, что как раз понятие бессознательного и привело Фрейда к необходимости ввести буквально парадоксальные в диалектическом плане принципы, которые были представлены в По ту сторону принципа удовольствия. Наконец, на третий год я предоставил показательный пример того, насколько необходимо выделить сущностный элемент символического, называемый означающим, чтобы хоть что-то понять, говоря аналитически, в параноидальном, по сути дела, поле психозов.
За этот период толкования мы оснастились рядом терминов и схем. Пространственное исполнение (spatialité) последних не полагается на интуитивное понимание термина схема, но предполагает другой, совершенно обоснованный топологический смысл - дело касается не локализации позиций, а их взаимосвязи, того, например, вклинивается ли тот или иной элемент между двумя другими или выстраивается с ними в последовательность. Нашей кульминационной разработкой стала одна схема, которую мы можем назвать, действительно, Схемой с большой буквы. Вот она:
СХЕМА


Прежде всего, эта схема описывает связь между субъектом и Другим. В том виде, в котором она устанавливается в начале анализа, это связь виртуальной речи (parole virtuel), посредством которой субъект получает от Другого своё собственное послание в форме бессознательной речи. Послание это для него заперто; непризнанное им, оно искажено, прервано, сковано вмешательством воображаемых отношений между а и a', между собственным Я (moi) и другим (autre), его типичным объектом. Воображаемые отношения, которые, по сути своей, являются отношениями отчуждения, прерывают, замедляют, тормозят, зачастую переворачивают и глубоко искажают речевую связь между субъектом и Другим, большим Другим, который, будучи другим субъектом, является субъектом принципиально способным на обман.
Неслучайно мы ввели эту схему именно в тот момент, когда всё большее число аналитиков формулирует аналитический опыт, отдавая предпочтение теории объектных отношений, оставляя её, однако, без дополнительных комментариев, когда на объектные отношения переориентирована диалектика принципа удовольствия и принципа реальности, когда прогресс анализа связывается с отлаживанием взаимосвязи субъекта и объекта, которую рассматривают как дуальную и которая, если послушать их, чрезвычайно проста. Именно эти отношения субъекта с объектом, которые всё более претендуют на центральное положение в аналитической теории, мы и собираемся рассмотреть критически.
Принимая во внимание, что объектные отношения как дуальные получили место на нашей схеме в виде линии а ^ а' можем ли мы, исходя только из этого, смоделировать надлежащим образом весь комплекс феноменов, предлагаемых нашему вниманию в аналитическом опыте? Позволяет ли один только этот инструмент объяснить все факты? Можно ли пренебречь или даже отбросить ту более сложную схему, которую мы такому подходу противопоставляем?
Для подтверждения того, что объектные отношения стали - по крайней мере так это выглядит - главным теоретическим элементом аналитического объяснения, я приведу пример одной недавно опубликованной коллективной работы, по отношению к которой термин коллективный оказывается особенно уместен. Я не имею в виду, что вам стоит в неё вникать. Эта работа целиком посвящена разбору объектных отношений - она не всегда удовлетворительна в смысле изложения, но её монотонность и однообразие поражают. В статье, озаглавленной Эволюция психоанализа, именно объектные отношения оказываются на первом плане, а в качестве последнего слова этой эволюции вы найдёте в статье Психоаналитическая клиника презентацию, целиком ориентированную на объектные отношения клиники. Возможно, я поделюсь с вами попозже мыслью о том, куда может завести такая презентация.
Картина совершенно поразительная. Мы видим практикующих аналитиков, которые пытаются упорядочить размышления и понимание собственного опыта вокруг объектных отношений; не похоже, что это их полностью и окончательно удовлетворяет, но при этом именно объектные отношения ориентируют их практику и пронизывают её очень глубоко. Нельзя полагать, что осмысление ими своего опыта в данном регистре не оказывает влияния на сами способы их вмешательства, на направление, придаваемое анализу, и заодно на его результаты. Этого невозможно не заметить, просто почитав их. Аналитическая теория и практика, как мы всегда это твердим, друг от друга неотделимы, и как только мы наделили опыт определённым смыслом, мы

неизбежно будем руководствоваться в практике ровно этим смыслом. Безусловно, практические результаты могут быть только промежуточными.
Чтобы подойти к теме объектных отношений, а вернее, к вопросу о том, по какому праву и насколько обоснованно им было отведено центральное место в аналитической теории, я напомню вам хотя бы вкратце, чем это понятие обязано или не обязано самому Фрейду. Я сделаю это прежде всего потому, что отталкиваться от фрейдовского комментария стало для нас своего рода руководством и почти техническим предписанием, которое мы для себя здесь установили.
К тому же в этом году я уловил возникший у вас вопрос, если не беспокойство, по поводу того, не собираюсь ли я отойти от фрейдовских текстов. Нет сомнений, что очень трудно начинать разговор об объектных отношениях непосредственно с текстов Фрейда, потому что их там нет. Я говорю, конечно же, о теме, которая весьма отчётливо проявляет себя как отступление (déviation) от аналитической теории. Поэтому мне приходится начинать с недавних текстов и сразу же с критики их позиций. Зато в конечном итоге мы должны будем вернуться на фрейдовские позиции, сомнений в этом быть не может, и тем не менее с самого начала мы не можем не привести хотя бы очень кратко то, что в строго фрейдовских фундаментальных положениях вращается вокруг самого понятия объекта.
Мы не можем сделать это сразу в развёрнутом виде. Но в конце мы вернёмся именно к этому, чтобы чётко это сформулировать.
Поэтому я хочу лишь кратко напомнить вам то, о чём говорить было бы немыслимо, если бы мы не посвятили три года совместной работы анализу текстов, если бы вы уже не встречали вместе со мной тему объекта в различных её формах.
1
Конечно, у Фрейда говорится об объекте. Заключительный раздел Трёх очерков по теории сексуальности называется Обнаружение (trouvaille) объекта, Die Objektfindung. Объект подразумевается всякий раз, когда вступает в игру понятие реальности. Мы говорим о нём ещё в одном случае каждый раз, когда имеем в виду амбивалентность определённых основополагающих отношений, а конкретно тот факт, что субъект становится объектом для другого, и существует определённый тип отношений, в которых взаимосвязь (réciprocité) посредством объекта является очевидной и даже образующей.
Я хотел бы более основательно остановиться на трёх модальностях, в которых предстают перед нами понятия, непосредственно относящиеся к объекту. Если вы заглянете в упомянутый раздел Трёх очерков по теории сексуальности, вы увидите кое-что уже сформулированное раньше, во время написания Entwurf, текста, который, как я вам говорил, был опубликован только в результате своего рода исторического недоразумения, поскольку Фрейд не только не хотел его публикации, но можно сказать, что она случилась против его воли. Тем не менее, когда мы обращаемся к этому первому наброску его психологии, мы обнаруживаем ту же самую формулу объекта. Фрейд настаивает на том, что в своих поисках объекта человек всегда стремится обрести объект, некогда потерянный, объект, который необходимо заново найти.

Речь никак не об объекте современной теории, которая рассматривает его как объект, полностью удовлетворяющий, объект типичный, объект par exellence, объект гармоничный, объект, который укореняет человека в той достоверной реальности, где утверждается его зрелость, - пресловутый генитальный объект.
Совершенно поразительно, что в тот момент, когда Фрейд создаёт теорию инстинктивного развития в том виде, в котором она возникает из первого аналитического опыта, он указывает нам на то, что объект обнаруживается на пути поиска утраченного объекта. Этот объект соответствует определённой продвинутой стадии созревания инстинктов, это вновь найденный объект, объект первого отлучения, именно тот объект, который в самом начале был связан с первыми удовлетворениями ребёнка.
Ясно, что условие несоответствия устанавливается одним лишь фактом этого повторения. Ностальгия, которая связывает субъекта с утраченным объектом, пронизывает все усилия поисков. Она помечает новую находку знаком невозможности повторения, поскольку это точно не тот же самый объект, он не может быть тем самым. Первичность этой диалектики задаёт в центре отношений субъект-объект фундаментальную напряжённость, в силу которой искомое не является искомым в том же самом качестве, как то, что будет найдено. Именно через поиск прошлого и прошедшего удовлетворения разыскивается новый объект, при этом обнаруживается и обретается он совсем не там, где разыскивается. Фундаментальная дистанция, вводимая элементом, конфликтным по самой своей сути, в любой поиск объекта, задана изначально. Это первая форма, в которой появляется у Фрейда понятие объектных отношений.
Чтобы придать полную ясность тому, на чём я сейчас акцентирую внимание, нам стоило бы обратиться к проработанным философским терминам. Я намеренно пока не делаю этого, чтобы приберечь их для нашего последующего возвращения к теме. Но те из вас, для кого эти термины уже обрели смысл в рамках какого-либо философского знания, уже могут оценить всю дистанцию, которая отделяет фрейдовские отношения субъекта с объектом от предшествующих концепций, опирающихся на понятие объекта подходящего, объекта ожидаемого, объекта, сообразного созреванию субъекта. В платоновской перспективе познание объекта основано на распознании (reconnaissance) и припоминании (réminiscence) заранее сформированного образца. С учётом той дистанции, которая разделяет опыт современный и опыт античный, Кьеркегор отмежевал эту перспективу от понятия повторения, повторения всегда искомого, но никогда не удовлетворительного. По своей природе повторение противоположно припоминанию. Его как таковое никогда невозможно насытить. Именно в этом измерении располагается фрейдовское понятие повторного обнаружения утраченного объекта.
Мы ещё обратимся к тексту, в котором хорошо заметно, что Фрейд изначально помещает понятие объекта в рамки глубоко нарушенной связи субъекта с его миром. И как иначе это могло бы быть, если уже в то время речь шла об оппозиции между принципом реальности и принципом удовольствия?
Принцип удовольствия и принцип реальности друг от друга неотделимы. Я бы сказал больше: один включает и предполагает другой в диалектической взаимосвязи.
Принцип реальности появляется лишь постольку, поскольку нечто настаивает на своём удовлетворении в принципе удовольствия, в этом смысле он лишь расширение

последнего, и наоборот, в своей динамике и основной направленности он подразумевает фундаментальное затруднение для принципа удовольствия. Тем не менее между ними двумя, в этом и состоит суть предложения фрейдовской теории, есть зияние ( béance ) - не было бы возможности их различения, если бы один был просто продолжением другого. На самом деле принцип удовольствия тяготеет к реализации в образованиях глубоко ирреальных, тогда как в принципе реальности существует иная и автономная организация или структуризация, которая имеет в виду, что то, чем она овладевает, может быть принципиально отличным от желаемого. Сама по себе эта взаимосвязь вводит в диалектику субъекта и объекта другой термин, который не может быть здесь устранён.
Так же как субъект, в чём мы только что убедились, в своих первичных (primordiales) требованиях всегда обречён на возврат, причём возврат невозможный, таким же образом и реальность, как это показывает сочленение друг с другом принципа удовольствия и принципа реальности, находится в радикальной оппозиции с тем, что разыскивается в силу психической тенденции. Другими словами, удовлетворение принципа удовольствия, которое неявно, подспудно присутствует в любом учении о сотворении мира, всегда более-менее стремится к тому, чтобы реализовать себя в более-менее галлюцинаторной форме. Подспудная организация в Я (moi), скрытая механика психического процесса субъекта как такового, всегда располагает фундаментальной возможностью произвести удовлетворение ирреальным, галлюцинаторным образом. Вот тот другой пункт, который Фрейд мощно акцентирует уже в Traumdeutung, то есть начиная с первой полной и точно выраженной формулировки оппозиции принципа реальности и принципа удовольствия.
Как таковые эти два положения фрейдовской теории не сочетаются одно с другим. Факт того, что они представлены у Фрейда по отдельности, указывает на то, что не в отношениях субъекта с объектом рассматривается вопрос развития. Если каждое из этих двух положений находит своё место в разных пунктах фрейдовской диалектики, то происходит это по той простой причине, что ни в каком случае отношения субъект-объект не занимают в ней центрального места.
Если и кажется, что эти отношения поддерживаются прямо и без зазора, то лишь потому, что речь идёт об отношениях, называемых с некоторых пор догенитальными, отношениях видящий-видимый, атакующий-атакуемый, пассивный-активный. Субъект всегда проживает эти отношения способом, который более или менее очевидно предполагает его идентификацию с партнёром. Эти отношения проживаются в обоюдности (réciprocité) - это в данном случае подходящий термин - в обратимости позиций субъекта и его партнёра.
На этом уровне, по сути дела, и вводятся такие отношения между субъектом и объектом, которые являются не только прямыми и беззазорными, но в которых один к другому буквально приравнивается. И именно такие отношения послужили поводом к тому, чтобы вывести на передний план объектные отношения как таковые. Эти отношения взаимообратимости (réciprocité) между субъектом и объектом, которые можно обозначить как зеркальные отношения, уже сами по себе поднимают большое количество вопросов, в попытке разрешения которых я и ввёл в аналитическую теорию понятие стадии зеркала.
Что такое стадия зеркала? Это определённый момент, в который ребёнок узнаёт свой собственный образ. Но стадия зеркала далека от простого описания отдельного

феномена в развитии ребёнка. Она проясняет конфликтный характер дуальных отношений. Всё, что ребёнок постигает в зачарованности своим собственным образом, представляет собой именно разрыв (distance), обусловленный внутренними напряжениями, возникающими во взаимосвязи и идентификации с этим образом. Однако для меня именно это послужило поводом для обращения к теме и стало центральным пунктом, занимающим первый план отношений субъект-объект, получивших феноменальную популярность, о которой можно судить по тому, что до сего дня было представлено в терминах не только разрозненных, но и весьма противоречивых, устанавливающих глубоко диалектическую связь между различными понятиями.
Одним из первых, сделавших этот новый акцент, но не так рано, как мы полагаем, был Карл Абрахам.
До некоторых пор развитие субъекта неизменно рассматривалось через призму реконструкции, ретроактивно, исходя из центрального опыта конфликтной напряжённости между сознательным и бессознательным. Конфликтная напряжённость возникает вследствие того фундаментального факта, что всё искомое в силу психической тенденции является неопознанным, а если сознание нечто и распознаёт, то изначально ошибочным образом. Субъект распознаёт себя не на пути сознания, есть нечто другое и потустороннее (au-delà). Это потустороннее, будучи фундаментально нераспознанным, оставаясь за пределами сознания субъекта, тотчас поднимает вопрос относительно своей структуры, своего происхождения и своего смысла.
Однако эта перспектива была заброшена по инициативе ряда представителей солидных психоаналитических течений. Всё было переориентировано на функцию объекта, а точнее, на его окончательную кондицию. Если мы в осмыслении конечного пункта идём от обратного поскольку он, вообще-то, никогда не появляется как видимый в силу того, что идеальный объект буквально является немыслимым, то в новой перспективе этот идеальный объект, напротив, полагается целевым ориентиром, окончательным достижением, что обосновано целой чередой опытов, элементов и частичных определений понятия объект. Эта перспектива постепенно закрепилась с момента, когда Абрахам сформулировал её в 1924 году в своей теории развития либидо. Его концепция для многих стала основой самого аналитического порядка и всего того, что в нём происходит, она задала систему координат, внутри которой располагается весь аналитический опыт, где определён конечный пункт - этот пресловутый идеальный, окончательный, совершенный, правильный (adéquate) объект, представленный как знаменующий собой достигнутую цель, то есть нормализацию субъекта.
При этом одно только понятие нормализации вводит целый сонм категорий, весьма отдалённых от исходных предпосылок анализа.
2
По собственному признанию тех, кто следует этому пути, продвижение анализа в первую очередь должно учитывать отношения субъекта с его окружением.
Акцент внимания на внешнюю среду производит редукцию всего аналитического опыта. Это возврат на чисто объективирующую позицию, которая выводит на первый

план существование некоего индивида, более-менее соответствующего окружающей его среде, более-менее к ней приспособленного. Полагаю, что для иллюстрации этого я не смогу сделать что-то лучшее, чем сослаться на формулировки, которые вы найдёте на страницах 761 - 773 коллективной работы, о которой мы говорили.
После того, как для нас было подчёркнуто, что именно об отношениях субъекта и его окружения идёт речь в ходе анализа, мы, между прочим, узнаём, что это особенно важно в случае маленького Ганса, где родители, говорят нам, выглядят безлико. Нам не обязательно разделять эту точку зрения. Важно то, что последует в тексте далее -это происходило до войны 1914 года, когда западное общество, уверенное в себе, не задавалось вопросами бренности существования; и напротив, с 1926 года акцент смещается именно на тревогу и взаимодействие организма с окружающей средой; после того как было подорвано основание общественного уклада, меняющийся мир ежедневно вызывал тревогу, индивиды распознали свои различия. В то время, когда физика исследует релятивизм, неопределённость, вероятность, похоже, что объективное мышление избавляется от своей уверенности в себе самом.
Мне кажется, что эта ссылка на современную физику как основу нового рационализма нуждается в комментарии. Важно, что психоанализу в причудливой, непрямой манере отводится роль того, что может стать неким средством исцеления общества. Вот что выводится на первый план, вот что представлено в качестве характерной черты движущего элемента его прогресса. Неважно, насколько это обосновано, поскольку, откровенно говоря, это такие вещи, которые по своей значимости представляются нам наименее весомыми - что здесь поучительно, так это та запредельная непринуждённость, с которой эти вещи приняты.
Этот пример не единственный, поскольку главное свойство этой работы заключается в том, что она коллективная и внутренне согласованная, она производит впечатление скорее однородной, нежели, в прямом смысле этого слова, связной.
В первой статье, которую я только что упоминал, в конце концов, отчётливо сформулирована главная концепция, необходимая для современного понимания структуры личности, она дана под определённым углом зрения, как сказано, наиболее практичным и наиболее прозаичным, который принимает во внимание социальные отношения больного - это последнее выражение подчёркнуто автором.
Я перехожу к другим моментам, изложенным в исповедальной форме -известно, что впечатление от подвижности, неуловимости, неестественности такой концепции анализа может создавать дискомфорт, но это не касается самого предмета дисциплины, ведь никто и не подумает оспорить, что она является деятельностью, меняющейся во времени. На самом деле такое слегка туманное объяснение характерно для различных подходов, появившихся в этой линии. Что не означает, что оно должно полностью нас удовлетворить, поскольку я не знаю такой дисциплины, предмет которой не был бы подвержен изменениям во времени.
В теме отношений субъекта с миром мы видим акцент на постоянно проводимой параллели между состоянием более или менее продвинутого созревания инстинктивной деятельности и структуры собственного Я (Moi) данного субъекта. В целом, с определённого момента структура собственного Я рассматривается как подкладка и, в конечном счёте, как показатель степени зрелости инстинктивной деятельности на её различных этапах.

Некоторым из вас сами по себе эти термины могут показаться не такими уж сомнительными. Неважно, вопрос не в этом, мы ещё посмотрим, можно ли в каком-то смысле иметь их в виду. Но их следствием стало размещение в центре анализа того, что представляет собой типологию, в рамках которой есть догенитальные и генитальные индивиды.
Написано об этом так - догенитальными являются индивиды, обладающие слабым Я (Moi), цельность их Я находится в тесной зависимости от объектных отношений со значимым объектом. Здесь мы можем начинать задавать вопросы. Возможно, позже, читая этот же самый текст, мы увидим, куда может завести понятие значимого объекта, так и не получившее своего объяснения. С точки зрения техники это подразумевает, что догенитальные отношения учитываются, приобретают значение в аналитических отношениях. Утрата этих отношений или их объекта, что синонимично, поскольку объект здесь существует только в функции его отношений с субъектом, приводит к серьезным нарушениям деятельности Я, таким как явления деперсонализации, психотические расстройства. Мы находим здесь пункт, в котором произошла проверка, подтвердившая глубинную хрупкость отношений догенитального Я (moi) и его объекта. Субъект старается поддерживать свои объектные отношения любой ценой, идёт на любого рода ухищрения для достижения этой цели, меняет объект, осуществляя смещение или символизацию, в ходе которой на произвольно выбранный символический объект переносится аффективный заряд первоначального объекта, что позволяет сохранить объектные отношения. Для такого объекта совершенно справедлив термин «вспомогательного Я».
Генитальные индивиды, напротив, обладают собственным Я, которое не полагает свою силу и осуществление своих функций зависящими от владения значимым объектом. В то время как для первых потеря значимого человека, грубо говоря, оказывает воздействие на их индивидуальность, для вторых эта потеря, насколько бы болезненной она ни была, не нарушает целостности их личности. Они не зависят от объектных отношений. Это не означает, что они могут легко обойтись без любых объектных отношений, что, впрочем, практически неосуществимо, настолько объектные отношения многочисленны и разнообразны, это означает лишь то, что потеря контакта со значимым объектом не отражается на их цельности. Это то, что в отношениях Я с объектом радикально отличает их от предыдущих.
Далее в тексте - [...] по-видимому, в любом неврозе нормальное развитие остановилось ввиду невозможности, в которой оказывается субъект в попытке разрешить важнейший из детских структурообразующих конфликтов, идеальный исход которого приводит к той счастливой адаптации к миру, которую мы называем генитальными объектными отношениями и которая создаёт у любого наблюдателя ощущение гармоничной личности, а в анализе непосредственно приводит к особого рода кристальной чистоте мышления, которая является, я повторяю, скорее пределом, чем реальностью [...].
Кристальная чистота. Мы видим, как далеко представление о совершенстве объектных (objectale) отношений заносит этого автора.
Тогда как влечения в их догенитальной форме демонстрируют характер потребности в бесконтрольном, безграничном, безусловном обладании,

включающем агрессивный аспект, в их генитальной форме они по-настоящему нежные, любящие, и даже если субъект не выглядит таким бескорыстным, то есть лично не заинтересованным, и даже если его объекты являются сугубо нарциссическими, как в предыдущем случае, он всё-таки способен понимать и учитывать ситуацию другого. Кроме того, интимная структура его объектных (objectales) отношений показывает, что участие объекта в его собственном удовольствии непременно необходимо для счастья субъекта. Привычки, желания, потребности объекта учитываются в высшей мере.
Этого достаточно, чтобы поставить весьма серьёзный вопрос, который мы действительно не можем обойти стороной: что означает нормальный исход детства, юности и зрелости?
Есть одно принципиальное различение, которое нужно иметь в виду. На него нам указывает как понятие объективности, так и элементарный опыт. Мы никак не можем путать установление реальности, со всеми проблемами адаптации, которые возникают из-за того, что она оказывает сопротивление, отказывает, является сложной, и понятие, более или менее подразумеваемое этими текстами в различных определениях объективности и полноты объекта. Эта путаница сказывается таким образом, что объективность предстает в этих текстах как характерная для отношений с другим в их развитой форме. Тогда как наоборот, конечно же, существует дистанция между тем, что предполагается более-менее соответствующим взглядам определённой эпохи пониманием мира, и установлением отношений с другим в их аффективном, даже чувственном, регистре с учётом потребностей, благополучия, удовольствия другого. Конституция другого как такового, то есть того, кто говорит, то есть того, кто является субъектом, определённо ведёт нас гораздо дальше.
Мы вернемся к этим текстам, которые пестрят подобными перлами. Но процитировать их недостаточно даже с юмором, на который они и без нас напрашиваются. Даже если мы наделаем юмористических замечаний, коих они и сами предоставляют достаточно. Чтобы продвинуться, нужно сделать ещё кое-что.
3
Эта чрезвычайно предварительная концепция аналитического понятия инстинктивного развития является отнюдь не общепринятой.
Тексты такого автора, как Гловер, например, могли бы привести вас к совершенно другому пониманию и применению объектных отношений, которые названы и определены в них как таковые. Ознакомившись с этими текстами, вы увидите, что функция объекта, этапы которой характеризуют различные эпохи индивидуального развития, продумана совершенно иначе.
Опираясь на объект, анализ настаивает на введении функционального понятия совершенно иной природы, нежели свойство простого соответствия субъекту. Речь не идёт о простой сочетаемости (coaptation) объекта с определённым требованием субъекта. Объект здесь играет совершенно другую роль, он обретает своё место, если можно так выразиться, на почве тревоги. Объект является инструментом маскировки и отражения фундаментальной тревоги, которая на различных этапах развития субъекта характерна для его отношений с миром. Именно так на каждом этапе и должен быть охарактеризован субъект.

Я не могу в конце сегодняшней нашей встречи не придать очертаний тому, о чём говорил, с помощью иллюстрации на каком-либо примере. И мне достаточно указать на классическую, базовую, фрейдовскую концепцию фобии.
Фрейд, как и все, кто изучал фобию с ним и после него, не преминул показать, что нет никакой прямой связи между объектом и так называемым страхом, который нанёс на него свою фундаментальную метку, формируя его как таковой, как объект примитивный (primitif). Напротив, есть существенная разница между страхом, о котором идёт речь и который в определённых случаях может быть страхом примитивным, а в других случаях таковым не быть, и объектом, который в самой своей сути образуется для того, чтобы этот страх удерживать на расстоянии. Объект заключает субъекта в определённый круг, в бастион, внутри которого он укрывается от своих страхов. Объект сущностно связан с сигналом тревоги. Объект - это прежде всего форпост на пути возникшего страха. Страх сообщает объекту его роль в конкретный момент определённого кризиса субъекта, который при этом не является ни типичным кризисом, ни кризисом развития.
Является ли такое современное, если можно так сказать, понимание фобии справедливым и обоснованным? Нам предстоит подвергнуть сомнению и это, показав, что такой подход лежит у истоков понятия объект в том виде, в котором предстаёт он в работах Гловера и в способе ведения анализа, характерном для его мысли и его техники.
То, что, как нам говорят, тревога является тревогой кастрации, до недавнего времени редко оспаривалось. Тем не менее примечательно, что желание свести всё к воспроизводству в генетическом смысле дошло до попытки вывести из изобилия примитивных, объектно-ориентированных фобических конструкций сам по себе отцовский объект, как если бы он был их следствием и конечным результатом. Именно в этом смысле пишет о фобии Мале в коллективной работе, которую я цитировал. Примечательным образом, он идёт в направлении, противоположном тому, что позволило нам перейти от фобии к пониманию определённой связи с тревогой и обнаружить функцию защиты, которую выполняет объект по отношению к этой тревоге.
Не менее занятно наблюдать за тем, во что в другом регистре превращаются понятия фетиша и фетишизма. Об этом я тоже начну сегодня говорить, чтобы показать вам, что если мы рассмотрим дело в перспективе объектных отношений, то выяснится, что фетиш в аналитической теории выполняет функцию защиты от тревоги, и, что удивительно, от той же самой тревоги, то есть тревоги кастрации. Неправильно, наверное, утверждать, будто с тревогой кастрации, вызванной восприятием отсутствия фаллического органа у женского субъекта и отрицанием этого отсутствия, фетиш связан именно таким образом. Не важно. Нельзя не заметить, что и здесь объект дополняет собою то, что предстает как дыра, как провал в реальности.
Вопрос состоит в том, чтобы прояснить, есть ли нечто общее между фобическим объектом и фетишем.
Но чтобы поставить вопросы в этих терминах, не отказываясь при этом от мысли рассмотреть проблемы с точки зрения объектных отношений, стоит, наверное, найти повод и отправную точку исследования в самих феноменах. Согласимся рассматривать адресованные нам вопросы о типичном объекте, идеальном объекте, функциональном объекте и любых других формах объекта, которые можно у человека предположить, и

подойдем к нашей проблеме с этой стороны - но тогда нас не устроят единообразные объяснения для разнообразных феноменов. Возьмём, к примеру, наш исходный вопрос о том, в чём состоит разница между функцией фобии и функцией фетиша, при том, что основанием их обеих служит тревога, против которой обе призваны быть для субъекта защитой или гарантией.
Я принял решение определить в качестве исходного положения именно этот пункт. Мы оттолкнёмся от нашего опыта для приближения к тем же самым проблемам, то есть продвигаясь не в мифической, не в абстрактной манере, но прямо, принимая во внимание те объекты, которые нам предложены в опыте.
Недостаточно обсуждать ни объект в общих чертах, ни объект, который обладал бы каким-то волшебным коммуникативным свойством наподобие способности регулировать отношения со всеми другими объектами, как если бы достижение генитальности решало все вопросы. Мне кажется, то, что может быть объектом для генитального индивида, с точки зрения сугубо биологической, которая здесь выходит на первый план, не должно быть чем-то менее загадочным, чем объекты обыденного человеческого опыта, монетка, например.
Можно ли отрицать, что монетка сама по себе не поднимает вопроса своей объективной ценности? Когда в определённом регистре мы утрачиваем её, обратив в средство обмена, как происходит это с любым другим элементом человеческой жизни из той или иной предполагающей обмен сферы, чья ценность оказалась переведена в товарную стоимость - не возникает ли здесь у нас в тысяче разных форм вопрос, который марксистская теория уже разрешила с помощью термина если не синонимичного, то, по крайней мере, весьма близкого тому, который мы только что упомянули, а именно фетиша? Одним словом, понятие объекта-фетиша, объекта-экрана, а с ними та уникальная функция конституирования реальности, на которую Фрейд с самого начала пролил действительно яркий свет и которую мы непонятно почему предпочли игнорировать, - столь важная для устроения прошлого каждого субъекта как такового функция покрывающего воспоминания (souvenir-écran) - вот те понятия, которые сами по себе и само собой заслуживают быть проработанными.
Они должны быть проанализированы и в своих взаимоотношениях, поскольку, исходя из связей между ними, можно провести необходимые различения, которые позволят нам чётко сформулировать, почему фобия и фетиш - это две разные вещи.
Как связано общепринятое употребление слова фетиш со специальным применением этого термина для описания сексуальной перверсии? Именно таким образом мы сформулируем тему нашей следующей встречи, которую посвятим фобии и фетишу.
Так, обратившись к опыту, сможем мы пересмотреть термин объектных отношений и вернуть ему его истинное значение.
21 ноября 1956

глава 2 Три формы нехватки объекта
Кто такой навязчивый невротик?
Воображаемая триада
Фаллицизм и воображаемое Реальность и Wirklichkeit Переходный объект Винникотта
На этой неделе я для нашего занятия кое-что почитал. Я прочитал то, что психоаналитики написали на тему, которой мы займёмся в этом году, а именно на тему объекта, а точнее объекта генитального.
Генитальный объект, если называть вещи своими именами, это женщина. Так почему бы не назвать его своим именем?
Так что именно чтением текстов о женской сексуальности я себя и порадовал. Прочитать их важнее было бы вам, чем мне. Это облегчило бы вам понимание того, к чему именно я в разговоре на нашу тему клоню. К тому же чтение этих текстов весьма поучительно ещё и с других точек зрения, и главным образом с той, что связана с известной фразой Ренана: «Лишь человеческая глупость даёт представление о бесконечности». Похоже, если бы он дожил до наших дней, он бы добавил: и теоретические разглагольствования психоаналитиков.
Не подумайте, будто я считаю их глупостями. Нет, просто они тоже способны дать представление о бесконечности. На самом деле поразительно, сколь трудно приходится аналитикам перед лицом столь резких, столь ошеломляющих заявлений Фрейда.
Что нового высказал на эту тему сам Фрейд? Ответом на этот вопрос я, наверное, сегодня и ограничусь. А высказал он вот что. Идея о гармоническом объекте, дополняющем по своей природе отношения субъект-объект, совершенно противоречит опыту - я даже не говорю психоаналитическому опыту - но общему опыту отношений между мужчиной и женщиной. Если бы гармония в этом регистре не была столь проблематичной вещью, не было бы вовсе никакого анализа. Нет ничего более точного, чем формулировки Фрейда на эту тему - в этом регистре имеет место зияние, нечто такое, что не срабатывает, дает сбой. Какой именно сбой, сразу сказать нельзя, но у Фрейда есть положительно подтверждающее его замечание, которое вы найдёте как в Недомогании культуры, так и в 31-ой лекции Нового цикла лекций по введению в психоанализ.
Таким образом, мы возвращаемся к вопросу об объекте.
1
Напомню вам, что забвение, которому обычно предают понятие объект, оказывается не столь ярко выраженным, если проследить, каким образом фрейдовский опыт и учение располагают и определяют этот объект.
Прежде всего, объект предстаёт в поиске утраченного объекта. Объект - это всегда объект обретённый, искомый, категорически противостоящий понятию автономного субъекта, к которому ведёт представление о дополняющем объекте.
Также я уже подчеркнул в прошлыйраз понятие объекта галлюцинаторного, который появляется на почве тревожащей реальности. Это объект, возникающий в

условиях того, что Фрейд называет первичной (primaire) системой удовольствия. Тогда как в аналитической практике совершенно обратным образом понятие объекта сводится в конечном счёте к реальному. Всё дело в том, чтобы разыскать реальное. Объект возникает уже не на фоне тревоги, а на фоне обыденной реальности, если можно так выразиться, и аналитическое исследование стремится показать, что бояться его нет причин. Страх следует отличать от тревоги.
И, наконец, третья тема, связанная у Фрейда с объектом, это тема взаимообратимости (réciprocité), когда в любых отношениях субъекта с объектом на место связанного термина одновременно заступает субъект. Таким образом, идентификация с объектом лежит в основе любых с ним отношений.
Очевидно, что с этим последним пунктом по большей части и связывает себя практика объектных отношений в современной аналитической технике, в результате чего появилось то, что я назвал бы империализмом идентификации. Поскольку ты можешь идентифицировать себя со мной, то и я могу идентифицировать себя с тобой, и, конечно, из нас двоих именно я к реальности адаптирован лучше, именно я являюсь лучшей моделью. В конечном счёте, идеал анализа сводится к идентификации с собственным Я (moi) аналитика. Подобная предвзятость в обращении с объектными отношениями может привести к крайней степени искажения. Что особенно наглядно проявляет себя в практике навязчивого невроза.
Как думает большинство здесь присутствующих, навязчивый невроз - это структурирующее понятие, которое можно сформулировать примерно следующим образом. Кто такой навязчивый невротик? В целом, это актёр, который играет свою роль и выполняет ряд действий, притворяясь мёртвым. Игра, которой он предаётся, является способом укрыться от смерти. Это жизненная игра, состоящая в том, чтобы показать свою неуязвимость. Для этого он упражняется в дрессировке, необходимой для любого приближения к другому. Мы видим его словно участвующим в своего рода шоу, где он демонстрирует, как далеко может он зайти в этой носящей черты игры, в том числе её иллюзорности, дрессировке - то есть как далеко может зайти в ней другой, маленький другой, его альтер эго, двойник его самого. Игра разворачивается перед Другим, который присутствует на спектакле. Сам же невротик лишь наблюдатель: возможность игры и удовольствие, которое она даёт, в этом и состоят. О собственном месте он, напротив, не знает - в этом состоит его бессознательное. Всё, что он делает, он делает в интересах алиби. Это он способен распознать. Он хорошо отдаёт себе отчёт в том, что игра не разыгрывается в том месте, где находится он сам, и именно поэтому почти ничего из того, что происходит, не является для него по-настоящему важным, но это не означает, что ему известно, откуда он всё это наблюдает.
Кто же в конечном итоге ведёт игру? Мы знаем, что это он сам, но мы можем наделать массу ошибок, если не поймём, где ведётся эта игра. Откуда и возникает понятие объекта, объекта, значимого для этого субъекта.
Было бы совершенно ошибочным полагать, что этот объект мог бы быть описан в терминах дуальных отношений с помощью понятия объектных отношений в том виде, в котором оно было разработано упомянутыми авторами. Вы ещё увидите, к чему это приводит. Ясно, что в этой весьма сложной ситуации понятие объекта даётся не сразу, поскольку он участвует в иллюзорной игре, игре агрессивного возмездия, плутовской игре, которая состоит в том, чтобы по возможности близко подходить к смерти и в то же

время оставаться вне пределов её досягаемости в силу того, что субъект загодя убил желание в себе самом, он его, если можно так выразиться, заранее умертвил.
Понятие объекта бесконечно сложное, и следует постоянно заострять на нём внимание, если мы хотим понимать хотя бы, о каком объекте мы говорим. Мы постараемся применить по отношению к понятию объект планомерную проработку, которая позволит нам определиться с собственным словарём.
Это понятие не то чтобы ускользает, скорее, оно предполагает абсолютное затруднение для определения. Чтобы акцентировать наше сравнение, скажем, что речь идёт о том, чтобы выявить то, что субъект формулирует для этого Другого зрителя, которым он, сам того не зная, и является, и на место которого он, по мере того как устанавливается перенос, помещает нас.
Я прошу вас перечитать случай одержимого у автора, о котором я говорю, и обратить внимание на то, что, по его мнению, представляет собою прогресс анализа. Вы увидите, что понимание объектных отношений в данном случае напоминает то, что могло бы происходить, будь вы в цирке, где на ваших глазах клоуны Футит и Шоколад обмениваются пощёчинами. И вы покинули бы представление из страха попасть под руку, тогда как субъект, напротив, ввязался бы в драку в силу своей агрессивности. И тут появился бы Месье-сама-Учтивость со словами: «Посмотрите, как это всё неразумно, проглотите взаимно свои жезлы, и они окажутся таким образом на нужном месте, вы их интериоризируете». Отличный способ разрешить ситуацию и найти из неё выход.
Это может сопровождаться мотивом по-настоящему бессмертной песенки, известной благодаря N*, своего рода гению. Те, кто не видел его выступлений в парижских кабаре, не смогут уже составить себе представление о сакральной клоунаде, которую разыгрывал он при помощи своей шляпы, о священнодействиях этого персонажа в клоунском колпаке. Это было, казалось, богослужением, ритуалом, своего рода черной мессой; не видевший этого так, возможно, и не поймёт, что представляют собой объектные отношения. На заднем плане их явственно ощущается, что воображаемым объектным отношениям присущ глубоко оральный характер. Считая дуальные отношения реальными, практика не может уйти от законов воображаемого, и конечным итогом этих объектных отношений становится фантазм фаллической инкорпорации.
Почему? Не только потому, что опыт не соответствует нашим представлениям о его идеальном завершении, но и потому, что само это представление ещё более заостряет его парадоксальность, так что любое совершенство дуальных отношений выводит на первый план воображаемый привилегированный объект, называемый фаллосом. В сторону этого понимания я и стараюсь сегодня сподвигнуть вас сделать шаг.
Понятие объектных отношений невозможно не только осмыслить, но и даже подойти к нему, если не учесть фаллос как элемент, я не говорю как элемент-посредник, поскольку это означало бы шаг, который мы пока ещё не сделали, но как третий элемент. Именно это подчёркивает схема, которую я дал в конце прошлого года, обобщая анализ означающего, к которому нас подвело исследование психоза, но также это было и введением в тот материал, который я собираюсь предложить вам в этом году по вопросу объектных отношений. Это наша исходная схема.

| ВООБРАЖАЕМАЯ ТРИАДА |
|---|
 |
Любые воображаемые отношения складываются по модели определённой, действительно фундаментальной связи мать-ребёнок, со всем тем, что есть в ней проблематичного. Конечно, характер этой связи таков, что она создаёт впечатление реальных отношений, и действительно, именно на этот пункт сейчас ориентируется любое рассмотрение аналитической ситуации, в попытке свести её только к истории отношений мать-ребёнок, а также в поиске во всём дальнейшем развитии следов и отражений этой изначальной позиции.
Однако, невозможно даже у авторов, которые приняли это за основу всего аналитического исследования, ввести тот самый воображаемый элемент так, чтобы в центре понятия объектных отношений не проявило себя в качестве ключевого термина то, что мы можем назвать фаллицизмом аналитического опыта. Об этом свидетельствует как опыт, так и развитие аналитической теории; по ходу этой лекции я постараюсь показать вам тупики, которые возникают в результате любых попыток привести этот воображаемый фаллицизм к каким-либо реальным данным. И действительно, когда мы ищем происхождение любой аналитической диалектики, при отсутствии тройки терминов символическое-воображаемое-реальное нам остаётся обратиться только к реальному.
Чтобы подвести черту, сделать последний штрих в моём описании концепции двойственных отношений в рамках определённой ориентации и теоретизации аналитического опыта, я сделаю ссылку на ещё один заголовок в той коллективной работе, о которой я вам говорил.
Когда аналитик вступает в воображаемую игру обсессивного невротика и настойчиво заставляет его признать свою агрессивность, то есть заставляет его
поместить аналитика в дуальные отношения, которые я назвал ранее
взаимообратимыми (réciproques), текст предоставляет в качестве свидетельства происходящего недоразумения описание того, каким образом субъект обходится с ситуацией - он старается никак не выражать свою агрессивность, выказывая лишь лёгкое раздражение, которое могло быть спровоцировано технически обусловленной требовательностью. Автор признаёт, что он постоянно настойчиво возвращает субъекта к теме агрессивности, как если бы она была центральной темой. Автор многозначительно добавляет, что, как хорошо известно, раздражение и ирония относятся к классу агрессивных проявлений. Так ли очевидно, что раздражение характерно для агрессивных отношений? В то же время хорошо известно, что агрессия может быть вызвана любым другим чувством, и вовсе не исключено, что, например, чувство любви может быть основано на агрессивной реакции. Касательно того, что ироническая реакция является по своей природе агрессивной, мне кажется, это не соответствует общему мнению: будучи далёкой от агрессивной реакции, ирония прежде

всего представляет собой способ поставить вопрос. Если и есть элемент агрессивности, то он в структурном плане вторичен по отношению к элементу вопроса.
Это показывает вам, к упрощению какого плана приводит такая концепция объектных отношений, о которой с настоящего момента я решил больше никогда с вами не говорить.
Итак, мы подошли к фундаментальному вопросу, с которого нам следует начать, к которому нужно будет вернуться, а также он будет тем вопросом, на котором мы закончим. Вся двусмысленность вопроса, который возникает по поводу объекта и обращения с ним в анализе, формулируется следующим образом: объект реален или нет?
2
Такую формулировку подсказывает нам и та проработанная терминология символического, воображаемого и реального, которой пользуемся мы здесь, и непосредственное интуитивное понимание.
Когда вам рассказывают об объектных отношениях с точки зрения доступа к реальному, такого доступа, который должен открыться по завершении анализа, что вам само собой приходит в голову? Объект реальный или нет? То, что находится в реальном, это объект?
Это стоит уточнить. Даже не вдаваясь в суть проблематики фаллицизма, которую я сегодня затрагиваю, можно отметить - поскольку это действительно отчётливо проступающий именно в аналитическом опыте момент - что вся диалектика индивидуального развития, как и вся диалектика анализа, вращается вокруг главенствующего объекта, которым является фаллос. Далее мы более подробно рассмотрим, почему не стоит путать фаллос и пенис. В 1920-1930-ые годы всё аналитическое сообщество угодило в огромную неразбериху вокруг понятия фаллицизма и вопроса фаллической стадии; дело было в том, чтобы произвести различение пениса как реального органа, с поддающимися определению в некоторых реальных координатах функциями, и фаллоса в его воображаемой функции. Одного этого было бы достаточно, чтобы имело смысл озадачить себя вопросом, что именно понятие объекта может подразумевать.
Нельзя сказать, что фаллос не является в аналитической диалектике превалирующим объектом, причём объектом, о котором у индивида есть некоторое представление. Хотя никогда прямо не говорилось, что выделение этого объекта мыслимо только в воображаемом плане, именно это явно прочитывается как в каждой строке, написанной в определённый момент самим Фрейдом, так и в том, чем ответили ему те или иные аналитики, в частности, Хелен Дойч, Мелани Кляйн, Эрнст Джонс. Понятие фаллицизма предполагает освобождение от категории воображаемого.
Но перед тем как продвинуться дальше, зададимся вопросом о том, какие позиции занимают по отношению друг к другу объект и реальное. Существует несколько способов подойти к этому вопросу, потому что как только мы приближаемся к нему, мы понимаем, что реальное имеет более чем один смысл. Я полагаю, некоторые из вас сейчас не преминули вздохнуть с облегчением - наконец он расскажет нам о пресловутом реальном, которое до сих пор оставалось в тени. И в самом деле, не стоит этому удивляться, ведь реальное располагается на пределе нашего опыта.

Эта позиция по отношению к реальному получает весьма удовлетворительное объяснение в плане нашего опыта, который протекает в абсолютно искусственных условиях, вопреки тому, что рассказывают, когда нам представляют его как ситуацию очень простую. Тем не менее мы можем иметь дело с реальным, только теоретизируя. Но что мы хотим сказать, когда ссылаемся на реальное? Маловероятно, что мы все имеем о нём одинаковое представление, и выглядит правдоподобным, что все мы можем допустить определённые различия или принципиальные расхождения, когда прибегаем к терминам реальное или реальность, если внимательно рассмотрим, в каком смысле они употребляются.
Когда мы говорим о реальном, мы можем иметь в виду разные вещи. Прежде всего то, что действительно происходит. Это понятие подразумевается в немецком термине Wirklichkeit (действительность), обладающим преимуществом распознания в реальности функции, которую французский язык позволяет выделить с трудом. То, что включает в себя всякую возможность (воз)действия Wirkung. Это совокупность всего механизма.
Здесь я сделаю лишь несколько попутных замечаний, чтобы показать, насколько психоаналитики являются узниками категорий по-настоящему чуждых всему тому, к чему их практика вообще-то, как мне кажется, должна была бы их подводить, проще говоря, в отношении самого понятия реальности. Если рассуждать в духе механикодинамической традиции, которая восходит к попытке Ламеттри и Гольбаха разработать в XVIII-ом веке научную концепцию человека-машины
(L'homme-machine), предполагавшую, что всё происходящее на уровне психической жизни обязательно должно быть связано с чем-то материальным, может ли подобное размышление представлять малейший интерес для аналитика? - в то время, как сам принцип осуществления его функции включён в последовательность эффектов, которые, если он аналитик, он рассматривает как принадлежащие их собственному порядку. Если следовать Фрейду, если иметь в виду суть системы, то перспектива, которая должна приниматься в расчёт, является перспективой энергетической.
Материя, Stoff, исконная субстанция настолько вошла в медицинское мышление, что мы, в отличие от других, совершенно безосновательно считаем нужным утверждать, что нам кажется, будто мы говорим что-то содержательное, когда совершенно необоснованно, вслед за другими медиками, полагаем в основу всего, что происходит в анализе, органическую реальность. И Фрейд об этом говорил, нужно только обратить внимание на то, где и для чего он это сказал. Он придавал этой реальности совершенно иное значение. Отсылка к органической основе не отвечает у аналитиков ничему иному, как нужде в перестраховке, которая толкает их на то, чтобы непрестанно возвращаться к этому пережитку, как будто стучать по дереву. В конце концов, мы запускаем только поверхностные механизмы, в итоге всё должно быть сведено к тому, о чём мы, возможно, однажды узнаем, к исконной материи, которая лежит в основе всего, что происходит. Для аналитика, если только он допускает действенность своей практики, это абсурд.
Позвольте мне привести простой пример, чтобы вам это показать. Представьте, что некто, работающий на гидроэлектростанции, расположенной посреди течения большой реки, например, Рейна, рассказывая о том, что происходит внутри огромной машины, предавался бы мечтам о том времени, когда пейзаж был девственным и русло Рейна было полноводным. Однако это именно машина, которая работает по принципу

преобразования некой энергии в электрическую силу, впоследствии распределяемую и доступную потребителям. То, что аккумулируется в машине, прежде всего наиболее тесно связано с машиной. Нам никак не пригодится рассказ о том, что энергия уже некогда существовала в потенциальном виде в течении реки. Строго говоря, это ничего не значит, поскольку энергия в этом случае становится для нас интересной только с момента, когда она накоплена, только с момента, когда машины приступили к работе. Конечно, они приводятся в действие течением реки, но верить, что течение реки есть изначальное состояние энергии, путать его с понятием типа маны, которое представляет вещь совершенно иного порядка, нежели энергия и даже сила; старательно пытаться разыскать в том, что пребывает от вечности, постоянство того, что аккумулируется в итоге как элемент возможного Wirkung, Wirklichkeit (действия, действительности) -такая идея может посетить только напрочь дурную голову.
То, что вынуждает нас путать Stoff, или примитивную материю, или импульс, или поток, или тенденцию с тем, что реально задействовано в аналитической реальности, представляет собой не что иное, как неверное понимание (méconnaissance) Wirklichkeit (действительности) символического. Конфликт, диалектика, организация, структуризация элементов, которые формируются и выстраиваются в композицию, придают тому, о чём идёт речь, совершенно иное энергетическое значение. Сохранять потребность говорить о некой другой реальности, якобы расположенной где-то в другом месте, нежели в самом действии, значит заблуждаться (méconnaître) относительно подлинной реальности, в которой мы пребываем. В данном случае я действительно могу квалифицировать подобную отсылку как суеверие. Это своего рода пережиток, называемый органистическим, который не может иметь никакого смысла в аналитической перспективе. Я покажу вам, где Фрейд явно даёт понять, что это больше не имеет никакого смысла.
В анализе применяется другое, гораздо более важное понимание реальности, и нет никакой надобности иметь дело с предыдущим. Реальность фактически фигурирует в двойном принципе: принципе удовольствия и принципе реальности. Речь там идёт о чём-то совершенно другом, поскольку принцип удовольствия действует образом не менее реальным, чем принцип реальности, я даже думаю, что анализ был создан для того, чтобы это показать. Термин реальность используется здесь совсем иначе.
Здесь имеет место весьма поразительный контраст. Это другое применение, которое оказалось поначалу так плодотворно и позволило ввести в порядок психического термины первичной и вторичной систем, по мере развития анализа каким-то загадочным образом превратилось в нечто, наиболее проблематичное. Чтобы оценить дистанцию между тем, как использовалось противопоставление двух принципов поначалу, и тем, к чему мы теперь незаметно соскользнули, нужно вспомнить, как делаем мы это время от времени, о ребёнке, сказавшем, что король голый. Кто он, этот ребёнок - дурак? Гений? Шут? Чудовище? Никто об этом никогда и ничего не узнает. Ясно одно - он возвращает нам некоторую свободу.
Что ж, такое время от времени происходит. Мы видим, как аналитики обращаются порой к своего рода примитивной интуиции и обнаруживают, что всё ими сказанное ничего не объясняет. Так произошло с Месье Винникоттом в небольшой статье, где он рассказывает о том, что называет transitional object (переходным объектом) - передадим это как переход объекта или феномен переходности.

Винникотт обращает внимание на то, что нас всегда больше интересует функция матери и что в вопросе восприятия ребёнком реальности мы принимаем её в качестве абсолютно решающей. То есть в диалектической и безличностной оппозиции двух принципов мы заменили принцип реальности и принцип удовольствия на актёров. Несомненно, это весьма идеальные субъекты, несомненно, это скорее своего рода представление кукольного театра или воображаемая постановка, но именно с неё мы начинаем. Мы отождествили принцип удовольствия с определёнными объектными отношениями, а именно с отношениями с материнской грудью, тогда как принцип реальности мы отождествили с тем фактом, что ребёнок должен уметь обходиться без неё.
Винникотт очень точно указывает, при каких условиях всё будет хорошо -поскольку это важно, чтобы всё было хорошо, и если происходит что-то плохое, то мы имеем дело с последствиями ранней аномалии, фрустрации, которая становится ключевым термином нашей диалектики. Винникотт подчёркивает, что в целом для того, чтобы всё было хорошо, а именно чтобы ребёнок не был травмирован, требуется, чтобы мать всегда оказывалась рядом в нужный момент, то есть в момент бредоподобной галлюцинации ребёнка давала ему отвечающий ей реальный объект. Поэтому в идеальных отношениях мать-ребёнок изначально нет никакой возможности провести различие между галлюцинацией материнской груди, которая возникает под действием принципа первичной системы в соответствии с нашим представлением о нём, и реальным объектом, о котором идёт речь.
Если всё идёт хорошо, то у ребёнка нет никакой возможности отличить то, что принадлежит порядку удовлетворения, основанного на галлюцинации по принципу, связанному с работой первичной системы, от усвоения реального, которое его наполняет и действительно удовлетворяет. Поэтому речь идёт о том, что мать постепенно обучает ребёнка проходить через фрустрации и в то же время воспринимать в форме некоторой начальной напряжённости разницу между реальностью и иллюзией. Эта разница может быть постигнута только на пути избавления от иллюзий, когда время от времени реальность не совпадает с порождаемой желанием галлюцинацией.
Просто Винникотт главным образом указывает на то, что в эту диалектику совершенно не укладывается возможность развить что бы то ни было, выходящее за рамки понятия объекта, строго соответствующего первичному желанию. Предельное разнообразие объектов, как инструментальных, так и фантазматических, которые вмешиваются в развитие области человеческого желания, остаётся в рамках такой диалектики немыслимым, пока мы воплощаем её в двух реальных персонажах: матери и ребёнке. Во-вторых, из опыта нам известен тот факт, что даже у совсем маленького ребёнка мы наблюдаем появление тех объектов, которые Винникотт назвал объектами переходными, потому что мы не можем сказать, где они располагаются в рамках упрощённой и воплощённой диалектики: на стороне галлюцинации или реального объекта.
Все объекты детской игры являются переходными объектами. Строго говоря, ребёнку не обязательно давать игрушки, он сделает их из всего, что попадёт под руку. Это и есть переходные объекты. По их поводу не возникает вопроса, являются ли они более субъективными или более объективными, они имеют другую природу. Хотя Винникотт себе такого не позволяет, мы назовём их попросту воображаемыми.

В очень нерешительных, исполненных манёврами и путаницей работах мы видим, тем не менее, что к этим объектам всегда обращаются авторы, которые ищут объяснение такому факту, как существование сексуального фетиша. Им приходится делать всё возможное, чтобы найти общие моменты между объектом ребёнка и фетишем, который заступает на первый план опредмеченных (о^ес1а1ез) требований в целях главного для субъекта удовлетворения, а именно удовлетворения сексуального. Они шпионят за малейшими предпочтениями ребёнка в наборе его объектов, платком матери, краешком простыни, какой-то частичкой реальности, случайно попавшей в зону его досягаемости, за тем, что появляется в течение переходного периода, который, будучи названным так, тем не менее является не промежуточным, но непрерывным периодом развития ребёнка. В результате они практически не различают два типа объекта и не задаются вопросом о дистанции, которая может присутствовать между эротизацией объекта-фетиша и первым появлением объекта как объекта воображаемого.
То, что в рамках такой диалектики оказывается утраченным, вызывает необходимость в различных формах восполнения, на которые я обратил внимание, ссылаясь на статью Винникотта. Дело в том, что одной из главных внутренних пружин аналитической практики было с самого начала понятие утраты объекта.
3
В нашем практическом применении аналитической теории мы никак не можем обойтись без понятия нехватки объекта как центрального. Это не обратная сторона, но сама основа отношений субъекта с миром.
С самого начала анализ, анализ невроза, исходит из такого парадоксального, можно сказать, ещё не проработанного полностью понятия как кастрация.
Мы полагаем, что мы постоянно говорим о ней, как это происходило во время Фрейда. Это заблуждение. Мы говорим о ней все меньше и меньше, и в этом наша ошибка. Гораздо больше мы говорим о фрустрации. Есть ещё один, третий термин, к обсуждению которого мы приступаем и убедимся в дальнейшем, насколько он необходим, и увидим, каким образом и по каким причинам мы его вводим - это понятие лишения.
Это три совершенно неэквивалентные друг другу вещи. Они различны. Я сделаю несколько простых замечаний и постараюсь сначала дать вам понять, что они собой представляют.
Начнём с того, что нам наиболее знакомо, - с понятия фрустрации.
В чём разница между фрустрацией и лишением? Оттолкнёмся от этого, поскольку Джонс вводит понятие лишения и говорит, что в психике эти два понятия дают о себе знать одинаковым образом. Это очень смелое предположение. Ясно, что если мы прибегаем к понятию лишения, то происходит это постольку, поскольку фаллицизм, то есть нужда в фаллосе, является, как говорит Фрейд, главным моментом всей воображаемой игры того конфликтного процесса, который описывает анализ субъекта. Только относительно реального, как чего-то совершенно отличного от воображаемого, можно говорить о лишении. Нужда в фаллосе возникает не по этой причине. В действительности наиболее проблематичным выглядит то, каким образом существо, выступающее в качестве цельного, может чувствовать себя лишённым чего-то такого,

чего по определению у него нет. Поэтому мы скажем, что лишение, будучи по своей природе нехваткой, является нехваткой реальной. Это дыра (un trou).
Когда мы обсуждаем фрустрацию, мы используем понятие ущерба (dam). Это повреждение ( lésion ), урон ( dommage ) - понятие, которое в том смысле, в котором мы привыкли его применять, и в соответствии с тем, как мы его используем в нашей диалектике, определяется не иначе как воображаемый ущерб. Фрустрация - это, по сути, область притязания (revendication). Она касается какой-то желанной и неуловимой вещи, желание которой никак не связано с какой бы то ни было перспективой удовлетворения и обретения. Сама по себе фрустрация является областью необузданных и беспорядочных требований. Сутью понятия фрустрации как одной из категорий нехватки является воображаемый ущерб. Фрустрация расположена в плане воображаемого.
Принимая во внимание эти два замечания, нам будет легче обнаружить, как обстоит дело с кастрацией, сущность которой, Wesen, оказалась в гораздо большей степени оставленной и заброшенной, нежели проработанной.
Кастрация была введена Фрейдом в абсолютной координации с понятием первичного закона, того, что происходит от фундаментального закона запрета на инцест и структуры Эдипа. Вот в чём, стоит нам лишь поразмыслить об этом, состоит смысл того, что было изначально высказано Фрейдом. Это было чем-то вроде головокружительного кульбита, когда Фрейд установил настолько парадоксальное понятие как кастрация в центр решающего, образующего, главного кризиса, коим является Эдип. Мы можем восхититься этим только задним числом, так как теперь, как это ни удивительно, мы делаем всё, чтобы об этом не вспоминать. Кастрация может рассматриваться только как категория символического долга.
Символический долг, воображаемый ущерб и реальное отсутствие, дыра - вот то, что позволяет нам охарактеризовать места элементов, которые мы называем тремя терминами нехватки объекта.
Конечно, некоторым может показаться, что это непригодно для применения без некоторых оговорок. Они будут правы, поскольку для того, чтобы это было справедливым, необходимо строго придерживаться центрального понятия о категориях нехватки объекта. Я говорю о нехватке объекта, а не об объекте, поскольку, оказавшись на уровне объекта, мы зададим себе вопрос: чем является объект нехватки в этих трёх случаях?
Именно на уровне кастрации это наиболее очевидно. Совершенно очевидно, что в нашем аналитическом опыте то, что является нехваткой на уровне кастрации как организованной символическим долгом - тем, что санкционируется законом и, в свою очередь, даёт ему опору и его оборотную сторону, наказание - не является реальным объектом. Только в законе Ману говорится, что тот, кто переспит с матерью, должен отсечь себе гениталии и, держа их в руке, идти прямо на запад, пока не умрёт. До сих пор мы чрезвычайно редко наблюдали подобное и только в тех случаях, которые не имеют к нашему опыту никакого отношения и кажутся нам заслуживающими объяснений, принадлежащих к совсем другому порядку, нежели механизмы структурирования и нормализации, обыкновенно применяемые в нашем опыте.
Объект является воображаемым. Кастрация, о которой идёт речь, всегда касается воображаемого объекта. Именно эта общность между воображаемым характером нехватки во фрустрации и воображаемым характером объекта кастрации, а также тот факт, что кастрация является нехваткой воображаемого объекта, убедили нас в том, что

фрустрация облегчит нам понимание проблемы. Так вот, нехватка, объект и ещё один термин, который мы обозначим как агент, совершенно не обязательно должны быть расположены в этих категориях на одном уровне. В действительности объект кастрации является воображаемым объектом, и именно это должно заставить нас задуматься о том, что такое фаллос, для определения которого потребовалось так много времени.
С другой стороны, объект фрустрации совершенно точно по своей природе является объектом реальным, притом что фрустрация носит воображаемый характер. Это всегда объект реальный, которого не хватает, например, ребёнку, привилегированному субъекту нашей диалектики фрустрации. Это помогает нам понять положение, которое требует немного более метафизической обработки терминов, нежели мы привыкли, когда ссылаемся на упомянутые ранее критерии реальности; объект лишения - это всегда объект символический.
Это совершенно очевидно, ведь каким ещё образом нечто может отсутствовать на своём месте, не быть в том месте, где его точно нет? С точки зрения реального говорить здесь абсолютно не о чем. Всё, что есть реальное, всегда и в обязательном порядке находится на своём месте, даже когда что-то идёт не так. Реальное вы носите на подошве своих башмаков, вы сколь угодно можете его перетряхивать, оно не станет от этого меньше, также как наши тела после взрыва атомной бомбы останутся на своих местах - в реальном найдётся место для каждого кусочка. Отсутствие чего-либо в реальном является чисто символическим. Объект нехватки имеет место лишь постольку, поскольку мы законодательно определили, что он должен быть там. Лучший пример этому следующий - представьте, что вы просите книгу в библиотеке. Вам отвечают, что она отсутствует на своём месте, она может стоять прямо по соседству, тем не менее принципиально она отсутствует на своём месте, по принципу символического учёта она невидима. Это означает, что библиотекарь живёт всецело в символическом мире. Когда мы говорим о лишении, речь идёт о символических объектах и ни о чём другом.
Это может показаться немного абстрактным, но вы увидите, насколько нам это впоследствии пригодится, чтобы обнаружить уловки, благодаря которым мы даём ложным проблемам надуманные решения. Мы предпринимаем, вы в этом убедитесь, отчаянные попытки разобраться в том, с чем не можем смириться, в том, что пути развития так называемой сексуальности у мужчины и у женщины совершенно различны, пытаясь свести два термина к единому принципу. Тогда как, возможно, с самого начала есть что-то такое, что позволяет простым и ясным образом объяснить, почему существует большая разница в развитии двух полов.
Я хочу только добавить несколько слов о понятии, которое впоследствии также получит свою область применения, это понятие агента. Я понимаю, что делаю здесь скачок, который обязывает меня вернуться к воображаемой триаде матери, ребёнка и фаллоса, но у меня нет времени, чтобы сделать это. Я просто хочу дополнить картину. Агент также играет свою роль в нехватке объекта.
Обсуждая фрустрацию, мы исходим из того, что именно мать играет роль агента. Но является этот агент символическим, воображаемым или реальным? Кто является агентом кастрации? Он символический, воображаемый или реальный? Кто является агентом лишения? Действительно ли нет никакого измерения реального существования, как я об этом ранее сказал?
Эти вопросы заслуживают по крайней мере того, чтобы их поставили. Я оставляю их в конце этой встречи открытыми. Поскольку совершенно ясно, что если начать

отвечать сейчас, то сделать это придётся очень формальным образом, который ни в коем случае не будет достаточно удовлетворительным для того пункта нашего движения, которого мы достигли на данный момент, потому что понятие агента выходит за пределы сегодняшнего разговора, который в первую очередь касался вопроса отношений объекта и реального. Мы оставались в рамках категорий воображаемого и реального, тогда как ясно, что агент принадлежит другому порядку.
Тем не менее вы видите, что характеристика агента на этих трех уровнях является тем вопросом, к которому мы подходим с началом построения фаллоса.
28 ноября 1956

глава 3 Означающее и Святой Дух
Образ тела и его означающее
Машинное производство фрейдовского Оно Означающее, означаемое и смерть Означающая трансмиссия объекта Его воображаемая рассогласованность
Вчера вечером вы прослушали доклад Мадам Дольто на тему образа тела. В сложившихся обстоятельствах я смог высказаться по этому поводу только в общих чертах. Чтобы говорить более подробно, мне пришлось бы заниматься тем же, что и здесь, то есть обучать. Это совершенно другая работа, которую я ненавижу исполнять в русле научного подхода, поэтому я не сожалею о том, что мне не довелось лишний раз себя этим утруждать.
Если мы возьмём образ тела в том виде, в котором он был представлен нам вчера вечером, и рассмотрим его с точки зрения этого семинара, то в первую очередь будет заметна одна довольно очевидная вещь, и я думаю, что вы все её хорошо понимаете, -образ тела не является объектом.
Если мы и говорили вчера об объекте, то с той целью, чтобы попытаться определить стадии развития, и действительно, понятие объекта играет в этом отношении важную роль. Однако образ тела не только не является объектом, но и не может им стать. Это очень простое заключение, которое никем не было сформулировано - разве что в косвенной форме - как раз и позволит вам уточнить статус образа тела среди других воображаемых формаций.
В аналитическом опыте мы имеем дело с объектами, в отношении которых мы можем поднять вопрос об их воображаемой природе. Я не говорю, что они по природе своей являются воображаемыми, но что это тот центральный вопрос, который мы задаём себе, чтобы перейти на уровень клиники, которая интересует нас сейчас в связи с понятием объекта. Это не означает ни того, что мы склоняемся к гипотезе о воображаемом объекте, ни того, что мы исходим из неё, она для нас не более чем повод поставить вопрос.
В том виде, в котором он предстаёт в аналитическом опыте, этот, возможно, воображаемый объект, вам уже известен. Чтобы зафиксировать ход мысли, я уже привёл два примера и сказал, что хотел бы на них сосредоточиться, это фобия и фетиш.
Вы ошибаетесь, если полагаете, что эти объекты уже поведали все свои секреты. Это далеко не так. Можно предаваться неким упражнениям, кульбитам, пародиям, фантазматическим экзерсисам, и все равно остается довольно загадочным то обстоятельство, что в определённые периоды жизни детей мальчики и девочки обязательно внушают себе страх перед львами, хотя нельзя сказать, чтобы львы особенно часто встречались им в жизни. Затруднительно представить это в форме изначальной предрасположенности, которая могла бы быть вписанной, например, в образ тела. Можно этим озадачиться, можно всё, но всё равно будет какой-то остаток. Именно такие не исчерпанные научными объяснениями остатки всегда оказываются наиболее плодотворными для рассмотрения, во всяком случае мы точно ничего не выигрываем, отбрасывая их.

К тому же, как вы могли заметить, число сексуальных фетишей было довольно ограниченным. Почему? Если сбросить со счетов обувь, которая исполняет здесь столь удивительную роль, что можно было бы задаться вопросом, как так происходит, что ей не уделяется больше внимания, то вряд ли вы сможете найти что-то, кроме подвязок, носков, бюстгальтеров и прочего - всего того, что довольно близко прилегает к коже. Главное - это обувь. Как тогда можно было стать фетишистом во времена Катулла? Перед нами ещё один такой остаток.
Вот те объекты, о которых мы спрашиваем, не являются ли они воображаемыми. Как понимать их кинетическое значение в экономике либидо? Может ли оно принадлежать порядку происхождения, то есть в конечном итоге эктопии, по отношению к определённой типичной взаимосвязи? Возникают ли эти объекты только лишь в типичной последовательности того, что называется стадиями?
Как бы то ни было, объекты - если это вообще объекты - с которыми вы имели дело вчера вечером, нас сильно смущают. Принимая во внимание возникший на собрании интерес и значительность дискуссии, тема притягательная. Как мы услышали, в первом приближении речь идёт о конструкциях, которые упорядочивают, организуют, формулируют определённое переживание. Но наиболее поразительно то, каким образом оперирует ими - по поводу эффективности такого применения ни на мгновение не возникает сомнения - докладчица, в данном случае Мадам Дольто. Определённо, именно в этом обнаруживает себя как факт задействованности понятий означаемого и означающего, так и то, что может быть осмыслено только исходя из этого. Этот объект, или полагаемый таковым образ, Мадам Дольто использует как означающее. В её докладе образ вступает в игру именно как означающее, некоторую вещь она представляет именно как означающее. Это особенно очевидно проявляется в том, что никакой из этих образов не поддерживается самим собой. Именно посредством связи с другим образом каждый из них обретает своё кристаллизирующее, ориентирующее значение, которое внедряется в субъекта, о котором идёт речь, то есть в ребёнка.
Таким образом, мы снова возвращаемся к понятию означающего.
1
Поскольку мы занимаемся здесь обучением и нет ничего более важного, чем недопонимание, то для начала я хотел бы подчеркнуть, что - я имел возможность прямо и косвенно в этом убедиться - некоторые вещи, которые я сказал в прошлый раз, когда говорил о понятии реальности, остались непонятыми.
Я сказал, что психоаналитики имели настолько мифическое представление о реальности, что оно примкнуло к тому понятию реальности, которое на протяжении десятков лет препятствовало прогрессу психиатрии, и мы могли бы ожидать, что именно психоанализ избавит нас от него. Это препятствие возникает вместе с намерением искать реальность в чём-то, что могло бы обладать более материальным качеством. Для иллюстрации я привел пример гидроэлектростанции и сказал, что это можно представить себе так, как если бы некий специалист, имеющий дело с предотвращением различных происшествий, знающий толк в поломках машинной установки и её ремонте, считал бы возможным и обоснованным обращаться в этих целях к примитивной материи, которая приводит её в действие, в данном случае к падающей воде.

На что мне сказали: «Что вы собираетесь там искать? Считайте, что инженер имеет дело только с водопадом. Вы говорите об энергии, аккумулированной этой установкой, но она является не чем иным, как преобразованной потенциальной энергией, изначально заданной в том месте, где мы построили машинную установку. Чтобы посчитать её количество, инженеру достаточно измерить разницу, на которую упадёт уровень поверхности воды. Всё дело в потенциальной энергии. Мощность гидроэлектростанции определяется в уже изначально заданных условиях».
Это возражение требует нескольких комментариев. Во-первых, в разговоре о реальности я начал с того, что определил её через Wirklichkeit, через действенность системы, в данном случае системы психической. С другой стороны, я хотел уточнить для вас мифический характер определённой концепции реальности и воспользовался для этого примером машинной установки. Я не успел изложить вам третью точку зрения, с которой можно представить перспективу реального с акцентом на то, что было до того (ce qui est avant).
Мы постоянно имеем с этим дело. Конечно, это правомочный способ рассмотреть реальность, связав её с тем, что было до того, как было установлено символическое функционирование, и в этой самой перспективе расположены наиболее веские основания миража, на котором зиждется высказанное мне возражение. Я никоим образом не отрицаю того, что нечто могло быть до того. Например, до того, как случилось Я (Je), было Оно ($а). Дело в том, что такое это Оно.
Мне говорят, что в случае с машинной установкой тем, что было до того, является энергия. Так я ничего другого и не сказал. Но между энергией и природной реальностью - целый мир. Энергия может приниматься в расчёт только начиная с того момента, когда вы её измерите. И задумались вы о том, чтобы измерять её, только с того момента, когда заработали машинные установки. Именно в связи с их работой вампришлось проделать множественные расчеты, в число которых действительно входит энергия, попадающая в ваше распоряжение. Другими словами, понятие энергии появляется в условиях необходимости производящей цивилизации осуществлять расчёты - какую работу нужно произвести, чтобы получить возможный выигрыш в эффективности?
Эту энергию вы всегда замеряете между двумя контрольными значениями. Нет абсолютной энергии резервуара природного происхождения, есть энергия этого резервуара по отношению к более низкому уровню, на который спускается жидкость в потоке, когда вы создаёте для этого условия. Но само по себе устройство для водостока не позволит вам рассчитать энергию, вы сможете это сделать только с учётом перепада высоты.
Но вопрос не в этом. Дело в том, что есть определённые природные условия, которые необходимо учитывать для того, чтобы появился малейший интерес к расчёту энергии. Любая разница уровня в течении воды, будь то ручеёк или даже капли, может обладать некоторым значением потенциальной энергии, только это никому не интересно. Нужно, чтобы определенные природные материалы, участвующие в работе машины, оказались представлены в привилегированной, по сути дела, означающей форме. Мы возводим машинную установку только там, где что-то в природе предстает как пригодное к использованию, как значимое и в данном случае как измеримое. Нужно встать на путь, что ведёт к системе, которую следует рассматривать как означающее. Это не подлежит сомнению.

Для нас важно то сопоставление с психикой, которое я предпринял. Рассмотрим, в чём оно заключается.
Фрейд, руководствуясь энергетической моделью, формулирует понятие, которое нам следует применять в анализе в сопоставлении с понятием энергии. Это понятие, точно так же, как и понятие энергии, является совершенно абстрактным и состоит в неоправданном логическом допущении, позволяющем развивать определённый ход мысли. Только оно позволяет предположить, опять же виртуально, эквивалентность, существование общего измерения явлений, представляющихся совершенно разнородными. Речь идёт о понятии либидо.
И нет ничего менее ориентированного на материальность, чем понятие либидо в психоанализе. Поразительно, что в Трёх очерках Фрейд в первый раз, в 1905 году, заговорил о психической основе либидо в терминах, к которым дальнейшему развитию в теории сексуальных гормонов почти нечего оказалось добавить. Но в этом нет ничего удивительного. Обращение к химической основе процесса не имеет никакого смысла в разговоре о либидо. Это говорит сам Фрейд - одно это либидо или их несколько, или есть одно женское, а одно мужское, может два или три для каждого пола, или они взаимозаменяемые, или существует лишь одно-единственное, что всего вероятней, - не важно, поскольку в любом случае аналитический опыт убеждает нас, что есть только одно единственное и уникальное либидо. То есть Фрейд сразу же представляет либидо в плане, если можно так выразиться, нейтральном, каким бы парадоксальным этот термин ни показался.
Либидо - это то, что связывает друг с другом существа в их взаимодействии, что придаёт им, например, активную или пассивную позицию - но, говорит нам Фрейд, этому либидо в любом случае присущи эффекты активности, даже в пассивной позиции, потому что нужно быть весьма активным, чтобы освоить пассивную позицию. С учётом этого факта Фрейд указывает на то, что либидо всегда проявляет себя в действенной и активной форме, в аспекте, который роднит его скорее с мужской позицией. Фрейд доходит до утверждения, что мы располагаем только мужской формой либидо.
И насколько это было бы парадоксальным, если бы речь не шла просто-напросто о понятии, которое существует только для того, чтобы позволить нам описать связь особого типа, возникающую на определённом уровне, который, собственно говоря, является уровнем воображаемого, где поведение одного живого существа в присутствии другого живого существа обусловлено узами желания, стремления; либидо -важнейший инструмент, которым пользуется фрейдовская теория для осмысления любых проявлений сексуальности.
Мы привыкли рассматривать Es как инстанцию, в наибольшей степени связанную с психическими тенденциями (tendances), инстинктами (instincts), либидо. Так что такое Es? С чем мы можем сравнить его в машинной установке? С самой машинной установкой, об устройстве которой абсолютно ничего не известно. Если некий персонаж, далёкий от техники, увидит её, он подумает, что, вероятно, некий демон течения предаётся внутри шалостям и трансформирует воду в свет или силу.
Es является в субъекте тем, что посредством сообщения от большого Другого способно обратиться в Я (Je). Вот наилучшее определение.
Если анализ нечто доносит до нас, то как раз это: Es не является ни грубой реальностью, ни только лишь тем, что было до того; Es уже организовано и артикулировано так же, как организовано и артикулировано означающее.

Это также справедливо и для того, что производит машина. Вся сила в ней может быть трансформирована, с той лишь разницей, что она не только трансформируется, но также может быть и накоплена. Поэтому важное значение имеет здесь тот факт, что речь идёт о гидроэлектростанции, а не просто о гидромеханической установке, например. Конечно, вся эта энергия была и до того, тем не менее никто не оспорит, что строительство гидроэлектростанции ощутимо меняет не только ландшафт, но и реальное.
Машинная установка появилась не из-за вмешательства Святого Духа. Вернее, именно из-за вмешательства Святого Духа она и появилась, и вы ошибаетесь, если подвергаете это сомнению.
Именно для того, чтобы напомнить вам о присутствии Святого Духа, абсолютно необходимого для продвижения в нашем понимании анализа, я предлагаю вам теорию означающего и означаемого.
2
Подойдём к этому вопросу на другом уровне, на уровне принципа реальности и принципа удовольствия.
Каким образом противопоставляются две системы, первичная и вторичная? Принимая во внимание только то, что определяет их для внешнего наблюдателя, можно сказать следующее: происходящее на уровне первичной системы регулируется принципом удовольствия, то есть тенденцией возвращения к покою, тогда как происходящее на уровне системы реальности определяется тем, что заставляет субъекта в реальности - как мы называем её, внешней - идти в обход. Так вот, в этих определениях ничто не создаёт ощущения того, что следует из конфликтного и диалектического применения этих понятий на практике, в вашем конкретном ежедневном опыте. Вы всегда прибегаете к использованию этих систем, лишь снабдив их каким-то своим, особенным указателем, который для каждого является его собственным парадоксом, часто ускользающим, но всегда отражающимся на практике.
Парадокс принципа удовольствия состоит в следующем. Несомненно, происходящее на его уровне представляется связанным с вышеуказанным законом возвращения к покою, тенденцией возвращения к покою. Тем не менее Фрейд ввёл и чётко сформулировал понятие либидо именно по той причине, что удовольствие, Lust, имеет двусмысленное значение в немецком, он подчёркивает, что это одновременно и удовольствие, и вожделение, то есть состояние как успокоения, так и эрекции. Эти два термина выглядят противоречащими друг другу, что не мешает им с успехом переплетаться в опыте.
Не меньший парадокс обнаруживается на уровне реальности. Как и в принципе удовольствия, где присутствует, с одной стороны, возврат к покою, но с другой, вожделение, также существует не только та реальность, о которую мы набиваем шишки, но и реальность манёвра, обходного пути.
Это приобретёт гораздо более ясные очертания, если мы поставим в соответствие с существованием двух принципов два термина, которые их свяжут и позволят сохранить их диалектическое взаимодействие, а именно два уровня речи, которые отражены в понятиях означающего и означаемого.

Я уже установил в своего рода параллельную суперпозицию поток означающего, то есть конкретную, например, речь, и поток означаемого, в виде и в качестве которого предстаёт непрерывность потока переживаний в субъекте и между субъектами.
СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЕЙ
------------ означающее
------------- означаемое
Ещё большая ценность такого представления заключается в том, что невозможно что-либо понять не только в речи и языке, но и в феноменах аналитического опыта, если хотя бы не допустить принципиальную возможность постоянного скольжения означаемых под означающими и означающих над означаемыми. Ничто в аналитическом опыте не объясняется иным образом, кроме как посредством этой основополагающей схемы.
В соответствии с этой схемой, означающее одной вещи может в любое мгновение стать означающим другой вещи, и всё то, что представлено в вожделении, психической тенденции, либидо субъекта всегда несёт на себе отпечаток означающего. Это не исключает, что во влечении или вожделении нет чего-то другого, никак не отмеченного отпечатком означающего. Означающее вводится в естественное движение, в желание или в demand. Последний термин используют в английском языке для выражения примитивного аппетита в смысле требования, хотя аппетит как таковой не отмечен законами означающего. Таким образом, мы можем сказать, что вожделение становится означаемым.
Вмешательство означающего поднимает вопрос, который тотчас заставил меня напомнить вам о присутствии Святого Духа в том виде, в котором он предстал для нас в позапрошлом году непосредственно в мысли и в учении Фрейда. Святой Дух есть пришествие означающего в мир.
Это именно то, что Фрейд совершенно определённо вкладывает в термин инстинкта смерти. Речь идёт о пределе означаемого, который никогда не преодолевается ни одним живым существом или даже вовсе никогда не достижим, кроме исключительных случаев, вероятно, мифических, поскольку мы встречаем свидетельства о нем только в описаниях определённого философского опыта высшего порядка. Тем не менее этот виртуальный предел размышления человека о жизни позволяет ему обнаружить смерть как абсолютное условие, неотвратимую данность его существования, как выражается Хайдеггер. Отношения человека с означающим в их совокупности теснейшим образом связаны с этой перспективой упразднения, заключения в скобки всего переживаемого.
То, что находится в основе существования означающего, его присутствия в мире, показано на нашей схеме как действующая поверхность означающего, в которой это последнее отображает то, что мы можем назвать последним словом означаемого, то есть жизни, переживания эмоциональных и либидинальных течений. Речь идёт о смерти - она-то и является основанием и поддержкой вмешательства Святого Духа, которым исполнено существование означающего.

| СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЕЙ (2) |
|---|
 |
Является ли это означающее, которое имеет свои собственные, распознанные или нераспознанные законы, тем, что представлено в Es ? Мы задаём вопрос и отвечаем на него. Для малейшего понимания того, что мы делаем в анализе, следует ответить -да.
Es, с которым мы имеем дело в анализе, и есть означающее, которое уже содержится в реальном, оставаясь непонятым. Оно уже там, но это означающее не является невесть каким примитивным и мутным образованием, соответствующим невесть какой предустановленной гармонии по гипотезе тех, кого в данном случае я без колебаний называю робкими умами.
В первом ряду таковых значится Джонс. В дальнейшем я расскажу, как он решает проблему, например, начального этапа развития женщины и её знаменитого кастрационного комплекса, который представляет собой неразрешимую проблему для всех аналитиков с того момента, как только они появились.
Ошибка берёт начало в идее, что есть нить и есть игла, девочка и мальчик, и между одним и другим существует предустановленная, примитивная гармония такого рода, что если и появляются какие-то трудности, то только по причине какого-то вторичного расстройства, каких-то защитных процессов, каких-то чисто случайных и неожиданных событий. Когда мы воображаем себе, будто бессознательное предназначено для того, чтобы угадать, каким образом нечто в одном субъекте должно соответствовать чему-то в другом, не остаётся ничего иного, как предположить примитивную гармонию.
Подобной концепции достаточно противопоставить одно простое замечание Фрейда из его Трёх очерков о том, что, к большому сожалению, в развитии ребёнка и, в частности, в его отношениях с сексуальными образами, ничто не указывает на наличие уже проложенных рельсов в направлении свободного доступа от мужчины к женщине и обратно. Никоим образом речь не идёт о том, что для их встречи нет другого препятствия, кроме как какой-то несчастный случай, который может произойти в пути. Фрейд говорит совершенно обратное, а именно, что инфантильные сексуальные теории, которые оставят свой отпечаток на всём развитии субъекта и на том, как сложатся для него в дальнейшем отношения между полами, связаны с первичным проявлением генитальной стадии, которое даёт о себе знать до полного развития Эдипа, так называемой фаллической фазой.
Если эта фаза названа фаллической, то на этот раз не ради фундаментального энергетического уравнивания, которое применяется только для удобства осмысления, и не по причине того, что существует только одно либидо, но потому, что в плане воображаемого существует только одно примитивное воображаемое представление о статусе, о генитальной стадии - это фаллос как таковой.
Фаллос не является всей совокупностью мужского генитального аппарата, это мужской генитальный аппарат, за исключением его дополнений, яичек, например.

Образ эрегированного фаллоса - вот что является основополагающим. Он единственный. Нет другого выбора, только образ мужественности или кастрация.
Сейчас я не стараюсь подтвердить правоту Фрейда. Я лишь указываю на то, что здесь располагается исходный пункт его реконструкции развития. Мы можем отправиться на поиски натуралистических оснований для этого аналитического открытия, что, собственно, и происходит во всём, что предшествует Трём очеркам по теории сексуальности. Но в анализе подчёркивается именно то, что опыт обнаруживает для нас массу непредвиденных событий, которые весьма далеки от того, чтобы быть такими уж естественными.
То, что я полагаю здесь в качестве принципа аналитического опыта, касается существования уже внедрённого и уже структурированного означающего. Машинная установка уже построена и функционирует. И не вы её построили. Она представляет собой язык, функционирующий, покуда вы себя помните. Поскольку за его пределами вы буквально не можете себя вспомнить, если говорить об истории человечества в целом. С тех пор, как существуют функционирующие означающие, психика субъектов организуется собственной игрой означающих. Следовательно, Es, которое вы собираетесь разыскать в глубинах, не столь уж естественно - оно ещё менее
естественно, нежели образы. Откровенно говоря, появление в природе гидроэлектростанции, построенной благодаря вмешательству Святого Духа,
противоречит самому понятию природы.
Скандальный характер такого положения дел - вот на чём зиждется аналитическая позиция. Когда мы обращаемся к субъекту, мы знаем, что в природе уже есть нечто, представляющее собой его Es, которое структурировано в соответствии со способом артикуляции означающих, накладывающей на всё, что происходит с этим субъектом, свою печать, сообщающей ему свои противоречия, свое глубокое отличие от природных коаптаций.
Я счёл своим долгом напомнить те позиции, которые представляются мне основополагающими. За означающим я располагаю на схеме эту последнюю реальность, которая полностью скрыта для означаемого, равно как и для использования означающего - возможность того, что ничто из того, что есть в означаемом, не существует. Инстинкт смерти и есть на самом деле обнаружение нами невозможности и обречённости жизни. Понятия такого рода не имеют ничего общего с какой-либо жизнедеятельностью, поскольку жизнедеятельность состоит именно в том, чтобы пройти в существовании свой путь, как все те, кто предшествовал нам по линии рода.
Существование означающего не связано ни с чем другим, кроме факта, поскольку это именно факт, что существует дискурс, и дискурс этот введён в мир на фоне, представления о котором у нас остаются довольно смутными - фоне, о котором Фрейд, опираясь на аналитический опыт, сказал лишь одно: означающее, сказал он, функционирует на фоне определённого опыта смерти.
Опыт, о котором идёт речь, не имеет ничего общего с чем-либо переживаемым. Наша работа с текстом По ту сторону принципа удовольствия, проделанная нами два года назад, показала, что речь идёт ни о чём ином, как о реконструкции, которая опирается на парадоксальные черты опыта, именно на то необъяснимое явление, что означивающая деятельность субъекта волей-неволей состоит в том, что он занят бесконечным повторением чего-то для себя смертоносного.

И наоборот, подобно тому, как смерть отражается в глубине означаемого, точно так же означающее заимствует целый ряд элементов, которые связаны с тем, что глубоко укоренено в означаемом, а именно с телом. Так же, как в природе уже существуют определённые резервуары, в означаемом есть определённое количество элементов, которые даны в опыте в качестве телесных происшествий, но оказываются заточёнными в означающем и становятся его, если можно так выразиться, первыми орудиями (armes). Речь идёт о неуловимых и в тоже время неустранимых вещах, в число которых входит такое фаллическое понятие, как обыкновенная эрекция. Одним её примером можно считать расположенный вертикально камень, другим можно считать прямостоящее положение тела человека. Таким образом, определённые элементы, связанные непосредственно со строением тела, а не просто с телесными переживаниями, образуют первые элементы, которые заимствуются опытом, но при этом полностью трансформируются в процессе символизации. Символизация переводит их в пространство означающего, характер которого определяется артикуляцией в соответствии с логическими законами.
Если я недавно заставлял вас играть в чёт и нечет, рассматривая инстинкт смерти, и учил вас писать ряды плюсов и минусов по двойкам и тройкам во временной последовательности, то делал это для того, чтобы напомнить вам об этих логических законах, которые являются законами означающего, действующими, конечно, неявно, но неотвратимо.
Вернёмся к тому, на чём мы остановились в прошлый раз, а именно к тому, что происходит на уровне аналитического опыта.
3
Главные, порождающие динамику, объектные отношения заданы нехваткой. На уровне аналитического опыта всякий Findung (поиск) объекта, говорит нам Фрейд, является его Wiederbefindung (новым, повторным поиском).
Не стоит читать Три очерка по теории сексуальности, как если бы это была работа, написанная за один присест. Конечно, не было такой книги Фрейда, которая бы не подверглась пересмотру, он очень часто вносил изменения в тексты, все они содержат дополнения. Но Traumdeutung, например, был дополнен без потерь первоначального содержания. И напротив, если вы прочитаете первое издание Трёх очерков, вы не встретите ничего из той книги, которую вы обычно читаете с добавлениями, сделанными в основном в 1915 году, то есть через несколько лет после выхода первого издания и уже после Einführung des Narzissmus. Это первое, что вы должны иметь в виду, изучая этот текст. Всё, что касается догенитального развития либидо, поддаётся осмыслению только после появления теории нарциссизма, и пока не была пересмотрена концепция детских сексуальных теорий с их главными недоразумениями, состоявшими в том, что ребёнок не имеет никакого понятия ни о вагине, ни о сперме, ни о продолжении рода. В этом была их основная ошибка. Понятие фаллической фазы будет прорабатываться после выхода последнего издания Трёх очерков в статье 1923 года Детская генитальная организация. Этот решающий для развития момент генитальности остается за пределами Трёх очерков. Но если они не в полной мере проясняют весь вопрос, продвижение в исследовании догенитальных

отношений как таковых можно объяснить одной лишь важностью сексуальных теорий. То же самое касается и теории либидо как таковой.
Глава под названием Теория либидо посвящена непосредственно понятию нарциссизма. Сама идея теории либидо появляется, когда Фрейд говорит нам о понятии Ich-libido как о резервуаре, наполненном либидо объектов, по поводу этого резервуара он добавляет - мы способны лишь бросить беглый взгляд поверх его стен. В целом, именно это понятие нарциссической напряжённости, основанное на отношениях человека с образом, вводит идею общей либидинальной меры и идею резервуара, за счёт которого устанавливаются любые объектные отношения в их фундаментально воображаемом качестве. Другими словами, одним из принципиально важных переходных пунктов является зачарованность субъекта образом, который в конечном счёте никогда не является более чем его собственным образом. Вот последнее слово нарциссической теории.
Если в рамках определённой аналитической ориентации мы впоследствии смогли распознать организующее значение фантазмов, то произошло это постольку, поскольку мы не полагались на предустановленную гармонию и природную совместимость объекта и субъекта. Уже в первой, исходной версии Трёх очерков показано, что развитие инфантильной сексуальности происходит ступенчато в два этапа. В латентный период, то есть в воспоминаниях, сопровождающих этот период, первый объект, а именно мать, сохраняется в памяти в определённом неизменном виде, который, как говорит Фрейд, неисправим в том смысле, что объект всегда будет только Wiedergefunden, вновь найденным объектом и будет отмечен характером первого объекта. Таким образом, всегда существует неустранимый, глубоко конфликтный раскол во вновь найденном объекте и в самом факте его повторного обнаружения, то есть всегда имеет место несоответствие (discordance) между вновь найденным объектом и объектом, который разыскивается. Вот понятие, исходя из которого вводится первая фрейдовская диалектика теории сексуальности.
Этот фундаментальный опыт предполагает, что в течение латентного периода объект сохраняется в памяти без ведома субъекта, то есть происходит означающая передача. Далее объект входит в несоответствие (discordance), играет разрушительную роль в любых последующих объектных отношениях субъекта. Именно в этом кадре в определённых артикуляциях и на определённых этапах развития раскрываются подлинно воображаемые функции. Всё, что предполагают догенитальные отношения, заключено в эти скобки и располагается на уровне воображаемого. Так в диалектику, которая в наших терминах прежде всего является диалектикой символического и реального, вводится слой воображаемого.
Введение воображаемого, ставшего с тех пор настолько преобладающим, начинается в статье о нарциссизме, формулируется в теории сексуальности только в 1915 году, а также в концепции фаллической фазы в 1920, но утверждается в настолько категорической манере, что с тех пор тревожит и погружает всё психоаналитическое сообщество в замешательство, так что именно отношение к Эдипу лежит в основе диалектики, именовавшейся тогда, заметьте, не доэдипальной, а догенитальной.
Термин доэдипальный появился при обсуждении женской сексуальности десять лет спустя. В 1920 году догенитальные отношения применялись для описания переживаний, которые подготавливают эдипальный опыт, но могут быть артикулированы только в этом последнем. Догенитальные отношения постигаемы

только исходя из означающей артикуляции Эдипа. Образы и фантазмы, формирующие означающий материал догенитальных отношений, сами по себе приходят из опыта, который случается при контакте означающего и означаемого. Означающее частично заимствует свой материал в означаемом, в ряде живых, в действительности осуществляющихся в проживании взаимосвязей. Именно в последействии формируется это прошлое и обретает свою структуру воображаемая организация, предстающая перед нами прежде всего в своём парадоксальном характере. Более всего она не согласуется с идеей размеренного гармонического развития. Напротив, речь идёт о кризисном развитии, в котором уже с самого начала объекты, как мы их называем, различных периодов - орального, анального - уже принимаются за нечто другое, нежели то, чем они являются. Эти объекты уже обработаны означающим и подвержены операциям, чью означающую структуру от них уже не отмыслить.
Именно это описывает любой из терминов инкорпорации, которые их организуют, подчиняют и позволяют артикулировать.
Как организовать этот опыт? Как я сказал вам в прошлый раз, мы можем сделать это вокруг понятия нехватки объекта.
Касательно этой нехватки я показал вам три уровня, которые важно распознать каждый раз, когда имеет место кризис, встреча, успешный акт в регистре поиска объекта, который всегда сам по себе является критическим. Три эти уровня - кастрация, фрустрация, лишение. Формы нехватки, которая является структурной основой каждого из них, представляют собой вещи принципиально разные.
На последующих встречах мы установим точное местоположение, в котором пребывает современная теория и актуальная практика. Аналитики сегодня действительно переориентируют аналитический опыт на уровень фрустрации, пренебрегая понятием кастрации, тогда как оно, вместе с Эдипом, было исходным открытием Фрейда. На следующий раз я оставлю пример, который взял наугад из выпуска 3-4 Psychoanalytic Study of the Child, вышедшего в 1949 году, где есть доклад ученицы Анны Фрейд Мадам Шнурман.
Она непродолжительный период времени наблюдала случай фобии у одного ребёнка, переданного на попечение в Hamstead Nursery, лечебное заведение Анны Фрейд. Мы прочтём этот отчёт о наблюдении, один из тысячи других, и посмотрим, что мы сможем понять, а также попытаемся увидеть, что поняла та, кто пишет его с показательной точностью, которая не исключает использования обращения к заранее установленным категориям. Того, что она собрала, будет достаточно, чтобы мы составили представление о временной последовательности появления и исчезновения фобии, которую мы определим как воображаемое творение, оказавшееся на некоторое время в привилегированном положении и оказавшее целый ряд воздействий на поведение субъекта. Мы увидим, действительно ли автору удаётся сформулировать суть наблюдения, исходя из понятия фрустрации в актуальном смысле, связав её с лишением привилегированного объекта на той стадии развития, где субъект находится в момент возникновения вышеупомянутого лишения. Воздействия более или менее регрессивные - хотя в определенных случаях и прогрессивные, почему бы и нет? Но может ли такой феномен как фобия быть понят, исходя лишь из его места в определённой хронологической последовательности? Не лучше ли объяснить положение дел, обратившись к трём перечисленным мною терминам? Что же, мы это увидим.

Я коротко напомню вам значение этих терминов. В кастрации налицо такая фундаментальная нехватка, расположенная в символической цепи, как долг. Во фрустрации нехватка подразумевается только на воображаемом плане, как воображаемый ущерб (dam). В лишении нехватка располагается непосредственно в реальном - это реальный предел или реальный провал.
Когда в разговоре о лишении речь идёт о нехватке в реальном, это означает, что располагается она не в субъекте. Для того, чтобы субъект получил доступ к лишению, нужно, чтобы реальное он представил себе таким, каким оно в действительности не является, то есть нужно, чтобы реальное уже было символизировано. Такое представление лишения подразумевает уже установленное прежде символическое, которое появляется прежде, чем мы можем говорить о предполагаемых вещах. Таким образом, осмысленное лишение опровергает концепцию генезиса, которую нам обычно предлагают для описания психического развития.
В текущих психоаналитических представлениях о происхождении психической жизни всё происходит как во сне идеалиста - каждый субъект, как паук, должен вытянуть из себя нити паутины и завернуться в их кокон, и всё понимание мира он должен вывести из себя и своих образов. Так, мы видим субъекта, источающего из себя, во имя какого-то предначертанного ему созревания, вереницы отношений с объектами, которые станут объектами нашего человеческого мира. Мы предаёмся такому же упражнению, поскольку совершенно очевидно, что анализ располагает для этого всеми возможностями. Но происходит так потому, что в опыте мы желаем придерживаться только этого аспекта и всякий раз, когда запутываемся, полагаем, что имеем дело лишь с трудностями языка, тогда как это проявление нашего заблуждения. Осознание телесности, образ тела как означающее, хорошо это показывает.
Проблема объектных отношений может быть правильно сформулирована только в рамках чётко заданных положений, которые следует принять за основу для понимания. Первое из этих положений заключается в том, что нехватка является структурой, определяющей мир человеческих отношений с объектом. И нам следует иметь представление о различных этажах этой нехватки в субъекте - на уровне символической цепи, которая ускользает от субъекта как в своём начале, так и в конце -на уровне фрустрации, где она располагается в им самим осознаваемом проживании -но также необходимо рассматривать эту нехватку в реальном, поскольку, когда мы говорим здесь о лишении, речь не идёт о том лишении, которое ощущается.
Лишение является тем центральным пунктом, в котором мы нуждаемся. К этому понятию обращаются повсеместно, но в определённый момент идут на ухищрение, как делает это Джонс, превращая лишение в эквивалент фрустрации. Лишение располагается в реальном, полностью за пределами субъекта. Для того, чтобы субъекта постигло лишение, нужно, чтобы он прежде символизировал реальное. Как субъект приходит к тому, чтобы его символизировать? Каким образом фрустрация вводит символический порядок? Вот вопрос, который мы поднимаем, и мы увидим, что субъект не является ни изолированным, ни автономным и не является тем, кто вводит символический порядок.
Поразительно, что вчера вечером никто не отметил важное замечание Мадам Дольто о том, что, по её мнению, фобия появляется только у детей одного или другого пола, чьи матери имели трудности в отношениях с их, матерей, родителями противоположного пола. Вот положение, позволяющее убедительно обосновать

наличие ещё чего-то в отношениях матери и ребёнка, именно поэтому я предложил трио: мать - ребёнок - фаллос.
У матери всегда, кроме ребёнка, есть нужда в фаллосе, который ребёнок более или менее символизирует и воплощает. Сам ребёнок, находящийся в отношениях с матерью, ничего об этом не знает. Когда мы вчера вечером говорили об образе тела, обсуждая детей, вы должны были заметить одну вещь - если этот образ тела действительно и есть ребёнок, больше того, если он ребёнку доступен, означает ли это, что мать видит своего ребёнка именно так? Такой вопрос не был задан.
Возникает и другой вопрос: в какой момент ребёнок способен осознать, что мать желает, насыщает и удовлетворяет в нём свой собственный фаллический образ? Каким образом ребёнок получает доступ к этому элементу отношений? Осуществляется ли это в порядке непосредственной передачи или даже проекции? Не предполагает ли это, что любые отношения между субъектами располагаются в том же порядке, что отношения Мадам Дольто с её субъектом? Я удивлён, что никто не спросил у неё, есть ли кто-то, кроме неё, кто видит все эти образы тела, есть ли другие аналитики её школы, мужчины и женщины, кто-нибудь, кто их тоже видит? Вообще-то, это важный момент.
То обстоятельство, что для матери ребёнок является далеко не просто ребёнком в силу того, что он ещё и фаллос, учреждает воображаемый диссонанс, по отношению к которому возникает вопрос, каким образом ребёнок, будь то мальчик или девочка, к нему подводится и в него вводится. Это то, что доступно наблюдению в практике. Определённые моменты, которые проясняются в опыте, показывают нам, например, что ребёнок получает туда доступ только в период символизации, но в некоторых случаях он постигает воображаемую утрату (dam) напрямую, не свою собственную, но ту, которую испытывает мать в результате лишения фаллоса. Является ли это воображаемым, которое отражается в символическом? Или, наоборот, это символический элемент, который проявляется в воображаемом? Вот те поворотные пункты, в отношении которых мы задаёмся важнейшим для развития фобии вопросом.
Чтобы не оставлять вас на сухом пайке, я немного проясню ситуацию и скажу вам, что в случае тройственной схемы матери, ребенка и фаллоса дело касается фетишизма. Тогда как фобия является другим вопросом, который, безусловно, ведёт нас дальше.
| СХЕМА ФЕТИШИЗМА |
|---|
 |
Почему в этой схеме ребёнок занимает позицию матери по отношению к фаллосу? Или, наоборот, при некоторых весьма специфичных формах зависимостей, в которых отклонения могут выглядеть вполне нормальными, он оказывается в положении фаллоса по отношению к матери? Что его туда приводит? То, что здесь вступает в игру, представляет собой связь, которую обнаруживает ребёнок между

фаллосом и матерью. До какой степени он вовлекается в неё сам? Эти отношения матери с фаллосом - открываются ли они для ребёнка спонтанно и непосредственно? Всё это происходит, когда ребёнок просто смотрит на свою мать и вдруг понимает, что она желает фаллос? Выглядит так, что нет. Мы к этому вернёмся.
Развитие фобии происходит в совершенно другом измерении. Она не соотносится с вышеупомянутой связью. Она предлагает другой способ решения сложной проблемы, возникающей в отношениях ребёнка и матери. Как я показал вам в прошлом году, для образования этой тройки терминов необходимо замкнутое пространство, уклад символического мира, называемый отцом. Так вот, фобия скорее относится к этому порядку. Она подразумевает эту взаимосвязь. В определённый, особенно критический момент, когда никаким другим образом решить проблему не удаётся, фобия производит крик (appel) о помощи, воззвание к единственному в своём роде символическому элементу.
В чём заключается его единственность? Скажем так, он всегда проявляет себя как чрезвычайно символический, то есть как чрезвычайно далёкий от воображаемого элемент. В момент, когда он призывается на помощь, чтобы поддержать жизненно важную целостность, попавшую под угрозу со стороны зияния, образованного появлением фаллоса между матерью и ребёнком, элемент, который появляется в фобии, имеет подлинно мифический характер.
5 декабря 1956

глава 4 Диалектика фрустрации
Фрустрация - подлинный центр отношений мать-ребёнок Возврат к Форт-Да Мать, от символического к реальному Ребёнок и фаллический образ Фобия маленькой Англичанки
| Агент | Нехватка | Объект |
| Реальный отец | КастрацияСимволический долг | воображаемый |
| Символическая мать | ФрустрацияВоображаемый ущерб (dam) | реальный |
| Воображаемый отец | Лишениереальная дыра | символический |
Вот таблица, к которой мы пришли. Она позволяет с точностью сформулировать проблему объекта в том виде, в котором она ставится в психоанализе.
Недостаток строгости и замешательство, которые демонстрируют аналитики в этой области, привели к любопытному смысловому сдвигу.
Анализ отталкивается от, я бы сказал, скандального понятия аффективных человеческих отношений. Я уже много раз указывал на то, что именно в анализе изначально спровоцировало такой скандал. Дело не столько в том, что он придаёт большое значение сексуальности и вносит свою лепту в то, чтобы сделать это общеизвестным - во всяком случае, это давно уже никого не задевает. А как раз в том, что одновременно психоанализ вводит понятие сексуального объекта со всеми его парадоксами, создающими принципиальные трудности для осмысления, которые обусловлены его, этого объекта, внутренней организацией.
Странно, что, отправляясь от этого, мы соскользнули к представлению о гармоничном объекте.
Чтобы вы смогли оценить разницу между этим понятием и тем, что строжайшим образом сформулировал сам Фрейд, я подобрал для вас одну из наиболее важных цитат, касающихся объекта, но не объектных отношений. Ведь даже самые плохо осведомлённые люди в курсе, что в своих произведениях Фрейд много говорит об объекте, о выборе объекта, например, тогда как понятие объектных отношений никак не подчёркнуто, не развивается, не выводится на первый план. Вот слова Фрейда из статьи Влечения и их судьбы: «Объектом влечения является тот объект, на котором или посредством которого влечение (instinct) может достигнуть своей цели. Это самый изменчивый элемент влечения (instinct), первоначально никак с ним не связанный, но присоединившийся к нему только благодаря своему свойству, обеспечивающему удовлетворение». Можно также сказать - в силу самой возможности удовлетворения (apaisement) влечения. Речь идёт о разрядке (satisfaction), поскольку,

согласно принципу удовольствия, цель психической тенденции (tendence) заключается в том, чтобы достичь удовлетворения.
То есть понятие артикулировано таким образом, что о существовании предустановленной гармонии между объектом и психической тенденцией не может быть и речи. Объект оказывается непосредственно с ней связанным лишь благодаря своим собственным свойствам. Короче говоря, вот то положение, которого мы стараемся держаться. Это не догма, это только цитата. Но одна из многих других цитат с тем же смыслом. Сейчас задача состоит в том, чтобы сформулировать концепцию объекта в этом ключе и увидеть, какими путями Фрейд ведёт нас к обнаружению его, этого объекта, действенного присутствия.
Благодаря нескольким другим положениям, высказанным Фрейдом, нам уже удалось прояснить, что объект всегда является лишь вновь найденным объектом в процессе поиска того, что было первичной Findung (находкой), и что, следовательно, Wiederfindung, вновь сделанная другая находка, никогда не сможет удовлетворить. Кроме этого, в других характеристиках объекта мы увидели его, с одной стороны, как неподходящий (inadéquat), с другой стороны, как частично ускользающий от осмысления. Это позволяет нам более строго подойти к фундаментальным понятиям и, в частности, пересмотреть понятие фрустрации, которое оказалось в центре современной аналитической теории.
Насколько это понятие было необходимым? Каким образом следует его пересмотреть? Мы займёмся его критикой для того, чтобы сделать его пригодным для применения и, вообще говоря, сделать его соответствующим тому, что составляет основу аналитического учения, то есть расположено на принципиальном уровне мысли Фрейда, где, как я много раз об этом говорил, понятие фрустрации имеет вспомогательное значение.
1
Я напомнил вам о том, что было представлено в качестве исходных пунктов -кастрация, фрустрация и лишение - три термина, различие которых полезно иметь в виду.
Что насчёт кастрации?
Кастрация сущностно связана со сложившимся символическим порядком, обладающим продолжительной согласованностью, от которой субъект в любом случае не может быть абстрагирован. Связь кастрации с символическим порядком очевидно обнаруживает себя как в ходе всех наших предыдущих размышлений, так и в простом первоначальном положении Фрейда о том, что кастрация связана с центральной позицией Эдипова комплекса как элемента принципиальной артикуляции любого развития сексуальности. Если я написал на доске символический долг, то именно потому, что комплекс Эдипа непосредственно в себе самом содержит абсолютно неустранимое из его основы понятие закона. Полагаю, что размещение кастрации на уровне символического долга можно считать достаточно обоснованным и достаточно подтверждённым с помощью упомянутого замечания, поддержанного всеми нашими предыдущими размышлениями. Поэтому я продолжу.
Что в символическом долге, образованном кастрацией, задействовано в качестве объекта? Как я в прошлый раз вам это показал, это воображаемый объект, фаллос. По

крайней мере так утверждает Фрейд, и именно из этого я сегодня буду исходить, чтобы в осмыслении диалектики фрустрации продвинуться чуть дальше.
Теперь, что касается фрустрации. Она занимает центральное положение в этой таблице, что никак не противоречит общепринятой концепции. Акцентируя внимание на понятии фрустрации, мы не слишком отступаем от понятия, поставленного Фрейдом в центр аналитической проблематики, а именно от понятия желания. Теперь важно установить, что означает фрустрация, как она была введена и с чем она соотносится.
Когда понятие фрустрации оказывается в центре внимания аналитической теории, её относят к первому году жизни субъекта. Фрустрация связывается с исследованием травм, фиксаций, впечатлений, происходящих в доэдипальных переживаниях. Это не подразумевает, что она вынесена за пределы Эдипа - она создаёт для него своего рода подготовительную площадку, его основу и фундамент. Она моделирует опыт субъекта и намечает в нём определённые акценты, задающие для эдипального конфликта направленность, в которой его течение будет в большей или меньшей степени отклоняться в сторону атипичности или гетеротипичности.
Какой способ отношений с объектом характерен для фрустрации? Очевидно, что здесь возникает вопрос о реальном. Так, в действительности, вместе с понятием фрустрации в образование, в развитие субъекта вводится целая вереница понятий, представленных в обсуждениях количественной метафорой - говорится об удовлетворениях, о вознаграждениях, об адаптационных благоприобретениях и приспособлениях на каждом этапе развития юного субъекта, большая или меньшая степень насыщенности ими или же, наоборот, их недостаток рассматривается как важнейший элемент. Речь идёт о реальных условиях, которые предположительно должны быть выявлены в анамнезе субъекта в процессе анализа.
Этот интерес к реальным условиям вспыхнул в современной психоаналитическойлитературе, тогда как в первых аналитических наблюдениях, в целом, отсутствует, по крайней мере на концептуальном уровне он сформулирован иначе. В подтверждениях этого недостатка нет. Достаточно обратиться к текстам, чтобы увидеть тот шаг в аналитическом исследовании детей, который был сделан по причине одного только этого факта смещения интереса в аналитической литературе. Вам будет легко это оценить, по крайней мере тем из вас, кто познакомился с тремя понятиями нашей таблицы достаточно хорошо, чтобы с лёгкостью их различать.
Таким образом, фрустрация рассматривается как ансамбль реальных впечатлений, проживаемых субъектом в тот период развития, когда его отношения с реальным объектом сосредоточены, как правило, на так называемом первичном (primordiale) имаго материнской груди, в связи с чем у него формируется то, что я назвал выше его первыми акцентами, и задаются его первые фиксации, позволяющие описать различные типы инстинктивных стадий. Именно исходя из этого, оказалось возможным артикулировать отношения оральной и анальной стадий с другими их производными частями, такими как фаллическая, садистская и т.д., и показать, что все они отмечены элементом амбивалентности, которая создаёт саму позицию субъекта в его сопричастности позиции другого, где субъект раздвоен, где он всегда причастен дуальной ситуации, вне которой нет никакой возможности как-либо его позицию определить. Короче говоря, мы имеем здесь воображаемую анатомию развития субъекта.

Давайте посмотрим, куда всё это нас ведёт. Итак, мы в присутствии субъекта, который находится в позиции желания по отношению к груди в качестве реального объекта. Так мы оказываемся в сердцевине вопроса: какие последствия имеет эта наиболее ранняя (primitif) связь субъекта с реальным объектом?
Теоретики анализа погрузились по этому поводу в дискуссию, которая изобилует недоразумениями. Фрейд говорил о стадии аутоэротизма, и некоторые ошибочно истолковали понятие аутоэротизма как раннюю (primitif) связь между ребёнком и первичным материнским объектом. Другие возразили, что было бы сложно соотнести понятие, которое выглядит основанным на факте замыкания субъекта на себе самом, с тем большим количеством данных прямых наблюдений за отношениями ребёнка и матери, которые выглядят прямой противоположностью отсутствия продуктивных отношений субъекта с объектом. Что может быть ещё более внешним для субъекта, чем этот объект, по преимуществу представляющий собой первую его пищу, по отношению к которому он испытывает наиболее насущную нужду?
Здесь есть недоразумение, порождённое заблуждением, которое застопорило дискуссию и привело к такому количеству формулировок, что я не могу взяться за их перечисление до тех пор, пока мы не продвинемся в концептуализации того, о чём идёт речь. Я кратко напомню вам теорию Алисы Балинт, которую мы уже обсуждали.
Эта теория пытается согласовать понятие аутоэротизма в том виде, в котором оно представлено у Фрейда, с тем, что навязывается реальностью объекта, с чем ребёнок сталкивается на самой ранней стадии своего развития. Она приходит к чётко сформулированной и поразительной концепции, которую Месье и Мадам Балинт называют Primary Love. По их мнению, это единственная форма любви, в которой эгоизм и дар совершенно согласованы, поскольку между тем, что требует ребёнок от матери, и тем, что мать требует от ребёнка, устанавливается полное обоюдное соответствие (réciprocité), совершенное взаимодополнение двух полюсов потребности.
Эта концепция совершенно противоречит данным любого клинического опыта. Мы постоянно имеем дело с появлением у субъекта памятной метки, которая возникает в действительно фундаментальных несоответствиях (discordances). Впрочем, теория так называемой первичной, совершенной и взаимодополняющей любви на уровне самой своей формулировки несёт отпечаток этого несоответствия. Речь идёт о замечании Алисы Балинт в Mother’s Love and Love of the Mother о том, что в среде натурализованных отношений, то есть у дикарей, ребёнок всегда находится в контакте с матерью. Как известно каждому, где-то там в стране чудес, в саду Гесперид, ребёнок всегда находится под материнской опекой. Фактически понятие о такой строго дополняющей любви, предначертанием которой является обоюдность, представляет собой настолько неуместное в корректном теоретическом построении допущение, что авторы признают в конце концов эту позицию если не надуманной, то умозрительной.
Я взял этот пример только для того, чтобы ввести движущий элемент нашей критики понятия фрустрации, а именно кляйнианскую теорию. Ясно, что основное положение этой теории совершенно не согласуется с теорией Primary love, поэтому забавно наблюдать, каким несуразным нападкам подвергается теоретическая реконструкция, которую теория Кляйн предлагает.
Мне под руку попался информационный бюллетень, посвящённый деятельности ассоциации психоаналитиков Бельгии. В его содержании есть авторы, которые фигурируют в том выпуске журнала, на который я ссылался в первой лекции и который

сосредоточен на позитивистском, беззастенчивом и совершенно некритичном взгляде на объектные отношения. В этом более конфиденциальном бюллетене делаются более изощрённые нападки, как если бы авторы немного стыдились из-за недостатка уверенности и давали это понять лишь косвенно там, где в глазах обнаружившего это чувство читателя оно пойдёт авторам лишь на пользу.
Итак, мы находим в этом бюллетене статью Месье Паше и Месье Ренара, в которой воспроизводится высказанная ими на Женевском конгрессе критика положений кляйнианской теории. Они ставят Мелани Кляйн в упрёк теорию развития, которая, по их словам, загодя размещает всё внутри субъекта. Весь Эдип с его возможным развитием изначально задан как инстинкт, и его различным, уже сформированным элементам остаётся только проявляться. Авторы предлагают сопоставить это с некоторыми воззрениями в биологической теории развития, согласно которым весь дуб уже целиком содержится в жёлуде. К такому субъекту ничего не приходит извне. Первичные агрессивные влечения заложены с самого начала -действительно, у Мелани Кляйн преобладание агрессивности обозначено в такой перспективе, - и затем, уже в ответ на эти агрессивные влечения, следуют акты возмездия, которые воспринимаются субъектом приходящими извне, а именно из поля матери; с их помощью постепенно выстраивается целокупность матери, которая, как нам говорят, может быть рассмотрена только как заранее сформированная данность, исходя из которой устанавливается так называемая депрессивная позиция.
Не представляя все эти критические замечания одно за другим, как следовало бы сделать, чтобы оценить их истинную ценность, я хотел бы только подчеркнуть для вас, к чему в целом они парадоксальным образом приводят и в чём заключается суть статьи.
Кажется, что авторы увлечены здесь вопросом о том, как вписывается в развитие то, что является привнесенным извне. Они вычитали у Мелани Кляйн, что это уже изначально заложено во внутреннем устроении, и не удивительно, что впоследствии приоритет отдаётся понятию внутреннего объекта, который выходит на первый план. Так они приходят к заключению, что вклад Мелани Кляйн в действительности можно свести к понятию передающейся по наследству схемы, которую, как они подчёркивают, очень трудно себе представить. Итак, говорят они, ребёнок рождается с унаследованными инстинктами в мир, который он не способен воспринимать, но который он помнит и который ему предстоит в дальнейшем не создать, исходя из себя самого или чего-то другого, не обнаружить путем необычных открытий, а всего лишь узнать.
Большинство из вас улавливает платоновский характер такой формулировки. Этот мир, о котором нам нужно только вспомнить, появляется в условиях уже пройденной субъектом определённой воображаемой подготовки. Это представлено в качестве критики и даже противоположной точки зрения. Мы присмотримся не только к тому, не идёт ли эта критика вразрез со всем, что написано Фрейдом, но и к тому, не оказываются ли сами авторы гораздо ближе к той позиции, в которой они упрекают Мелани Кляйн. Ведь они сами как раз утверждают, что субъект наследует уже сформированные, готовые появиться в нужный момент схемы, все те элементы, которые позволят субъекту обустроиться в последовательности этапов, которые именуются идеальными лишь постольку, поскольку они представляют собой воспоминания субъекта, а именно филогенетические воспоминания, сообщающие ему образец и норму.

Это ли имела в виду Мадам Мелани Кляйн? Совершенно немыслимо с этим согласиться. Если Мадам Мелани Кляйн даёт нам кое о чём представление - не в этом ли, впрочем, и заключается смысл критики авторов? - то как раз о том, что первичная (première) ситуация является наиболее хаотичной, по-настоящему анархичной. Для происхождения в самом начале характерен шум и неистовство влечений, и речь идёт как раз о том, чтобы понять, как в этой ситуации может быть установлен некий порядок.
Не вызывает сомнений, что в кляйнианской концепции есть нечто мифическое. Эти фантазмы, конечно, имеют ретроактивный характер. Мы видим, как в процессе формирования субъекта они проецируются на прошлое, причем в моменты, которые могут относиться к очень ранним периодам. Но почему моменты эти возникают так преждевременно рано? Каким образом Мадам Мелани Кляйн, на манер прорицательницы, склонившейся над магическим зеркалом, удаётся разглядеть в прошлом чрезвычайно развитого субъекта двух с половиной лет не что иное, как эдипальную структуру? Этому должно быть какое-то объяснение.
Конечно, есть в этом своего рода мираж, и речь не о том, что мы соглашаемся с ней, когда слышим, что Эдип уже давал о себе знать в тех самых формах разделённого на части пениса, что перемещаются среди братьев и сестёр в области, заданной внутренним пространством материнского тела. Но само то, что такая взаимосвязь может быть заметной и выраженной у ребёнка в очень раннем возрасте, - вот что поднимает действительно плодотворный вопрос.
Эта теоретически установленная взаимосвязь, чисто гипотетическая, изначально задаёт параметры, которые, лучшим образом удовлетворяя наши идеи о естественной гармонии, всё же никак не соответствуют тому, что происходит в опыте.
Я полагаю, что всё это помогает вам увидеть, под каким углом мы можем внести нечто новое в прояснение той путаницы, которая имеет место на уровне отношений мать-ребёнок.
2
Было бы ошибкой отталкиваться не от фрустрации, поскольку она является истинным центром темы первичных отношений ребёнка. Но в дополнение к центральному своему положению понятие должно быть точным. Многое проясняется, если мы подходим к нему следующим образом - фрустрация с самого начала имеет два аспекта, которые мы видим в таблице по обе её стороны.
С одной стороны, имеется реальный объект. Очевидно, что объект может оказывать влияние на отношения субъекта задолго до того, как будет воспринят в качестве объекта. Объект реальный, связь прямая. Только в условиях периодичности появления дыр и недостач будет установлен определённый режим отношений субъекта, при котором ему совершенно не обязательно иметь в виду различие между Я и не-Я. Так, например, он пребывает в аутоэротической позиции, в том смысле, как её понимает Фрейд, в которой, прямо говоря, нет ни такого образования, как другой, ни сколь-нибудь мыслимой возможности отношений.
С другой стороны, имеется агент. В действительности объект образуется в качестве инстанции и вступает в осуществление своей функции только посредством нехватки. И в этих основополагающих отношениях, отношениях нехватки с объектом,

образуется место для понятия агента, которое позволит нам ввести важнейшую для общей постановки проблемы формулировку. В данном случае агент - это мать.
Чтобы показать это, мне достаточно напомнить вам о том, чем мы уже занимались в прошлые годы, а именно о том, что Фрейд сформулировал, рассматривая принципиальную позицию ребёнка в играх повторения, которую он блестяще распознаёт в его поведении.
Мать - это нечто иное, нежели примитивный объект. Сразу же она не появляется в этом качестве, но, как подчёркивает Фрейд, это справедливо, если исходить из первых игр, игр, где сам по себе объект совершенно не имеет значения и какой бы то ни было биологической ценности. Это может быть мяч или неважно какой ещё предмет, который маленький шестимесячный ребёнок перебрасывает через край своей кровати, чтобы потом им снова завладеть. Это чрезвычайно рано сформулированное ребёнком сочетание присутствия-отсутствия знаменует первое образование агента фрустрации, которым изначально является мать. Мы можем записать S(M) как символ фрустрации.
О матери нам говорят, что на определённом этапе развития, в депрессивной позиции, она вводит новый элемент целокупности, который противопоставляется характерному для предыдущего этапа хаосу частичных объектов. Так вот, в гораздо большей степени таким новым элементом является присутствие-отсутствие.
Присутствие-отсутствие не только объективно задано как таковое, но и формулируется самим субъектом. Мы уже обсуждали это в прошлом году - присутствие-отсутствие артикулируется для субъекта в регистре зова (appel). Материнский объект здесь призывается, когда отсутствует, а когда присутствует, бывает отвергнутым в том же регистре, что и зов, то есть с помощью вокализации.
Конечно, этот ритм зова (scansion de l’appel) далёк от того, чтобы сразу же образовать весь символический порядок, но знаменует его начало. Таким образом, он позволяет нам выявить отличительный элемент реальных объектных отношений, который впоследствии предоставит субъекту возможность установить при помощи этого ритма отношения с реальным объектом и следами, метками, которые тот оставляет. Это даёт субъекту возможность согласовать отношения реальные с отношениями символическими.
Прежде чем более наглядно это для вас продемонстрировать, я хочу подчеркнуть то, что влечёт за собой сама возможность появления в опыте ребёнка оппозиционной пары присутствия-отсутствия. То, что таким образом вводится в опыт ребёнка, является тем, что имеет естественную тенденцию засыпать в момент фрустрации. Так, ребёнок располагается между понятием агента, который уже вовлечён в порядок символизации, и оппозиционной парой присутствия-отсутствия, в коннотации плюс-минус, которая даёт нам первый элемент символического порядка. Безусловно, одного этого элемента недостаточно, чтобы образовать символический порядок, поскольку в дальнейшем нужна последовательность, сгруппированная как таковая, но в оппозиции плюс-минус, присутствие-отсутствие, фактически уже имеет место происхождение, рождение, возможность, фундаментальное условие символического порядка.
Теперь вопрос заключается в следующем: каким образом можно осмыслить тот поворотный момент, в который это первичное отношение к реальному объекту открывается для более сложных отношений? В чём суть этого поворотного момента, когда отношения мать-ребёнок открываются элементам, которые вводят то, что мы назвали диалектикой? Я думаю, мы можем выразить это схематически, поставив

следующий вопрос: что происходит, если символический агент как сущностное условие отношений ребёнка с реальным объектом, мать как таковая, больше не отвечает? Если на зов субъекта она больше не отвечает?
Ответим сами. Она утрачивает своё положение (déchoit). Несмотря на то, что она была вписана в символическую структуризацию, которая превратила её в объект присутствия-отсутствия, в ответе на зов она становится реальной.
Почему? До этого момента она существовала в этой структуризации как агент, отличный от реального объекта, который является объектом удовлетворения ребёнка. Как только она больше не отвечает, как только она отвечает по своей прихоти, она выходит из структуризации и становится реальной, то есть она обретает могущество. Отметим, что это становится отправным пунктом для всей последующей структуризации реальности.
Соответственно переворачивается позиция объекта. Пока речь идёт о реальных отношениях с грудью - возьмём её в качестве примера - вполне можно превратить её в поглощающую, если захочется. Что происходит, когда, наоборот, мать обретает могущество и становится реальной и с этого момента заведомо от неё зависит доступ ребёнка к объектам? Эти объекты, которые до сих пор были просто-напросто объектами удовлетворения, становятся частью этого могущества, объектами дара. Теперь они сами, как до этого момента мать, вписаны в коннотацию присутствия-отсутствия, зависят от этого реального объекта материнского могущества. Короче говоря, объекты, как мы их здесь понимаем, то есть не в метафорическом смысле, а как объекты, которые можно удержать, которыми можно обладать - я оставлю в стороне решение выясняемого лишь наблюдением вопроса о том, лежит ли в основе понятия not-me, не-я, образ другого или то, чем можно обладать - объекты, которые ребёнок хочет удерживать при себе, являются теперь не объектами удовлетворения, а знаками того могущества, которое может не отвечать, которое является могуществом матери.
Другими словами, позиция переворачивается - мать стала реальной, а объект символическим. Объект расценивается как свидетельство дара по соизволению материнского могущества. С этого момента объект имеет два измерения своей удовлетворяющей способности, он раздваивает качество возможного удовлетворения -как и прежде он удовлетворяет потребность, но также символизирует благоволение могущества.
Очень важно иметь это в виду, если учесть, что с тех пор, как теория стала, по одному выражению, генетическим психоанализом, одним из наиболее громоздких её понятий является понятие всесилия, всемогущества мыслей. Это легко улавливается во всём, что наиболее от нас далеко. Но возможно ли, чтобы ребёнок имел представление о всемогуществе? Возможно, в этом действительно есть резон, но это не означает, что всемогуществом, о котором идёт речь, наделён он сам. Всемогуществом, о котором идёт речь, наделена его мать.
В этот момент, который я вам сейчас представляю, не ребёнок, но мать, именно она, является всемогущей. В этот решающий момент мать переходит из совершенно архаичной символизации в реальность. И в этот момент мать может дать всё, что угодно. Предположение о том, что ребёнок обладает представлением о своём собственном всемогуществе, совершенно непостижимо и ошибочно. В его развитии на это ничто не указывает, скорее, всё, что в его развитии и связанных с ним осложнениях представляет для нас интерес, подтверждает нам, что его пресловутое всемогущество и его провалы

не имеют никакого отношения к данному вопросу. Вы убедитесь, что значение имеют лишения и разочарования, затрагивающие всемогущество матери.
Это исследование может показаться немного теоретическим. Его преимущество заключается в том, что оно вводит сущностные различия и намечает дальнейшие ходы, которыми обычно мы не пользуемся. Сейчас вы увидите, к чему они нас уже привели.
Итак, вот ребёнок в присутствии некоторой вещи, которую он осознал как могущество. То, что до сих пор располагалось в плане первой коннотации присутствия-отсутствия, разом переходит в другой регистр, становится тем, что может отказать и что обладает всем, в чём субъект может испытывать нужду. И даже если он не испытывает в чём-то нужду, это что-то становится символическим постольку, поскольку зависит от могущества.
3
А теперь подойдём к этому вопросу совсем с другой стороны.
Фрейд говорит нам, что в мире объектов есть один, функция которого является парадоксальным образом решающей, таким объектом является фаллос. Он определяется как воображаемый, его ни в коем случае нельзя путать с реальным пенисом, это, строго говоря, форма, эрегированный образ. Этот фаллос играет настолько решающую роль, что томление по нему, как и его присутствие или его представленность в воображаемом, оказываются ещё более важными для тех представителей человечества, которым недостаёт его реального коррелята, то есть для женщин, нежели для тех, кто может удостовериться в реальном наличии такого коррелята и чья сексуальная жизнь определяется тем фактом, что в воображении они считают его законно и правомерно своим, то есть для мужчин.
Такова наша данность. Рассмотрим, исходя из неё, нашу мать и нашего ребёнка, которые, согласно Микаэлю и Алисе Балинт, образуют единую совокупность потребностей, так же как у супругов Мортимер у Жана Кокто было одно на двоих сердце. Тем не менее на моей схеме они представлены двумя внешними кругами.
Фрейд, со своей стороны, говорит нам, что у женщины в число важнейших объектов нехватки входит фаллос, что тесно связано с её отношениями с ребёнком. По той простой причине, что если женщина ищет в ребенке удовлетворение, то ровно для того, чтобы более-менее успокоить свою нужду в фаллосе, насытить нехватку. Если мы этого не учитываем, то мы отрекаемся не только от учения Фрейда, но и от всего того, что постоянно даёт о себе знать в опыте.
Итак, вот мать и ребёнок в определённых диалектических взаимоотношениях. Ребёнок ожидает нечто от матери, и кое-что он получает. Мы не можем этого не учитывать. В приблизительной манере, в манере Балинтов, скажем, что ребёнок может поверить, что любят его за него самого.
Тогда возникает следующий вопрос: что происходит в измерении, в котором образ фаллоса у матери не полностью совпадает с образом ребёнка? Где происходит двоение, разделение так называемого первичного (primordial) объекта желания? Далеко не гармоничная связь матери с ребёнком раздвоена - с одной стороны, это потребность определённого воображаемого насыщения, с другой стороны, те эффекты реальных отношений с ребёнком на первичном, инстинктивном уровне, который остаётся в конечном счёте мифическим. В том, о чём идёт речь, для матери всегда

остаётся что-то не поддающееся разрешению. Если мы следуем Фрейду, то в конечном итоге говорим, что ребёнок, будучи реальным, символизирует образ. Точнее - ребёнок, будучи реальным, исполняет для матери функцию символизации её воображаемой потребности - задействованы все три термина.
Здесь можно рассматривать любого рода вариации. Между ребёнком и матерью существуют любого рода уже структурированные ситуации. С того момента, когда мать предстала в реальном в состоянии могущества, для ребёнка открывается перспектива промежуточного объекта как такового, как объекта дара. Вопрос состоит в том, в какой момент и каким образом ребёнок может быть введён прямо в структуру символическое-воображаемое-реальное, как это происходит для матери? Другими словами, в какой момент ребёнок может войти - более или менее символически, как мы увидим, осваивая её - в реальную воображаемую ситуацию отношений с тем, чем является для матери фаллос? В какой момент ребёнок может в некоторой мере почувствовать себя обделённым тем, чего он требует от матери, обнаружив, что любят не его, а некий образ?
Далее из этого следует, что этот фаллический образ ребёнок реализует на себе самом и, строго говоря, именно так вступают в действие нарциссические отношения. В момент, когда ребёнок постигает разницу полов, в какой степени этот опыт увязывается с тем, что дано ему присутствием матери и её деятельностью? Как сюда вписывается признание того третьего воображаемого термина, которым является для матери фаллос? Более того, понимание, что мать испытывает нехватку фаллоса, что она желает сама - не только желает чего-то помимо него, ребёнка, а просто желает, компрометируя тем самым своё могущество - станет для субъекта решающим.
В прошлый раз я упомянул один отчёт о наблюдении фобии у маленькой девочки. Обозначу сразу же, что в нём представляет интерес.
Наблюдение осуществляет ученица Анны Фрейд во время войны, что можно назвать благоприятным стечением обстоятельств. Ребёнок наблюдается от начала и до конца, и поскольку речь идёт об ученице Анны Фрейд, то она будет для нас хорошим наблюдателем, потому что она ничего не понимает. Она ничего не понимает, потому что теория Анны Фрейд ошибочна. Следовательно, факты ввергают её в состояние недоумения, которое и составляет всю ценность и пользу этого наблюдения, в котором записано всё, день за днём.
Маленькая девочка в возрасте двух лет и пяти месяцев, обнаружив что у мальчиков есть вивимахер (fait-pipi), как выражается маленький Ганс, начинает действовать из позиции соперничества. Она делает всё так, как делают маленькие мальчики. Этот ребёнок разлучён с матерью из-за войны, но ещё и потому, что в начале войны её мать потеряла мужа. Она навещает свою дочь в регулярном режиме присутствия-отсутствия и играет с ней в игры приближения - она подкрадывается на цыпочках и неожиданно выдаёт своё появление. Короче говоря, мы видим её функцию символической матери. Таким образом, всё идёт очень хорошо, у девочки есть реальные объекты, которыми она занята, когда матери нет, когда же мать появляется, то играет свою роль символической матери. Обнаружив, что у мальчиков есть пиписька, эта маленькая девочка старается подражать им и эту пипиську у них трогать. В таких обстоятельствах разворачивается драма, которая, однако, остаётся без каких-либо последствий.

Этот случай представлен нам как фобия, и действительно в одну прекрасную ночь маленькая девочка просыпается, охваченная сильным страхом. Ей приснилась собака, которая хочет её укусить. Она хочет перелечь из своей кровати в другую, и некоторое время фобия находится в процессе развития.
Почему возникает вопрос, является ли эта фобия следствием обнаружения отсутствия пениса? Потому что эта собака, очевидно, является собакой, которая кусает, которая кусает за половой орган. Мы узнаем об этом по ходу анализа девочки, то есть, когда проследим и поймём то, что она говорит. В первой действительно длинной и согласованной фразе - речь идёт о ребёнке с некоторой задержкой развития - она говорит о том, что собаки кусают за ногу плохих мальчиков, именно это и являет в полной мере действие её фобии.
Также вы видите взаимосвязь между символизацией и объектом фобии. Позже мы обсудим, почему объектом фобии становится именно собака. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что собака здесь выступает в качестве агента, который отнимает то, что изначально было более-менее признано как отсутствующее.
Собираемся ли мы срезать углы и сказать, что в фобии речь попросту идёт о переходе на уровень закона - то есть о вмешательстве элемента, который, как я отметил выше, обладает полномочиями оправдать отсутствие отсутствующего тем, что это было откушено, отнято?
Схема, которую я постарался сегодня вам изложить, заключает в себе именно этот смысл. Мы постоянно делаем этот переход. Месье Джонс, например, говорит нам о нём очень чётко - в конечном счёте Сверх-Я для ребёнка может оказаться лишь воображаемым алиби, тогда как тревоги, именно они, являются первичными, примитивными. Другими словами, будучи недееспособной, культура со всеми её запретами обеспечивает покой для чего-то фундаментального, а именно для тревог в их разобщённом состоянии. Эта концепция кое в чём справедлива - это именно механизм фобии. Но механизм фобии есть механизм фобии, и расширять область его применения - как это делает Месье Пасхе в конце той статьи, о которой я говорил вам, когда дело доходит до утверждения, что с его помощью обосновывается инстинкт смерти, например, или что образы сновидения нужны лишь для того, чтобы субъект использовал их для облачения, для, что называется, облицовки своих тревог - значит постоянно впадать в то же самое заблуждение недооценки символического порядка, являющегося якобы только ширмой и прикрытием чего-то более фундаментального. Это ли я хочу сказать вам, представляя данный случай фобии? Нет.
Важный момент наблюдения состоит в том, что в нём с точностью указано на отсутствие матери в течение месяца, предшествующего вспышке фобии. Конечно, для установления фобии потребовалось гораздо больше времени - с момента обнаружения ребёнком своего афаллицизма (aphallicisme) до вспышки фобии прошло четыре месяца, но в этот период должно было произойти ещё кое-что. Сначала мать перестала приходить, она заболела, и возникла необходимость операции. Мать больше не символическая мать, мать пропала, но пока ничего критичного не произошло. Она возвращается, она снова играет с ребенком, пока всё идёт своим чередом. Она возвращается, опираясь на палку, она возвращается ослабленной, у неё нет прежнего участия, прежней веселости, тех еженедельных сближений и удалений, которые сохраняли достаточную для ребёнка связующую их нить. И именно в этот момент, соответственно, на третьем, весьма отдалённом по времени такте, возникает фобия.

Так, благодаря отчёту о наблюдении мы находим, что одного афаллицизма было недостаточно, вместе с ним был необходим этот второй разрыв ритма чередования уходов-возвращений матери. Мать появляется сначала как кто-то, кто может отсутствовать, и её нехватка определяет реакцию и поведение ребёнка - ребёнок очень грустит, и его нужно подбадривать, тем не менее фобии нет. Далее ребёнок снова видит свою мать - немощную, опирающуюся на палку, больную, уставшую, и на следующий день возникает сновидение о собаке и устанавливается фобия. В наблюдении есть другая вещь, более значимая и парадоксальная, о которой я хочу вам рассказать.
Мы ещё поговорим об этой фобии, о том, как на неё набросились терапевты, и что, по их мнению, они поняли. Пока я только хочу обозначить вопрос, который возникает по отношению к предпосылкам фобии. С какого момента фобия становится необходимой? С момента, когда мать утрачивает фаллос. Что именно таким образом определяет фобию? Что уравновешивается благодаря ей? Почему она оказывается достаточной? Мы займёмся этим в следующий раз.
Но есть ещё один не менее поразительный момент. После фобии, когда немецкие бомбардировки Великобритании во время Второй мировой войны прекращаются, мать забирает своего ребёнка и снова выходит замуж. У девочки появляются новый отец и новый брат - сын её отчима. Этот разом обретённый брат старше её примерно на пять лет, он затевает всевозможные игры, в которых проявляется одновременно преклонение и жестокость. Он просит её обнажаться, его действия по отношению к ней очевидно и полностью связаны с интересом, который она для него представляет постольку, поскольку не обладает пенисом (a-pénienne). И здесь её психотерапевт удивлён, ведь это должно было бы стать надёжным поводом для возобновления её фобии.
Действительно, теория окружающей среды, на которой основана вся терапия Анны Фрейд, указывает, что трудности возникают именно в том измерении, где Я (moi) более-менее хорошо осведомлено о реальности. Не должно ли присутствие ребёнка мужского пола, фигуры не только фаллической, но и обладающей пенисом, который олицетворяет её нехватку, послужить для маленькой девочки поводом для возобновления фобии? Совсем наоборот, нет и следа психического расстройства, она никогда не чувствовала себя так хорошо.
Впрочем, нам сообщают почему - потому что мать явно предпочитает её этому мальчику. Тем не менее отец присутствует достаточно, чтобы ввести новый элемент, о котором до настоящего момента мы не говорили, но который сущностно связан с работой фобии, а именно элемент символический, расположенный по другую сторону отношений с матерью, по другую сторону её могущества и её немощи, и освобождающий понятие могущества как такового от связи с матерью. Короче говоря, он заступает на место того, что казалось нам насыщенным фобией, того страха перед животным-кастратором, который служил, как оказалось, необходимым сущностным элементом артикуляции, позволившей девочке пройти через серьёзный кризис, в который она вошла, обнаружив материнскую немощь. Теперь ребёнок находит насыщение своей потребности в материнском присутствии, в присутствии отца и в придачу в отношениях с братом.
Но достаточно ли ясно видит это терапевт? Эти отношения, в которых она уже girl (девушка) брата, полны перспектив всевозможных патологий. Под другим углом мы можем увидеть, что она в этот момент превратилась в нечто большее, чем брат. Она

определённо стала дМ-/а11и$ (девушкой-фаллосом), о которой мы так много говорим. Дело в том, чтобы понять, в какой мере она не будет впоследствии включена в эту воображаемую функцию до конца.
Но на данный момент никакой насущной надобности завершить артикуляцию фаллического фантазма нет, поскольку есть отец и его достаточно. Достаточно для того, чтобы поддерживать дистанцию между тремя позициями - мать-ребёнок-фаллос -дистанцию достаточную, чтобы субъекту для её поддержания не приходилось отдавать себя, вкладываться самому.
Как поддерживается этот разрыв, каким путём, какой идентификацией, каким ухищрением? Это то, с чего мы начнём в следующий раз, когда повторно возьмёмся за наблюдение этого случая. Одновременно мы подойдём к тому, что наиболее характерно для доэдипальных объектных отношений, а именно к появлению объекта фетиша.
12 декабря 1956

глава 5 Об анализе как bundling'e и его последствиях
Влечение невооружённым взглядом
Истинная природа анаклитических отношений
Фетишистское решение
Перверсивное обострение
Преходящая перверсия фобического субъекта
Аналитическая концепция объектных отношений уже имеет некоторую историю применения. Я пытаюсь представить вам её частично в ином смысле, частично в том же самом, но один тот факт, что она задействуется здесь в другом ансамбле понятий, придаёт ей во всех отношениях другое значение.
В пункте, которого мы по ходу нашего продвижения достигли, будет уместным уточнить, какое значение приобретают объектные отношения, когда они всё чаще помещаются в центр аналитической концепции. Перечитывая недавно некоторые статьи, я обнаружил, что рассмотренные нами формулировки, которые вырабатывались годами, приняли теперь определённую форму и превратились в твёрдо устоявшуюся теоретическую позицию.
В своё время я в некоторых текстах высказал ироничное пожелание, чтобы кто-нибудь представил понятие объектных отношений в рамках определённой ориентации. С тех пор моё желание было многими полностью удовлетворено, и если формулировка Бувэ, в части применения этого понятия в случае невроза навязчивости, была довольно обтекаемой, то другие авторы приложили усилия, чтобы быть более точными.
1
Статья Месье Пьера Мари и Мишеля Фэйна Двигательные реакции в объектных отношениях, вышедшая в номере Французского психоаналитического журнала за январь-июнь 1955 года, даёт нам живой пример господствующей концепции. Я собираюсь сделать для вас резюме этой работы, оговорившись, что самостоятельное прочтение, несомненно даст вам гораздо больше, чем то, что я смогу представить здесь в нескольких словах.
Отношения между анализируемым и анализирующим изначально рассматриваются как связь, которая устанавливается между субъектом, пациентом, и внешним объектом, аналитиком. Если выразиться в наших терминах, то аналитик в этих отношениях рассматривается как реальный. Полагается, что сама по себе эта пара является единственным движущим элементом аналитической разработки. Напряжённость аналитической ситуации понимается следующим образом: между субъектом, лежит ли он на кушетке или нет, и внешним объектом, который является аналитиком, в принципе может быть установлено и проявлено только то, что названо первичными (primitive) отношениями влечения. Как правило, такие отношения проявляются посредством двигательной активности - таково предположение о развитии аналитических отношений.
Следовательно, внимательно наблюдая за различными импульсами двигательной реакции субъекта, мы можем обнаружить надёжные свидетельства того, что происходит на уровне влечения. Именно здесь влечение в некотором роде

локализировано и живо ощущается аналитиком. Поскольку в соответствии с условиями аналитических отношений субъект вынужден сдерживать свои движения, то именно на этом уровне локализируется, по разумению аналитика, то, что должно проявить себя, а именно возникающее влечение.
В конечном счёте, представленная таким образом ситуация может выражаться только в эротической агрессии. Если оная не проявляется, то происходит так потому, что существует договорённость её не проявлять, но при этом желательно, чтобы, если можно так выразиться, непрестанно поддерживалась эрекция. Именно в этом измерении, где в рамках аналитического соглашения - фактически правила - не может иметь места двигательное проявление влечения, у нас появляется возможность обнаружить то, что вмешивается в основополагающую ситуацию, и увидеть, как отношения с внешним объектом накладываются на отношения с объектом внутренним. Согласно обсуждаемой статье, в действительности субъект имеет отношения с внутренним объектом, который является присутствующей персоной, но вовлечённой в уже сформированные у субъекта воображаемые механизмы и превратившейся в объект фантазматических отношений. Между этим воображаемым объектом и объектом реальным существует определённое несоответствие (discordance), с учётом которого аналитик будет оцениваться и должен будет модулировать свои вмешательства. Поскольку, согласно этой концепции, в аналитической ситуации не может быть никого другого, кроме её непосредственных участников, один из авторов, а вслед за ним и все прочие ввели понятие невротической дистанции, которую субъект устанавливает по отношению к объекту. Фантазматический или внутренний объект, по крайней мере в той заторможенной позиции, в которой он находится, и таким образом субъектом переживаемый, должен быть переведён на реальную дистанцию, которая разделяет субъекта и аналитика. Именно в этом измерении субъект осознает своего аналитика как реальное присутствие.
Здесь авторы заходят очень далеко. Я уже несколько раз упоминал, как один из них, правда в период забот о построении своей карьеры, определил как поворотную, решающую точку в анализе момент, когда его анализируемый смог его ощутить. Это не было метафорой, речь шла не о том, что он смог почувствовать его психологически, речь шла о том, что пациент ощутил запах аналитика. Выявление обонятельного отношения и выведение его на первый план является математически ожидаемым следствием подобной концепции аналитических отношений. С тех пор, как они рассматриваются в качестве реальных, хотя и ограниченных, рамок, внутри которых мало-помалу должна обнаруживать себя дистанция активного присутствия при взаимодействии с аналитиком, одним из самых прямых способов связи с другим становится дистанционная связь, которую обеспечивает обоняние.
Учтите, что я привёл не какой-то исключительный пример, но то, о чём говорилось множество раз. И, кажется, в этой среде все больше и больше значения придаётся именно таким способам понимания.
Вот к чему сводится осмысление аналитической позиции, когда предполагается, что она вписывается в ситуацию реальных отношений между двумя персонажами, что в этой ограде они отделены друг от друга установленным по договорённости барьером и что-то должно там произойти. После знакомства с теорией взглянем на последствия её применения в практике.

Сразу понятно, что столь неправдоподобная концепция не может быть доведена до логического конца. С другой стороны, если то, чему я вас учу, верно, то даже если практик пользуется такой концепцией, ситуация, в которой он находится, в действительности не соответствует тому, что в указанной концепции описано. Ситуацию недостаточно определённым образом представить, чтобы она оказалась таковой в действительности. Дело пойдёт вкривь и вкось по причине того, каким образом эта ситуация продумана, но реально она всё же останется такой, какой я попытался представить её на схеме взаимного вмешательства и пересечения отношений символических и отношений воображаемых, где одни служат фильтром для других. Ситуация, несмотря на неверное её понимание, остается прежней, что красноречиво говорит о неудовлетворительности этой концепции. И наоборот, эта неудовлетворительность может, некоторым образом, благотворно повлиять на окончательное разрешение всей ситуации в целом.
Именно таким образом аналитическая ситуация оказывается представленной в качестве реальной ситуации, в которой осуществляется операция сведения воображаемого к реальному. В рамках этой операции разворачивается ряд феноменов, позволяющих обозначить различные этапы, на которых субъект остаётся более или менее встроенным в эти воображаемые отношения или закреплённым в них. Таким образом происходит то, что называется исчерпывающей проработкой различных позиций субъекта, которые по своей сути являются воображаемыми, вследствие чего всё более важную роль в анализе играют догенитальные отношения.
Единственный момент, который такая концепция аналитической ситуации никак не проясняет, и который не является пустяковым, поскольку как раз в нём-то всё дело и состоит, можно обозначить так: какое место в этой ситуации занимает речь? Мы этого не знаем, тем не менее это не значит, что мы могли бы без прояснения этого момента обойтись. В такой позиции никак не обсуждается функция языка и речи. Впрочем, мы видим один особый случай, когда значение придаётся единичной импульсивной вербализации, возгласу в адрес аналитика типа - почему же вы мне не отвечаете? Вы найдёте это в текстах указанных выше авторов в чётко сформулированном виде. Для них вербализация имеет значение лишь постольку, поскольку импульсивна, то есть является проявлением двигательной активности.
К чему приводит операция регулировки дистанции с внутренним объектом, когда ей подчиняется вся техника? Наша схема позволяет это понять.
Линия а-а' представляет воображаемые отношения, которые соединяют субъекта более или менее рассогласованного, разобщённого, подверженного распаду, с объединяющим нарциссическим образом, который является образом маленького другого. По линии S-A, которая линией ещё не является, поскольку установить её только предстоит, осуществляются отношения субъекта с Другим. Другой неявляется только присутствующим там другим, но буквально является местом речи. Существует уже структурированное в отношениях речи потустороннее, большой Другой по ту сторону от маленького другого, которого мы воспринимаем в воображении. Этот предполагаемый большой Другой есть субъект как таковой, субъект, в котором образуется ваша речь, поскольку он может не только принимать и воспринимать её в качестве речи, но и отвечать. Именно на этой линии устанавливается всё то, что относится к режиму переноса: воображаемое здесь играет роль фильтра, даже препятствия. Конечно, в каждом неврозе субъект уже имеет, если можно так выразиться, свои собственные

настройки. Регулировка по отношению к образу помогает ему одновременно слышать и не слышать то, что можно услышать в месте речи.
Остановимся на следующем. Если наши усилия, наши интересы сосредотачиваются исключительно на воображаемых отношениях, которые располагаются поперёк направления отношений речи; если мы игнорируем связь между воображаемым напряжением и тем, как должны реализовываться, проявляться бессознательные символические отношения, в то время как именно в этом и заключается вся суть аналитического учения; если мы забываем, что есть нечто, позволяющее сюжету свершиться, реализоваться и в истории, и в признании; если мы пренебрегаем связью воображаемых и символических отношений и той невозможностью становления символического, которая конституирует невроз; если мы не рассматриваем одно в зависимости от другого, если мы интересуемся лишь тем, что приверженцы этой концепции называют дистанцией, которую можно регулировать и в итоге свести на нет, как если бы это было возможно, принимая в расчет лишь её одну -то имейте в виду, что результаты такого подхода уже перед нами. Мы получаем свидетельства о них из рук субъектов, которых аналитики воспринимали и исследовали именно так. Когда представление о развитии всей аналитической ситуации полагается на пресловутую дистанцию, которая считается отличительной чертой объектных отношений невроза навязчивости, мы надёжно получаем то, что можно назвать парадоксальными перверсивными реакциями.
Теперь мы наблюдаем явления в высшей степени необыкновенные, их едва ли можно было встретить в аналитической литературе до той поры, пока это техническое нововведение не вышло на первый план. Я имею в виду, например, бурный рост числа случаев гомосексуальной привязанности к своего рода парадоксальному объекту, который представляет собой нечто искусственное, образ, сгустившийся и кристаллизовавшийся вокруг лежащих в пределах досягаемости субъекта объектов. Феномен может демонстрировать довольно продолжительное, стойкое присутствие.
Всё это не удивит нас, если мы обратимся к воображаемой триаде мать-ребёнок-фаллос.
2
В пункте, к которому мы подошли в прошлый раз, вы видели, как намечается линия исследования воображаемой триады мать-ребёнок-фаллос. Это было прелюдией к подключению символических отношений, которые формируются только с появлением четвёртой функции, функции отца, вводимой измерением Эдипа.
Сама по себе триада доэдипальна. Саму по себе её можно рассматривать лишь отвлечённо, она интересует нас только в своём развитии, то есть в составе квартета с включением отцовской функции, с того момента, который приносит ребёнку его главное разочарование, с момента, когда он узнаёт - мы оставим открытым вопрос, как именно - не только о том, что для матери он не единственный объект, но и о том, что главный предмет материнского интереса, дающий, в зависимости от обстоятельств, в большей или меньшей степени себя знать, - это фаллос. В свете этого знания ребёнок обнаруживает, что мать этого объекта действительно лишена, что у неё самой его как раз нет. Вот тот пункт, к которому мы подошли в прошлый раз.

Я показал вам это на случае проходящей фобии у ребёнка в самом раннем возрасте. Это очень подходящий для изучения фобии случай, поскольку события происходят непосредственно перед и в момент установления эдипальных отношений. Сначала имеет место двойное воображаемое разочарование - обнаружение ребёнком недостающего ему фаллоса, далее вторым тактом следует осознание того, что у матери, той матери, которая находится на границе символического и реального, также существует нехватка фаллоса. Далее следует воззвание (appel) ребёнка к тому, что может поддержать эти пошатнувшиеся отношения. Это момент образования фобии с вмешательством фантазматического существа, собаки, которая назначается, собственно говоря, ответственной за всю ситуацию как та, которая кусает и наказывает, благодаря чему ситуация, по крайней мере на какое-то время, в целом становится постижимой, символически освоенной.
Когда сцепление трёх воображаемых объектов разорвано, есть более чем одно возможное решение. Решение приведёт либо к нормальной, либо к ненормальной ситуации.
Что происходит в нормальной эдипальной ситуации? Именно посредством определённого соперничества субъекта с отцом, акцентированного идентификацией при смене отношений, устанавливается то, что позволяет субъекту обнаружить себя в определённых границах, именно тех, благодаря которым он входит в символические отношения и в фаллическую силу. У мальчика и девочки это происходит по-разному.
Случай мальчика совершенно понятен. Недавно я уже говорил о ребёнке как о реальном существе, которое мать принимает за символ своей нехватки объекта, своего воображаемого аппетита к фаллосу. Нормальный исход ситуации состоит в том, что ребёнок символически обретает фаллос, в котором он нуждается. Но для того, чтобы он в нём нуждался, предварительно необходима угроза его потери со стороны кастрирующей инстанции, которая исходно является отцовской инстанцией. Именно в символическом плане, то есть в плане некоторого соглашения, дающего право на обладание фаллосом, устанавливается эта мужская идентификация, представляющая собой основу нормативных эдипальных отношений.
Я сделаю здесь попутное замечание, касающееся довольно своеобразных формулировок, которые появились под пером Фрейда в целях различения отношений анаклитических и отношений нарциссических. Они весьма специфичные, даже парадоксальные.
В либидинальных отношениях у подростков Фрейд различает два типа объекта любви: анаклитический объект любви, который отмечен первичной зависимостью от матери, и объект нарциссической любви, моделью которого служит нарциссический образ самого субъекта, который мы постарались здесь проработать с точки зрения его укоренённости в зеркальном отношении к другому.
Слово анаклитический, хотя мы и обязаны им Фрейду, здесь не подходит, поскольку в действительности на греческом оно не имеет того смысла, который придаёт ему Фрейд от немецкого слова Anlehnung, опора. Тем не менее это стало поводом для всевозможных недоразумений, некоторые дошли даже до того, что эту опору рассматривают в качестве защитной реакции. На самом деле, если мы читаем Фрейда, мы прекрасно видим, что речь идёт о потребности в поддержке, которая только и ждёт возможности обнаружить себя на стороне отношений зависимости.

Если мы продвинемся ещё дальше, мы увидим, что в противопоставлении Фрейдом двух форм отношений, анаклитических и нарциссических, существуют своеобразные противоречия. Очень странно, что в разговоре об анаклитических отношениях речь гораздо больше идёт о необходимости быть любимым, чем о необходимости любить. Наоборот, и очень парадоксально, нарцисс вдруг представлен удивительным для нас образом. Действительно, выглядит так, что весьма специфическому нарциссическому поведению присущ элемент активности, который проявляет себя в таком поведении, поскольку оно до некоторой степени всегда игнорирует другого. Фрейд, напротив, приписывает ему и вручает как атрибут именно потребность любить в качестве естественной черты, которую в других терминах мы могли бы назвать жертвенностью, что может только озадачить.
Эти парадоксальные перспективы очередной раз берут своё начало и свою обоснованность в заблуждении относительно позиции внутрисубъектных (т1газиУес1&$) элементов.
Анаклитические отношения там, где они представляют интерес, то есть в их устоявшемся состоянии у взрослого, всегда рассматриваются как пережиток и задержка так называемой инфантильной позиции. Фрейд в своей статье о типах либидо определяет эту позицию ни больше ни меньше как позицию эротическую, чем указывает на то, что это наиболее открытая позиция. Мы упускаем суть, не замечая, что именно постольку, поскольку в символических отношениях субъект в мужской позиции обнаруживает себя наделённым фаллосом как таковым, как принадлежащим ему на законных основаниях, он становится носителем объекта желания для объекта, наследующего материнскому, для объекта, вновь найденного и отмеченного первичными отношениями с матерью, который в принципе является объектом в его нормальной эдипальной позиции, то есть для объекта, которым с самого начала фрейдовского изложения является женщина. Именно в силу того, что женщина зависит от фаллоса, для которого отныне он выступает хозяином, представителем, хранителем, позиция становится анаклитической.
Отношения зависимости устанавливаются постольку, поскольку,
идентифицируясь с другим, с объективированным партнёром, субъект понимает, что он для неё незаменим, он, и только он удовлетворяет её, поскольку он в принципе является единственным хранителем объекта желания матери. Именно в свете такого освоения эдипальной позиции субъект способен занять позицию, которую мы с определённой точки зрения можем квалифицировать как оптимальную по отношению к вновь найденному объекту, наследующему первичному материнскому объекту, для которого он сам становится незаменимым и понимающим свою незаменимость объектом. Часть эротической жизни субъектов, вовлечённых в этот либидинальный сюжет, полностью обусловлена некогда испытанной и утвердившейся потребностью в Другом, в женской материнской фигуре, которая испытывает необходимость найти в нём свой фаллический объект. Вот в чём состоит суть анаклитических отношений в их противопоставлении отношениям нарциссическим.
Это отступление предназначалось для того, чтобы продемонстрировать вам пользу от привнесения диалектики трёх первых объектов и четвёртого термина, который всех их обнимает и связывает в символических отношениях, а именно отца. Это понятие вводит символические отношения и вместе с этим даёт возможность выйти за рамки отношений фрустрации и перейти на уровень отношений кастрации, что уже совсем
| текст по-русски:перевод Мощенко С.редакция и коррекцияКольцова И., Золотарёв В. |  |
59
другое дело, поскольку кастрация вводит нехватку объекта в диалектику, где он принимается и отдаётся, где он формируется и вкладывается, короче говоря, в диалектику, которая придаёт нехватке измерение соглашения, закона, запрета, в частности, на инцест.
Вернёмся к нашей теме и зададимся вопросом: что произойдёт, если символические отношения не срабатывают и для всех анаклитических отношений правилом и мерой становятся воображаемые отношения? Так действительно может произойти по причине какого-то сбоя в развитии или в силу стечения обстоятельств, когда нарушается связь ребёнка и матери по отношению к третьему объекту, объекту фаллическому, который одновременно является объектом нехватки для женщины и тем, что ребёнок обнаруживает как нехватку матери. Когда случается рассогласованность, или несвязность, или разрыв связей, когда согласованность претерпевает сбой. Кроме символического, существуют другие способы для восстановления этой согласованности. Существуют способы воображаемые, которые нетипичны.
Например, идентификация ребёнка с матерью. С момента воображаемого перемещения ребенка на место его материнского партнера, ребёнок на её месте будет делать фаллический выбор, присвоив её стремление к фаллическому объекту.
| СХЕМА ФЕТИШИЗМА (2) |
|---|
 |
Это изображение представляет собой не что иное, как схему фетишистской перверсии. Это, если хотите, другой пример решения. Есть более прямой путь. Существуют другие решения на пути доступа к нехватке объекта. Уже в плане воображаемого нехватка объекта непосредственно образует тот способ отношений человека с его существованием, когда само это существование ставится под вопрос. Одного этого достаточно, чтобы провести в воображаемом плане черту отличия от животных и от всяких животных отношений. Этот воображаемый доступ к нехватке объекта открывается в особых, чётко определённых, внеисторических условиях - так же, как это происходит с пароксизмом перверсии.
Перверсия действительно обладает свойством открывать определённый режим доступа к тому, что расположено по ту сторону образа другого, и характеризует измерение человеческого. Но это происходит только в моменты обострения перверсии, моменты перебоев (syncopés) в истории субъекта. Мы наблюдаем тогда схождение или восхождение к моменту, который, пожалуй, наиболее чётко можно обозначить как переход к действию (passage à l'acte). В процессе этого перехода к действию происходит некое слияние и открывается доступ к тому, что находится по ту сторону образа другого.

Анаклитическая фрейдовская теория формулирует как таковое это трансиндивидуальное измерение и называет Эросом единство двух индивидов, где каждый исторгнут из себя самого и на более или менее хрупкое и мимолётное, даже призрачное мгновение становится неотъемлемой частью этого единства. Такое объединение происходит в определённые моменты перверсии, но суть перверсии состоит именно в том, что это единство никогда не может быть достигнуто, кроме как в те моменты, которые не упорядочены символически.
В фетишизме субъект говорит себе, что наконец обрёл свой исключительный объект, тем более совершенный и удовлетворяющий в силу того, что он неодушевлённый. А посему отношения с ним будут, по крайней мере, более спокойными и не принесут разочарования. Любить туфлю действительно означает иметь объект своих желаний под рукой. Такой объект, полностью лишённый своей субъективной, интерсубъективной, даже транссубъективной ценности, гораздо более надёжен. Для реализации условия нехватки как таковой решение фетишиста, несомненно, одно из наиболее подходящих, и мы видим его действительное осуществление.
Поскольку специфика воображаемых отношений состоит в совершенной взаимной обратимости (réciproques) и поскольку это зеркальные отношения, нам следует ожидать время от времени проявления у фетишиста позиции идентификации не с матерью, а с объектом. Это действительно то, что мы видим в ходе анализа фетишиста, потому что эта позиция как таковая всегда оказывается наименее удовлетворительной. Для того, чтобы мимолётный манящий отблеск объекта, бывшего некогда материнским объектом, субъекта удовлетворил, недостаточно установить общее эротическое равновесие. И действительно, когда он идентифицирует себя с объектом, то он, если можно так выразиться, теряет свой первичный объект, а именно мать, и определяет себя самого по отношению к ней в качестве разрушительного объекта. Эта бесконечная игра, это глубинное удвоение отмечает любое проявление фетишизма.
Это настолько очевидно, что некая Филлис Гринакр, серьёзно исследовавшая основу фетишистских отношений, приходит к формулировке, что это похоже на присутствие субъекта, который чрезвычайно быстро демонстрирует вам свой собственный образ в двух противоположно установленных зеркалах. Она делает такой вывод, не понимая толком, каким образом она к нему пришла, поскольку формула возникла как гром среди ясного неба, но у неё внезапно появилось чувство, что это именно так: субъект никогда не оказывается там, где бы ему следовало быть, он покинул своё место, он перешёл в зеркальные отношения матери и фаллоса и поочерёдно занимает то одну, то другую позицию. Стабилизация достигается только введением единого символа, привилегированного и в то же время непостоянного, который является конкретным объектом фетишизма, то есть чем-то, что символизирует фаллос.
Поэтому именно идентичными или по меньшей мере аналогичными тем отношениям, которые представляются нам по сути своей перверсивными, должны выглядеть результаты, по крайней мере переходные, такого использования аналитических отношений, при котором они целиком сориентированы на объектные отношения, которые учитывают только воображаемое и реальное, причём воображаемые отношения целиком настраиваются на пресловутое реальное присутствие аналитика.
В этом мы сейчас убедимся.

3
В своей Римской речи я говорил о применении такого понимания объектных отношений в анализе. Я сравнил его тогда со своего рода bundling 'ом, доведённым в порядке психологического опыта до крайних пределов.
Этот маленький отрывок, возможно, остался незамеченным, но в примечании я даю читателю справку о том, что bundling - это нечто совершенно определённое, касающееся конкретных обычаев, которые всё ещё существуют на некоторых островках культуры, где сохраняются старые обычаи. Стендаль рассказывает о нём как об особенности, присущей фантазерам Швейцарии, которая встречается также и на юге Германии, что немаловажно с географической точки зрения.
Bundling - это концепция любовных отношений, техника, схема взаимодействия между мужчиной и женщиной, которая состоит в том, что в определённых обстоятельствах, например, в знак гостеприимства, кто-то из домашних может предложить представителю некой привилегированной группы разделить постель с девочкой при условии отсутствия контакта. Отсюда появилось слово bundling - обычно девочку заворачивали в простыни, что сохраняло все возможности для сближения, кроме последней. То, что может сойти за удачную фантазию из области нравов - и мы могли бы сожалеть о своей непричастности, ведь это могло бы быть забавно -заслуживает некоторого внимания, поскольку не составляет труда заметить, что через семнадцать или восемнадцать лет после смерти Фрейда аналитическая ситуация странным образом начала мыслиться и формализоваться в подобном ключе.
В статье Фэн и Марти есть запись одной сессии, где отмечены все телесные проявления пациентки, которые могли быть обращены к располагающемуся у неё за спиной аналитику в форме более или менее сдержанных, но сохраняющих ту или иную дистанцию движений по направлению к нему. Это поразительный текст, и, хотя он вышел, когда я уже написал свою речь, он подтверждает, что я не преувеличиваю, говоря о том, что в рамках определённой концепции аналитическая практика оказалась сведена именно к такому итогу, к таким психологическим установкам.
Мы часто обнаруживаем эти странности в обычаях и привычках на обособленных островках некоторых культур, например, есть протестантская секта голландского происхождения, которая была довольно подробно изучена и которая очень точно сохранила местные обычаи, связанные с религиозным единением, это секта Амишей. Конечно, сегодня всё это кажется непонятными пережитками, но мы здесь находим символическое образование, вполне скоординированное, целенаправленное, заложенное в традицию, которую можно назвать религиозной или даже символической. Всё, что мы знаем о практике куртуазной любви и об области её применения в Средние Века, включает в себя с большой строгостью технически разработанный подход к любовным отношениям, который предполагает длительные подготовительные стадии соблюдения ограничений, действующих в присутствии любимого объекта, направленные на реализацию того потустороннего, чего ищут в любви, потустороннего по сути своей эротическому. С тех пор как мы получили к этим традициям и техникам ключ, мы находим чётко сформулированные различные их проявления в других областях культуры, поскольку человечество на протяжении всей своей истории

множество раз совершенно осознанно обращалось к исследованию этой сферы любовной жизни.
То, что здесь преследуется в качестве цели и действительно оказывается достигнутым, это выход по ту сторону, если можно так выразиться, психологического контура короткого замыкания. Чтобы этого достичь, осуществляется сознательное использование воображаемых отношений как таковых. В ключе наивных представлений эти практики могут показаться перверсивными. На самом деле они не являются чем-то большим, чем любой другой регламент любовных отношений, установленный в пределах действия определённых нравов или, как говорится, паттернов. Это заслуживает быть отмеченным в качестве ориентира для понимания нашего места расположения.
Теперь давайте рассмотрим случай, который был представлен в том маленьком бюллетене, процитированном в прошлый раз, в котором излагаются насущные вопросы, возникшие у участников определённой группы по поводу объектных отношений. Из-под пера персоны, обладающей статусом в аналитическом сообществе, Мадам Рут Лебовичи, мы получаем отчёт о наблюдении за субъектом, которого она справедливо называет фобическим.
Этот фобический субъект, активность которого была довольно низкой, достигает состояния почти полной недееспособности. Его наиболее ярким симптомом является страх быть слишком высоким, он всегда сохраняет чрезвычайно сгорбленное положение. Ему становится практически невозможно поддерживать отношения в своей профессиональной среде. Он ведёт непритязательную жизнь, укрывшись в прибежище семейного очага, тем не менее у него есть любовница, которая старше его на пятнадцать лет, которую нашла для него мать. В этой ситуации и попадает он к аналитику, который начинает помогать ему в решении его проблемы.
В ходе искусно проведённой диагностики установление фобии не вызывает затруднений, несмотря на парадоксальный факт того, что вызывающий фобию объект в первом приближении не кажется внешним. Тем не менее в один момент появляется повторяющийся сон, моделирующий беспокойство, у которого есть внешний источник. В этом конкретном случае внешний объект обнаруживается лишь во вторую очередь. Речь идёт о прекрасно различимом фобическом объекте, который предстаёт в дивном образе, заменяющем недостающего отца: по прошествии некоторого времени появляется образ мужчины в доспехах, обладающего особенно угрожающим инструментом, представляющим собой не что иное, как распылитель, Ау-1ох, с помощью которого будут уничтожены все маленькие фобические объекты, насекомые. Субъект просыпается в страхе быть выслеженным и задушенным в темноте мужчиной в доспехах, и этот страх имеет значение для общего баланса этой фобической структуры.
Аналитик, которая занималась субъектом, опубликовала наблюдение под заголовком Проходящая сексуальная перверсия в ходе аналитического лечения. Таким образом, не по моему настоянию возникает здесь вопрос перверсии - автор отчёта о наблюдении сама акцентирует на этом внимание.
Что может означать беспокойство автора по этому поводу? Она хорошо поняла, что реакция, которую она назвала перверсивной, - это только ярлык - появляется в конкретных обстоятельствах, в которых она играет свою роль. Факт того, что у неё возникает по этому поводу вопрос, подтверждает, что она осознаёт наличие этого вопроса. И что происходит? Когда наконец проявляется образующий фобию объект,

мужчина в доспехах, аналитик истолковывает его как фаллическую мать. Почему фаллическая мать, тогда как это настоящий мужчина в доспехах со всем характерным для него символизмом? На протяжении всего наблюдения вопросы, которые задаёт автор, достаточно внятны и переданы, на мой взгляд, очень точно. В особенности автор озабочена следующим - была ли правильной интерпретация, которую я дала? Это значит, что она сознавала, что весь вопрос в этом.
В самом деле, сразу же после этой интерпретации появляется перверсивная реакция, и мы впоследствии оказываемся вовлечёнными в историю субъекта, произошедшую с ним в возрасте трёх лет, в которой у него поэтапно развивается перверсивная фантазия, состоящая в том, что женщина видит, как он мочится, а затем, очень возбуждённая, подходит к нему и просит вступить с ней любовные отношения. Далее ситуация переворачивается, субъект, мастурбируя или нет, наблюдает за женщиной в процессе мочеиспускания. Наконец, на третьем этапе происходит действительная реализация этой ситуации - в кинотеатре субъект обнаруживает небольшое заведение, предусмотрительно обеспеченное окошками, через которые он может непосредственно наблюдать за женщинами в соседнем туалете, в то время как сам находится в своей кабинке, развлекая себя или мастурбируя.
Автор сама задаётся вопросом об определяющем значении своего способа интерпретации того, что изначально приняло вид фантазматической кристаллизации элемента, который очевидно представляет собой компонент в составе субъекта и является не фаллической матерью, но матерью в её отношениях с фаллосом. Но автор сама проясняет для нас, откуда появляется мысль о вмешательстве фаллической матери, когда в какой-то момент задаётся вопросом об общем ходе лечения и замечает, что сама она в конечном итоге была гораздо более запрещающей, чем когда-либо была мать. Всё указывает на то, что сущность фаллической матери появляется в анализе из-за того, что автор называет своими собственными контрпереносными позициями. Если мы внимательно следим за анализом, то у нас не остаётся в этом никаких сомнений. Хотя развитие воображаемых отношений происходит в данном случае не без помощи ошибочного аналитического действия, взглянем на него с точки зрения аналитика.
Во-первых, субъект рассказывает сновидение, где в попытку проявлений его любовных порывов в адрес одной персоны из его прошлого вмешивается другая женщина, которая тоже сыграла свою роль в его истории - в гораздо более поздний период его детства, в возрасте тринадцати лет, он видел, как она мочится перед ним. Вмешательство аналитика происходит следующим образом - конечно, вам больше нравится проявлять интерес к женщине, наблюдая за тем, как она мочится, чем предпринимать усилия и добиваться другой женщины, которая, возможно, нравится вам, но замужем. Конечно, интерпретация несколько натянутая, поскольку мужской персонаж появляется только благодаря ассоциациям, но аналитик таким образом рассчитывает повторно привнести измерение истины, я имею в виду комплекс Эдипа. Привлечение фигуры предполагаемого мужа матери в целях повторной актуализации комплекса Эдипа следует признать совершенной провокацией, особенно если учесть, что отправил субъекта к аналитику её муж. Именно этот момент становится поворотным, далее происходит неуклонное преобразование фантазма наблюдения из формулы быть наблюдаемым в формулу наблюдать себя самого.
Во-вторых, как если этого было недостаточно, аналитик на просьбу субъекта замедлить ритм сессий отвечает ему: «Так вы проявляете свою пассивную позицию,

потому что вы очень хорошо знаете, что в любом случае вы ничего этим не добьётесь». В этот момент фантазм оформляется окончательно, в свете чего обнаруживается кое-что ещё. Когда субъект уяснил для себя ряд моментов, которые касаются его неспособности установить отношения с женским объектом, он останавливается на том, что развивает свои фантазмы внутри самой процедуры лечения и говорит, например, о своём страхе обмочиться на кушетке и т.д. Он начинает обретать реакции, которые показывают некоторое сокращение дистанции с реальным объектом, следит за ногами аналитика, и аналитик отмечает это с некоторым удовлетворением. Кое-что здесь действительно находится на грани реальной ситуации, в которой мы могли бы стать свидетелями появления матери не фаллической, но афалличной. В действительности в основе занятия фетишистской позиции лежит как раз то, что на определённом уровне своего исследования и наблюдения за женщиной по поводу наличия или отсутствия у неё органа, представляющего интерес, субъект останавливается.
Мало-помалу эта позиция приводит субъекта к заключению - Боже мой, остаётся только одно решение - спать с моим аналитиком. Он это говорит. Аналитик, чувствуя, что всё это начинает действовать ей на нервы, высказывается следующим образом: «Вы сейчас забавляетесь тем, что пугаете себя вещами, о которых прекрасно знаете, что они никогда не произойдут». В дальнейшем она обеспокоена вопросом -правильно ли я поступила, сказав так?
Действительно, каждый может усомниться в степени мастерства того, кто даёт такую интерпретацию. Это грубоватое напоминание об условиях аналитической ситуации полностью согласуется с представлением об аналитической позиции как реальной. Именно после этой интерпретации, которая расставляет вещи по своим местам, субъект переходит непосредственно к действию и находит в реальном прекрасное, особое место, а именно, как он говорит, маленькое туалетное заведение на Елисейских Полях. И на этот раз он реально располагается на правильной дистанции по отношению к объекту, который отделён от него стеной и который он может прямо видеть не как фаллическую мать, но как мать афалличную. Некоторое время вся его эротическая активность будет ограничена только этим, и он будет настолько удовлетворён, что заявит, что до этого открытия он жил как автомат, но сейчас всё изменилось.
Вот окончательный итог. Обобщая отчёт об этом наблюдении, я хотел дать вам возможность ощутить, что представление о дистанции по отношению к объекту-аналитику как к объекту реальному и представление о так называемом эталоне могут остаться не без последствий, которые в конечном итоге могут оказаться не самыми желательными.
Я вам не рассказываю, как заканчивается это лечение, его следует тщательно изучить, интерес для исследования представляет каждая его деталь. Последняя сессия отменяется, вдобавок субъекту приходится прооперировать варикоз. На этом всё. Скромная попытка доступа к кастрации и некоторая свобода, которая может возникнуть в результате неё. Считается, что этого достаточно, субъект возвращается к своей любовнице, которая на пятнадцать лет старше его, и поскольку он больше не говорит о своём высоком росте, предполагается, что фобия вылечена. К сожалению, теперь он не думает ни о чём другом, кроме размера своих ботинок. То они слишком велики, и он теряет равновесие, то слишком малы и жмут ему ноги. Таким образом завершается этот вираж преобразования фобии. Почему, в конце концов, не посчитать это окончанием

аналитической работы? С экспериментальной точки зрения в этом безусловно есть что-то небезынтересное.
Установление правильной дистанции по отношению к реальному объекту - это как знак принадлежности к кругу посвящённых - принимается как должное и достигает своей вершины в момент, когда субъект в присутствии аналитика чувствует запах мочи. Аналитик полагает, что в этот момент дистанция по отношению к реальному объекту -на протяжении всего наблюдения нам указывают на то, что проблема всех невротических отношений именно в этом - наконец точно установлена. Конечно, этот момент совпадает с апогеем перверсии.
Строго говоря, это не перверсия - и автор этого не скрывает - это скорее артефакт. Подобные феномены, хотя они могут быть постоянными и очень долговечными, всё же могут быть порой довольно неожиданно прийти к концу. Так происходит и в этом случае, когда через некоторое время субъекта за его занятием застаёт билетёрша, что в одночасье приводит к падению частоты посещений столь благоприятного места, которое так своевременно предложило ему реальное.
Да, реальное всегда своевременно предлагает всё, что нужно, когда мы наконец-то правильным образом устанавливаем правильное расстояние...
19 декабря 1956

Часть II Перверсивные пути проявления желания

глава 6 Приоритет фаллоса и юная гомосексуальная пациентка
Фрейд, девочка и фаллос Означающее Niederkommt Обманы бессознательного Служение Даме По ту сторону объекта
Сегодня мы переключимся на проблему, которая должна была встретиться нам гораздо раньше, если бы мы продвигались в нашем рассуждении поступательно, шаг за шагом. Это проблема перверсии, которая является с точки зрения анализа наиболее, в кавычках, проблематичной, и представляет собой женскую гомосексуальность.
Почему я говорю об этом сейчас? Отчасти в силу непредвиденных обстоятельств. Но понятно и то, что, посвятив этот год изучению объектных отношений, мы не смогли бы обойти женский объект стороной.
Проблема состоит не столько в том, чтобы выяснить, каким образом мы встречаемся с женским объектом в анализе. Проделанная работа достаточно хорошо показала нам неестественность субъекта этой встречи. Я продемонстрировал вам это в первой части семинара, напомнив, что женский субъект при встрече с мужчиной всегда призван выступить в роли чего-то вновь найденного, что сразу же ставит его в позицию, для которой характерна двойственность принадлежности к естественным отношениям и отношениям символическим. Я стараюсь показать вам, что именно в этой двойственности коренится аналитическое измерение.
Теперь вопрос в том, что об этом думает женский объект, то есть как складывается его путь, начиная с первых приближений к естественному и первичному объекту желания, а именно к материнской груди. Этот путь ещё менее естественен, чем у мужского субъекта. Как женский объект входит в эту диалектику?
Я не просто так называю сегодня женщину объектом, но именно потому, что в некоторый момент она должна войти в эту диалектику в качестве объекта. Как раз эта позиция и является наименее естественной, так как она является производной и представляет интерес только потому, что её занял субъект.
1
В анализе придаётся особенное значение женской сексуальности, потому что с её помощью удалось нанести поэтапную разметку на путь женщины и отметить вехи её судьбы.
Изначально натуральное и биологическое непрестанно переносится на план символического, где речь идёт о субъективном усвоении (assomption) постольку, поскольку сам субъект заключается в символической цепи. Именно здесь речь идёт о женщине как о субъекте, поскольку ей приходится делать выбор. Аналитический опыт учит нас, что, как бы то ни было, этот выбор касается компромисса между тем, чего следует достичь, и тем, что достигнуто быть не может. Женская гомосексуальность возникает всякий раз, когда обсуждается вопрос этапов, которые женщина должна пройти для достижения своей символической завершённости. По этому поводу мы

должны проработать ряд текстов, упорядочить то, что говорит Фрейд начиная с 1923 года, когда вышла в свет его статья Генитальная инфантильная организация.
В этом тексте Фрейд устанавливает в качестве принципа приоритет (primat) фаллического усвоения (assomption). Фаллическая фаза представляет собой заключительный этап первого периода инфантильной сексуальности, который завершается с началом латентного периода. Эта фаза является типичной как для мальчиков, так и для девочек. Из неё генитальная организация выводит свою формулу. Она достижима для обоих полов. При этом обладание или не обладание фаллосом является изначальным различительным элементом. Таким образом, не существует мужской и женской реализации, есть тот, кто наделён фаллическим атрибутом, и тот, кто обездолен в обладании им, быть обездоленным рассматривается как эквивалент быть кастрированным.
Я уточняю - как для одного, так и для другого пола это основано на недоразумении ( maldonne ), Misslingen, а это недоразумение основано на невежестве ( ignorance ) - речь не идёт о незнании (méconnaissance), но именно о невежестве, с одной стороны, о невежестве в отношении оплодотворяющей роли мужской спермы и, с другой стороны, о невежестве в отношении существования женского органа как такового.
Эти далеко идущие заявления требуют истолкования, чтобы быть понятыми. Перед нами не описание, сделанное на уровне реального опыта.
Позже многие авторы выдвинули на это свои - надо сказать, весьма нестройные -возражения. Изрядное количество фактов приводит нас к признанию того, что многие, по меньшей мере среди девочек, отдают себе отчёт если не в реальном значении мужчины в акте продолжения рода, то по крайней мере в существовании женского органа. Едва ли можно оспорить, что в раннем (précoce) опыте маленькой девочки происходит нечто связанное с вагинальной локализацией, где может возникать возбуждение; имеет место и ранняя вагинальная мастурбация. Это было обнаружено по крайней мере в ряде случаев. В связи с этим мы задаёмся вопросом: действительно ли фаллическая фаза у девочек обязана своим главенствующим положением (prédominance) существованию клитора; действительно ли либидо - будем считать этот термин синонимом любого эрогенного опыта - изначально и исключительно сконцентрировано на клиторе и распространяется на другие области лишь в процессе дальнейшего продолжительного и болезненного перемещения, которое требует длительного обходного пути?
Совершенно недопустимо рассматривать утверждение Фрейда в таких терминах, иначе появляется слишком много противоречащих друг другу фактов, позволяющих выдвинуть всевозможные возражения, подобные тому, что сделала, например, Карен Хорни. Эти возражения обслуживают реалистичные представления о том, что любое незнание (méconnaissance) предполагает в бессознательном определённое знание (connaissance) о сочетаемости (coaptation) двух полов, согласно которому преобладание у девушки органа, которого у неё нет, возможно только на почве определённого отрицания существования влагалища, которое следует принимать в расчёт. Исходя из этих гипотез, принятых a priori, предприняты усилия проследить происхождение условий фалличности в случае девочки. Погрузившись в детали, мы обнаружим, что речь идёт лишь о реконструкции, необходимость которой продиктована рядом теоретических положений, отчасти сформулированных самим автором и основанных на недопонимании утверждения Фрейда. Ссылка автора на решающий факт изначальности

опыта вагинального органа отмечена неуверенностью и приводится очень осторожно и сдержанно.
Утверждение Фрейда опирается на опыт. Он делает его осторожно, даже с долей неуверенности, так характерной для его изложения этого открытия, тем не менее это положение утверждается им в качестве изначального. Это исходный пункт. Парадоксальное утверждение фаллицизма является тем стержневым моментом, вокруг которого должна развиваться теоретическая интерпретация. Именно так мы и постараемся поступить.
Через 8 лет, в 1931 году, Фрейд пишет о женской сексуальности ещё более грандиозную работу, в которой он развивает своё утверждение 1923 года. В этот период, среди его учеников возникает чрезвычайно активная дискуссия с большим количеством умозаключений, следы которых можно найти у Карен Хорни, Джонса и других авторов, и которые представляют собой настоящие дебри заблуждений. После того, как я должен был посвятить себя этим трудам во время каникул, я бы сказал, что крайне затруднительно иметь дело с таким материалом, не искажая его, ввиду крайне неумелого использования авторами (immatrisé) задействованных в нём категорий.
Для того, чтобы составить представление о той дискуссии и разобраться в ней, нет иного способа, как её упорядочить (maîtriser), а упорядочить её означает полностью изменить её направление и суть, что не позволит обнаружить ту перспективу, о которой на самом деле идёт речь. Эта проблема непосредственно связана со второй целью нашей работы в этом году, которая состоит в том, чтобы параллельно с теоретическим исследованием объектных отношений, показать, насколько безнадежно сама аналитическая практика сбилась здесь с курса.
Утром мне показалось, что для того, чтобы проиллюстрировать конкретный аспект, которым мы сегодня занимаемся, из всей груды фактов стоит выделить один показательный образ, найденный мной в одной из этих статей.
Все авторы признают, что на обходном пути своего развития маленькая девочка в момент, когда она входит в Эдип, начинает желать ребенка от отца, как замену недостающего фаллоса. Разочарование от невозможности его получить играет принципиально важную роль в том, чтобы заставить её свернуть с этого парадоксального пути, который привел её к Эдипу, пути идентификации с отцом, на путь возврата к женской позиции. Чтобы показать в связи с этим, что лишение желанного от отца ребёнка может, взаимодействуя с наличными обстоятельствами, ускорить эдипов процесс, который для нас остается в принципе бессознательным, один из авторов приводит пример анализа маленькой девочки, которая, по его мнению, разбиралась в том, что происходит в её бессознательном, лучше многих других. Ему сообщили, что по утрам девочка просыпалась с вопросом: появился ли маленький ребёнок от отца, появится ли он уже сегодня или появится завтра? Это происходило каждое утро и сопровождалось негодованием и плачем.
Этот пример кажется мне показательным для прояснения того отклонения психоаналитической практики, на которое мы постоянно обращаем внимание в нашем исследовании объектных отношений. Здесь мы можем заметить определённый способ осмысления и борьбы с фрустрациями, который на самом деле является способом вмешательства, эффекты которого не только сомнительны, но и с очевидностью противоположны тому, что имеет место в процессе аналитической интерпретации.

Опираться на представление о том, что ребёнок от отца появляется в данный момент развития в качестве воображаемого объекта, заменяющего недостающий фаллос, играющий в развитии девочки важнейшую роль, мы можем не всегда и не каким угодно образом. Оно приобретает своё значение только по прошествии некоторого времени или даже в текущий период при условии, что ребёнок, поскольку субъект имеет с ним дело, вступает в игру серии символических резонансов, сказывающихся на тех посессивных и деструктивных реакциях, которые пережил субъект в прошлом в момент фаллического кризиса, со всеми теми проблемами, которые влечёт за собой этот кризис насоответствующем этапе. Короче говоря, всё, что имеет отношение к приоритету или преобладанию фаллоса в детский период развития, сказывается лишь впоследствии.
Фаллос приобретает своё значение только в силу того, что в определённый момент он становится необходимым, чтобы символизировать некоторое событие, будь то позднее рождение ребёнка у того, кто находится в ближайших отношениях с субъектом, или возникающий у самого субъекта вопрос о собственном материнстве, о том, чтобы завести ребёнка. Ввести элемент, не вписанный в символическую структуру субъекта, спровоцировать словом, в символическом плане, определённую связь воображаемого заменителя с тем, что субъект переживает в этот момент совершенно иначе, значит санкционировать его организацию, дать ему определенную легитимность. Это значит увековечить фрустрацию как таковую и поместить её в центр опыта.
Теория гласит, что фрустрация как таковая не может быть включена в интерпретацию, поскольку происходит на уровне бессознательного. Фрустрация изначально является преходящим моментом. Лишь для нас, аналитиков, она, в чисто теоретическом плане, исполняет функцию артикуляции того, что произошло. Её осознание субъектом по определению исключено, поскольку она чрезвычайно неустойчива. Фрустрация в том виде, в котором она изначально переживается, имеет значение и представляет интерес лишь постольку, поскольку открывает доступ к одному из двух планов, которые я для вас обозначил: кастрации и лишения.
На самом деле именно кастрация включает в свой порядок истинную необходимость фрустрации и является тем, что возводит и располагает её на уровне закона, тем самым придавая ей другое значение.
Кроме этого, кастрация оправдывает существование лишений, поскольку идея лишения никак не постижима в плане реального. Лишение может быть по-настоящему постигнуто только существом, способным сформулировать что-то в плане символического.
Всё это хорошо заметно в поддерживающих интерпретациях, представляющих собой терапевтические вмешательства, которые, например, делает ученица Анны Фрейд в случае маленькой девочки, о котором я в прошлый раз вкратце говорил.
У этой маленькой девочки, как вы, наверное, помните, предварительные очертания фобии проявились тогда, когда она переживала действительное лишение чего-то определённого, и это противоположно условиям ситуации ребёнка из сегодняшнего примера. Я показал вам, почему эта фобия была вынужденным манёвром и где нужно искать её первопричину - не в том факте, что у девочки не было фаллоса, но в том, что мать не могла его ей дать, и более того, не могла дать потому, что сама его не имела.
Воздействие (intervention) психотерапевта состояло в том, чтобы сказать ребёнку -и она права - что все девочки такие. Здесь можно предположить, что дело касается

обращения к реальному, но это не так. Ребёнок прекрасно знает, что у неё нет фаллоса, но не знает, что это в порядке вещей. Вот чему учит её терапевт. Это переводит нехватку в символический план закона. Тем не менее вмешательство неоднозначное, и терапевт не преминула усомниться в его мимолётной эффективности. Фобия ещё более расцветает и сходит на нет только тогда, когда ребёнок оказывается включен в полную семью.
Почему? В принципе, у неё, напротив, должна была бы проявиться ещё более сильная фрустрация, чем раньше, поскольку она сталкивается с отчимом, с тем мужчиной, который становится мужем её матери, бывшей до тех пор вдовой, и его сыном, ставшим для неё старшим братом. Если фобия в этих условиях сходит на нет, то именно потому, что субъект больше не нуждается в том, чтобы в символическом цикле восполнять отсутствие фаллообразного (phallophorme) элемента, то есть мужчин.
Эти критические замечания относятся прежде всего к использованию термина фрустрация. Такое использование оправдано тем фактом, что сутью этой диалектики является, скорее, нехватка объекта, чем сам объект. Таким образом фрустрация, на первый взгляд, является ответом на некоторое концептуальное представление. Но речь здесь идет о нестабильности диалектики самой фрустрации.
Фрустрация - это не лишение. Почему? Фрустрация случается, когда некто лишает вас той вещи, которую именно у него вы могли бы попросить. Объект играет здесь меньшую роль, чем любовь того, кто может преподнести вам этот дар. Объект фрустрации является в большей степени даром нежели объектом.
Здесь мы оказываемся у истока диалектики фрустрации, поскольку она ещё сохраняет по отношению к символическому некоторую дистанцию. Этот изначальный момент всегда является мимолетным (évanouissante). В действительности поначалу дар предоставляется в каком-то смысле безвозмездно. Он приходит от другого. То, что стоит за другим, вся подоплёка того, почему произошло одаривание, пока остаётся неизвестным, и только впоследствии субъект сможет понять, что в отличие от того, как это выглядело на первый взгляд, дар имеет гораздо более сложный смысл, что он соотносится со всей символической цепью. Сначала есть только взаимодействие (confrontation) с другим и возникающий в этом взаимодействии дар.
Дар, преподнесённый как таковой, в любом случае, скрадывает объект как объект. Если требование удовлетворено, то объект уходит на второй план. Если требование не удовлетворено, объект всё равно исчезает.
Есть только одна разница: если требование не удовлетворено, объект меняет значение. Что на самом деле оправдывает существование слова фрустрация? Нет фрустрации - это подразумевается в самом слове - если субъект не вправе притязать на обладание объектом. Объект в этот момент включается в то, что можно назвать нарциссической зоной принадлежностей субъекта.
Подчёркиваю, что в обоих случаях момент фрустрации является моментом исчезновения. Он вскрывает нечто такое, что отбрасывает нас в иной план, нежели план простого желания. Требование, действительно, обладает хорошо известной в человеческом опыте чертой - его как таковое никогда не удаётся по-настоящему полностью удовлетворить. Удовлетворённое или нет, оно исчезает (s'annihile), истребляется (s'anéantit) на следующем этапе и тотчас перебрасывается в другое место: или в артикуляцию символической цепи даров, или в замкнутый, абсолютно неутолимый регистр, называемый нарциссизмом. Из-за чего для субъекта объект - это

одновременно он сам и не он сам, и потому удовлетворить его никогда не сможет, поскольку это он и не он одновременно. Фрустрация входит в диалектику, которая легализует её и сообщает ей измерение произвольности. Это является необходимым условием для установления символизированного порядка реального, где субъект может, например, признать существующими и допустимыми некоторые постоянно действующие лишения.
Непонимание этого условия, различные реконструкции опыта и эффекты, связанные с фундаментальной нехваткой объекта, которые дают о себе здесь знать, заводят в целую серию тупиков. Ошибкой является выводить всё из желания как чисто личностного элемента, из желания как из того, что влечёт за собой реакции удовлетворения и разочарования. Тогда как любая последовательность событий в опыте может быть постигнута только на основе изначально принятого положения о том, что ничто не может быть сформулировано, выстроено и установлено, ничто не становится конфликтом, подлежащим анализу, если не связано с тем первоначальным моментом, когда субъект вступает в порядок символов, порядок закона, в порядок символического, в порядок символической цепи, в порядок символического долга. Только после этого вхождения субъекта в порядок, появление которого предшествует всем происходящим с ним событиям, удовлетворениям и разочарованиям, всё то, что он проживает в своём опыте - то неопределённое, что до тех пор было так называемым переживанием -организуется, формулируется, обретает свой смысл и может быть проанализировано.
Пусть это напоминание останется только напоминанием. Для того, чтобы по достоинству оценить его, я не могу предложить вам ничего лучшего, чем взять несколько текстов Фрейда и просто-напросто их прочитать.
2
Вчера некоторые говорили о неясной стороне и порой даже странной диковинности некоторых текстов Фрейда. По непонятным причинам упоминалось о наличии в них элементов авантюры и вдобавок дипломатии. Это привело меня к тому, чтобы выбрать для вас и принести сюда один из самых блестящих текстов Фрейда, я бы сказал, один из самых будоражащих. При этом считается, что он может показаться архаичным и даже старомодным. Это Психогенез одного случая женской гомосексуальности.
Я напомню вам основные моменты этого текста.
Речь идёт о девушке из хорошей венской семьи. Отправить кого-то из хорошей венской семьи к Фрейду в 1920 году означало решиться на довольно серьёзный шаг. И если таковой был предпринят, то по той причине, что домашняя, восемнадцатилетняя, красивая, интеллигентная, высокообразованная и воспитанная девушка стала предметом беспокойства своих родителей. Происходит нечто исключительно странное: она ухаживает за женщиной, на десять лет старше неё, из числа так называемых «светских дам». Всевозможные детали, предоставленные семьёй, указывают на то, что этот «свет» должен быть квалифицирован скорее как полусвет, и по классификации, принятой тогда в Вене, этот слой общества почитался респектабельным.
Привязанность юной девушки, которая по ходу развития событий стала по-настоящему страстной, доводит её до весьма болезненного обострения отношений с семьёй. В дальнейшем мы узнаём, что ситуация сложилась не без участия этих

отношений. Вообще говоря, тот факт, что отец впадает в абсолютное бешенство от её отношений, заставляет юную девушку не отказаться от этой страсти, но лишь вести себя определённым образом. Я имею в виду методичность вызова, с которым она продолжает свои ухаживания за упомянутой дамой. Девушка поджидает её на улице и частично обнаруживает свой замысел, не нарочито, но достаточно для того, чтобы родители заметили, поскольку они ничего не упускали из виду, особенно отец. Также мы узнаём, что её мать не совсем безмятежна, что она невротична, но не воспринимает это как нечто болезненное или по крайней мере серьёзное.
Фрейда просят всё это уладить. Тот очень чётко понимает трудности, связанные с установкой на лечение, когда речь идет об удовлетворении требований окружающих, и даёт ясно понять, что не делает анализ на заказ в стиле производства строительных работ при возведении виллы. Впоследствии он сделает ещё более экстраординарные замечания о психоанализе, которые, однако, покажутся некоторым довольно устаревшими.
Фрейд уточняет, что этот анализ дал возможность заглянуть очень, очень далеко, хотя и не был завершён, и именно по этой причине он рассказывает нам об этом случае. Безусловно, говорит он, анализ не привёл к большим изменениям в судьбе этой юной девушки. И чтобы объяснить это, Фрейд вводит идею, которая не лишена оснований, хотя и может показаться устаревшей. Эта схематично представленная идея скорее побуждает нас вернуться к некоторым исходным данным, нежели упрощает задачу. Идея заключается в том, что в анализе существует два этапа - на первом собирается всё, что только можно узнать, на втором этапе речь идёт о смягчении сопротивлений, которые всё ещё прекрасно сохраняются несмотря на то, что субъект уже многое узнал.
Тут Фрейд делает одно из своих наиболее изумительных сравнений - собрать перед путешествием чемодан всегда является довольно сложной задачей, но после этого остаётся только взять его и отправиться в путь. Для человека, имеющего фобию железных дорог и путешествий, это довольно пикантное замечание.
Но ещё более поразительным является то, что в течение всего этого времени его не покидает чувство, что на самом деле ничего не действует. С другой стороны, он очень хорошо видит то, что произошло, и выделяет определённое количество этапов.
В детстве пациентки был эпизод - и выглядит так, что он не прошёл без последствий - когда она в сравнении со старшим из своих братьев обнаружила у себя отсутствие по-настоящему желаемого объекта, объекта фаллического. Тем не менее, говорит нам Фрейд, она до настоящего времени никогда не проявляла признаков невротичности, в анализе не упоминалось об истерических симптомах, ничего в истории детства не привлекало внимания с точки зрения патологических последствий. И именно поэтому поразительно увидеть в клиническом плане довольно запоздалую вспышку откровенно ненормального, в глазах окружающих, поведения и особую позицию, которую она занимает по отношению к этой несколько очернённой женщине.
Страстная привязанность достигает пика и приводит девушку в кабинет Фрейда. На самом деле она оказалась вынуждена прийти и положиться на него по причине одного примечательного события.
Юная девушка, заигрывая по своему обыкновению с опасностью, прогуливалась с дамой чуть ли не под окнами своего дома. Однажды они встретили отца. Поскольку он общался с другими людьми, то лишь бросил на женщин гневный взгляд и прошёл мимо. Дама спросила, кто этот человек, и девушка ответила: «Это папа, у него недовольный

вид». Дама реагирует весьма резко. До этого момента она вела себя с девушкой очень сдержанно, даже холодно, совсем не поощряла её ухаживания и не имела особенного желания усложнять себе жизнь. И она произносит: «В таком случае мы больше не увидимся». В Вене есть несколько видов кольцевых железных дорог. Поблизости, над одной из них есть маленький мост. И вот девушка бросается с него вниз. Она падает, niederkommt, получает незначительные переломы, но поправляется.
Вообще-то, говорит нам Фрейд, до появления этой привязанности развитие девушки происходило в совершенно нормальном направлении, более того, есть все основания предполагать, оно следовало безупречным ориентирам. Не подавало ли её поведение в возрасте около тринадцати-четырнадцати лет все основания ожидать в будущем благоприятной ориентации на женское призвание к материнству? Она так заботливо нянчила маленького мальчика, сына друзей своих родителей, что это даже послужило поводом для сближения двух семей. Однако эта любовь, которая казалась бы развивает материнскую модель, внезапно заканчивается, и именно в этот момент начинается общение с женщинами, которых Фрейд называет «зрелыми» и которые, похоже, являются материнскими субститутами. То есть «любовное приключение», о котором идёт речь, случается в жизни девушки не первый раз.
Тем не менее, для самой участницы драматического приключения, которое оборачивается началом анализа, это не имеет особого значения, равно как и обозначенная проблема гомосексуальности. Субъект и в самом деле заявляет Фрейду, что не рассматривает возможность отказаться ни от своих притязаний, ни от своего выбора объекта. Она будет делать всё возможное, чтобы обманывать семью, и продолжит поддерживать отношения с персоной, к которой она не утратила привязанности и которая, будучи весьма тронутой таким необыкновенным знаком преклонения, стала гораздо более к ней расположена.
По поводу этих подтверждённых и поддерживаемых субъектом отношений Фрейд делает ряд поразительных замечаний, с помощью которых он объясняет причины либо того, что происходит до начала лечения, например, попытку самоубийства, либо причины собственного провала. Объяснение первых кажется очень уместным. Объяснение вторых тоже, но, может быть, не совсем в том смысле, который имеет в виду он сам. Качество наблюдений Фрейда всегда обеспечивает нас чрезвычайной точностью даже в отношении тех моментов, которые он сам каким-то образом упустил. Я намекаю в данном случае на отчёт о наблюдении Доры, где Фрейд впоследствии ясно увидел, что ошибся с ней, когда не смог распознать гомосексуальность, а точнее её вопрос относительно своего пола. Здесь мы констатируем такого же рода упущение, только более глубокое и поэтому гораздо более поучительное.
Не менее интересны и другие сделанные, но не разработанные в полной мере Фрейдом, замечания по поводу попытки самоубийства, которая становится знаковым поступком (acte significatif), увенчавшим кризис. Напряжение субъекта нарастает до тех пор, пока не возникает столкновение и не случается катастрофа.
Как это объясняет Фрейд? Отталкиваясь от нормальной направленности субъекта на желание иметь ребёнка от отца. Именно в этом регистре, согласно его мнению, следует искать изначальный сбой, который сориентировал субъекта в строго противоположном направлении. Фрейд пытается сформулировать условия сущностного переворота субъективной позиции. Это один из тех случаев, когда разочарование по причине недоступности объекта желания приводит к полному перевороту позиции, в

результате которого субъект идентифицирует себя с этим объектом. В сноске Фрейд приравнивает такую идентификацию к регрессии в нарциссизм. Когда я представляю диалектику нарциссизма как отношения собственного Я и маленького другого, я не делаю ничего другого, кроме как перевожу на очевидный уровень то, что имплицитно содержится во всех замечаниях Фрейда на эту тему.
Итак, в чём состоит разочарование, которое производит переворот? В возрасте ближе к пятнадцати годам, когда пациентка была увлечена перспективой обладания воображаемым ребёнком - а она достаточно озабочена этим эпизодом, чтобы мы могли признать его важным пунктом её истории, - её мать в этот момент действительно получает ещё одного ребёнка от отца. У пациентки появляется третий брат. Вот ключевой момент.
Судя по всему, в этом заключается особенность этой истории. Не так часто появление младшего брата приводит к настолько основательному перевороту сексуальной ориентации субъекта. Но в данном случае девочка меняет позицию именно в этот момент. Теперь дело в том, чтобы увидеть, где это проинтерпретировано лучшим образом.
По мнению Фрейда, нужно рассмотреть этот феномен в качестве реактивного. Этого термина нет в тексте, но он подразумевается, поскольку Фрейд предполагает, что обида на отца остаётся. Она играет главную роль. Этот стержневой для всей ситуации момент полностью объясняет характер развития событий. Девочка испытывает чётко выраженную агрессию в адрес отца. Попытка самоубийства происходит в результате разочарования, вызванного тем, что случается противостояние с объектом её гомологической привязанности. Речь идёт только о контр-агрессивности, о перенаправлении агрессии к отцу на самого субъекта в сочетании со своего рода обвалом всей ситуации до уровня примитивных данных, которое символически соответствуют осаждению, понижению до степени по-настоящему задействованных объектов. Короче говоря, когда юная девушка бросается вниз с маленького моста, она производит символический акт, который является ничем иным, как те^егкоттеп (выпадением) ребёнка во время родов.
Так мы обнаруживаем окончательный и исконный смысл всего положения дел.
3
Во второй серии замечаний Фрейд объясняет, почему ситуация не получила своего разрешения в процессе лечения.
Поскольку сопротивление, говорит он, не было преодолено, всё, что ни говорилось пациентке, вызывало её огромный интерес, но при этом она не отказывалась от важных для себя позиций. Она сохраняла то, что сегодня называется интеллектуальной заинтересованностью. Фрейд метафорически сравнивает девушку с дамой, которая, рассматривая различные предметы с помощью своего лорнета, восклицает: «Как это мило!».
Тем не менее Фрейд отмечает, что нельзя говорить о полном отсутствии переноса. Он с большой проницательностью улавливает присутствие переноса в сновидениях пациентки. Одновременно с недвусмысленными заявлениями пациентки о своей решимости ничего в своих отношениях с дамой не менять, её сновидения повествуют о поразительном возрождении более привлекательной ориентации в ожидании появления прекрасного и заботливого супруга, равно как и плода их любви. Короче

говоря, нарочито идиллический образ мужа в сновидении проявил себя настолько соответствующим усилиям всего предприятия, что, не будучи Фрейдом, можно было бы преисполниться самыми благоприятными ожиданиями.
Фрейд так не ошибается. Он усматривает здесь перенос. Это обманчивое измерение игры в ловлю на живца, которую она ведёт в ответ на разочарование, причинённое отцом. В действительности она не вела себя по отношению к нему только агрессивно, вызывающе и бесстыдно, она уступала ему. Дело было только в том, чтобы показать отцу, что она его обманывала. Фрейд понимает, что в этих сновидениях речь идёт о чём-то подобном, что в этом и состоит их значение в части переноса - она воспроизводит с ним свою фундаментальную модель, жестокую игру, которую вела с отцом.
Здесь мы не можем не учитывать принципиально присущую символическому образованию относительность, поскольку это основополагающее для нас измерение формирует поле бессознательного.
Фрейд очень чётко выражается на этот счёт, и его промах состоит только в том, что он делает слишком сильный акцент: «Я считаю, что намерение ввести меня в заблуждение было одним из образующих это сновидение элементов. Это было попыткой заинтересовать и расположить меня, вероятно для того, чтобы впоследствии ещё глубже меня разочаровать».
Здесь суть намерения, вменяемого субъекту, проявляется в том, чтобы заставить Фрейда рухнуть с высоты своего положения, чтобы он упал тем ниже, чем дальше удастся его заманить. Акцент этой фразы не оставляет сомнений в присутствии того, что мы называем контрпереносом. Сновидение обманывает. Фрейд учитывает только это и сразу же вступает в увлекательную дискуссию, которую так удивительно от него услышать. Он заранее предвидит возражения в ответ на то, что типичное проявление бессознательного может обманывать. «Если и бессознательное нам лжёт, чему остается верить?» - спросят ученики. Он предоставляет им длинное объяснение, в котором показывает, как такое может произойти и откуда следует, что это нисколько не противоречит теории.
Объяснение немного тенденциозное, но в нём, тем не менее есть то, что Фрейд выводит на первый план в 1920 году, а именно следующее - сутью того, что происходит в бессознательном, являются отношения субъекта с Другим как таковым, и в саму основу этих отношений включена возможность их осуществления на уровне лжи. В анализе мы находимся в порядке лжи и истины.
Фрейд очень хорошо это понимает. Но, похоже, кое-что от него ускользает, а именно то, что речь здесь идёт о настоящем переносе и что ему открывается путь к интерпретации желания обмануть. Но вместо того, чтобы заступить на этот путь, он, грубо говоря, принимает происходящее как направленное против него.
«Это тоже, - говорит он, - попытка охомутать, пленить, очаровать меня». Эта фраза ещё красноречивее. Должно быть она восхитительна, эта юная девушка, поскольку, как и с Дорой, Фрейд не смог полностью абстрагироваться. Уверяя, что его ждет худшее, он хочет избежать разочарования. Это означает, что он уже совершенно подготовлен к самообману. Предостерегая себя от иллюзий, он уже вступил в игру. Он принимает участие в воображаемой игре, но превращает её в реальную, оказываясь внутри неё. И это не остаётся без последствий.

Как он интерпретирует происходящее? Он говорит юной девушке, что она хочет обмануть его так же, как привыкла обманывать своего отца. Тем самым он пресекает то, что осознал, как воображаемую связь. Его контрперенос в определённом смысле мог бы оказаться ему полезен, но при условии, что он бы контрпереносом не был, то есть что сам он ему не доверился бы, в нём бы не оказался. Но в той степени, в которой Фрейд в нем оказывается и предлагает свою преждевременную интерпретацию, желание девушки переходит в реальное, хотя это было только желанием, а вовсе не намерением, обмануть. Он предоставил этому желанию тело. Он разговаривает с ней, как говорил бы терапевт с маленькой девочкой, придавая вещи символический статус.
Вот в чём состоит суть этого соскальзывания психоанализа в воображаемое, которое, с тех пор как была принято в качестве догмы, всё больше становится его проблемой, западнёй. В тексте мы видим подтверждающий это, предельно ясный пример, который мы не можем обойти стороной. Давая свою интерпретацию, Фрейд провоцирует и снабжает телом конфликт, в то время как дело - он и сам чувствовал это - было совершенно в другом, именно в том, чтобы выявить имевший место в бессознательном обманный дискурс. Фрейд же говорит ей, что всё направлено против него, поэтому лечение дальше особо не продвигается и в итоге прерывается. Желая соединить, Фрейд разлучает.
Есть ещё одна гораздо более интересная вещь, которая была отмечена, но не проинтерпретирована Фрейдом - это природа страсти юной девушки по отношению к той персоне, о которой идёт речь.
Для него не осталось незамеченным, что в действительности эти гомосексуальные отношения не похожи на прочие, хотя на самом деле в гомосексуальных отношениях могут проявляться как вся вариативность гетеросексуальных отношений, так и некоторые дополнительные вариации. Поясняя этот выбор объекта, который происходит чётко по männlich, мужскому типу, и объясняя нам, что этот выбор значит, Фрейд прекрасно подмечает и замечательно формулирует то, что речь здесь идёт о платонической любви в наивысшем её проявлении.
Эта любовь не взыскует никакой иной возможности удовлетворения, кроме служения даме. Это по-настоящему священная любовь, если можно так выразиться, или куртуазная любовь в самом благочестивом её смысле. Он добавляет несколько слов, таких как Schwärmerei, которое имеет особое значение в культурной истории Германии - это восторженность, лежащая в основе отношений. Короче говоря, он возводит связь юной девушки с дамой в наиболее высокую степень символизированных любовных отношений, полагаемых как служение, как образец, эталон. Это не просто проходящее увлечение или потребность, это любовь, которая не только проходит мимо возможности удовлетворения, но которая нацелена ровно на неудовлетворение. Именно это и является тем самым измерением, в котором может расцвести идеальная любовь, измерением нехватки в объектных отношениях.
Безусловно, ситуация этого случая исключительная, но она представляет интерес только будучи помещённой в правильный для её рассмотрения регистр. Она исключительная, потому что это частный случай. Это означает, что она проясняется в условиях надлежащего применения категорий нехватки объекта. В таком случае, не замечаете ли вы здесь переплетения по типу узла трёх уровней процесса, который продвигается от фрустрации к симптому - симптому, который мы, обращаясь к нему с вопросом, понимаем здесь как загадку?

Прежде всего мы имеем здесь непосредственную отсылку к воображаемому объекту. Речь идёт о ребёнке. Интерпретация позволяет нам рассматривать его как ребёнка, полученного от отца. Как нам уже было сказано, в действительности гомосексуалисты, вопреки тому, что о них можно подумать, но в соответствии с тем, что анализ делает очевидным, являются субъектами с очень сильной фиксацией на отце.
Почему случается настоящий кризис? Потому что вторгается реальный объект. Отец действительно дарит ребёнка, но дело в том, что получает его кто-то другой, тот, кто ему ближе.
Именно это и производит настоящий переворот. Нам показан механизм. Но я полагаю, что крайне важно отдавать себе отчёт в том, что он был заранее организован в плане символического. Именно в плане символического, но не в плане воображаемого, субъект удовлетворялся ребёнком как ребёнком, полученным от отца. То, что поддерживало её отношения с женщинами, уже было задано отцовским присутствием, отцом-основанием, отцом-твердыней, отцом, который навсегда останется для неё мужчиной, который даст ей ребёнка. Присутствие реального ребёнка, само его появление как реального объекта, материализованного тем фактом, что поблизости его получает её же мать, переводит её в план фрустрации.
Что является наиболее важным из того, что происходит тогда? Является ли таковым переворот, который приводит её к идентификации с отцом? Разумеется, это сыграло свою роль. Влияет ли это на тот факт, что она сама становится этим ожидаемым ребёнком, который действительно п!е1^егкотт1 (выпадает), когда кризис достигает своего пика? Возможно, мы могли об этом судить, если бы знали по истечении скольких месяцев это произошло, если бы у нас были даты, как в случае Доры. Но это не самое важное. Самое важное то, что желаемое расположено по ту сторону любимой женщины.
Любовь, которую девушка посвящает даме, нацелена на нечто другое, нежели она сама. Выглядит так, что неспроста Фрейд закрепляет эту любовь - которая непосредственно принадлежит порядку преданности субъекта и доводит его привязанность и упразднение себя в Sexualuberschatzun до высшей степени - за регистром мужского опыта. Такая любовь расцветает, как правило, в очень развитой и хорошо организованной культурной среде. Осмысление фундаментального разочарования на этом уровне, переход на план куртуазной любви, выход, который находит субъект в этом любовном регистре, ставят вопрос о том, что именно любимо в женщине по ту сторону её самой. Вот вопрос, затрагивающий самую суть того, что является действительно основополагающим во всём, что относится к любви в её совершенной форме.
В любимой женщине для девушки желанно, по сути, то, чего ей самой не хватает. А то, чего в данном случае ей не хватает, это тот исконный объект, которому субъект собирался найти воображаемую замену в виде ребёнка и к которому он возвращается.
На пике влюблённости, в любви наиболее идеализированной в женщине взыскуется то, чего ей не хватает. То, что взыскуется по ту её сторону, это центральный объект всей либидинальной экономики - фаллос.
9 января 1957

глава 7 «Ребёнка бьют» и юная гомосексуальная пациентка
Интерсубъективность и десубъективация
Образ, матрица перверсии
Символическое измерение дара
Фрустрация, любовь и наслаждение
Перестановочная схема случая
В прошлый раз мы остановились на попытке обобщить случай женской гомосексуальности, представленный Фрейдом. Заодно с его перипетиями я мимоходом обозначил то, что можно назвать его структурой, поскольку, если бы мы не подвергли его структурному анализу, этот случай остался бы не более чем живописной зарисовкой.
Стоит вернуться к этому структурному анализу, поскольку только продвижение в нём как можно дальше представляет интерес для психоанализа.
Мне кажется, в аналитической теории даёт о себе знать некоторая нехватка. И будет нелишним напомнить вам, что старания наши как раз на то и направлены, чтобы на эту нехватку откликнуться.
Эта ощущаемая повсюду нехватка снова недавно возникла в моём сознании при сопоставлении положений Мадемуазель Анны Фрейд и Мадам Мелани Кляйн.
Конечно, Мадемуазель Анна Фрейд с тех пор порядочно разбавила своё вино водой, но в основу принципов её анализа детей легли замечания о том, что в работе с ребёнком перенос, уж во всяком случае невроз переноса, возникнуть не может. Когда дети только входят в учредительную ситуацию невротических напряжений, в первичные отношения с родителями, которые только устанавливаются, рано, по её мнению, говорить о переносе в собственном смысле слова.
Другое замечание в том же ключе - когда дети ещё пребывают в отношениях с объектами своей изначальной (inaugural) привязанности, аналитик должен изменить свою позицию и в значительной степени пересмотреть свою технику, принимая во внимание факт своего вмешательства в актуальный процесс.
В этом отношении Мадемуазель Анна Фрейд отдаёт дань уважения и предвосхищает важную роль функции речи в аналитических отношениях. Ребёнок, по её словам, находится в иных отношениях с речью, нежели взрослый, и должен вовлекаться в процесс с помощью подходящих ему игровых техник. Ситуация не позволяет аналитику соблюдать по отношению к ребёнку нейтральную или воспринимающую (réceptivité) позицию, в которой он прежде всего ожидает и приветствует речь, позволяя ей разворачиваться, а при случае вторит ей. Таким образом, я бы сказал, что причастность аналитика к другим отношениям, нежели к отношениям с речью, хотя и отмечена, но не развивается и по-настоящему не рассматривается.
Мадам Мелани Кляйн в своих аргументах, напротив, указывает на то, что нет ничего более похожего на анализ взрослого, чем анализ ребёнка, и что даже в самом раннем возрасте то, что касается бессознательного ребёнка, в противоположность тому, о чём говорит Мадемуазель Анна Фрейд, не имеет ничего общего с реальными родителями. Уже между двумя с половиной и тремя годами ситуация по отношению к тому, что можно наблюдать в реальных отношениях, кардинально меняется -развивается драматизация, глубоко чуждая действительности семейных отношений

ребёнка. Как, например, в истории субъекта, который воспитывался в качестве единственного ребёнка у своей пожилой тёти, живущей далеко от его родителей, что ограничило его дуальными отношениями с одной персоной, и тем не менее не помешало воспроизвести семейную драму в полном объёме с участием отца, матери и даже соперников, братьев и сестёр, - я цитирую. Таким образом, то, что подлежит прояснению в анализе, в своей основе не имеет прямого отношения к реальному, но непосредственно вписано в символизацию.
Должны ли мы согласиться с утверждениями Мадам Мелани Кляйн? Её утверждения опираются на её опыт, а этот опыт описан для нас в наблюдениях, в которых порой встречаются весьма странные вещи. Мы как будто заглядываем в котёл ведьмы или ворожеи, на дне которого во всеобъемлющем воображаемом мире, порождённом идеей вместилища материнского тела, бурлят изначально присутствующие первичные фантазмы (fantasmes primordiaux), и весь этот механизм, направляя структуризацию, как кажется, предзаданной драмы, постоянно требует для своей работы пробуждения наиболее агрессивных инстинктов. Мы поражены таким свидетельством, потому что вся эта фантасмагория соответствует уникальным данным, которыми оперирует здесь Мадам Мелани Кляйн, и одновременно нельзя не задаться вопросом, в присутствии чего мы здесь находимся, и что может означать эта драматическая символизация, которая по мере нашего продвижения выглядит всё более наполненной. Всё происходит так, как если бы, чем ближе мы подходим к началу, тем более обнаруживает себя комплекс Эдипа, сформированный и готовый к действию. Это по меньшей мере заслуживает вопроса.
Этот вопрос, если мы им задаёмся, возникает повсюду, и мы найдём его на определённом пути, по которому я теперь попробую вас провести, на пути перверсии.
1
Что такое перверсия? Даже в пределах одной психоаналитической группы мы слышим на этот счёт самые противоречивые мнения.
Одни, полагая, что следуют за Фрейдом, говорят, что нам нужно просто-напросто вернуться к понятию устойчивой фиксации на частичном влечении, которой удалось сохраниться в некотором неприкосновенном виде на протяжении всего периода диалектики установления Эдипа. Она не пострадала от воздействий, направленных на сокращение других частичных влечений и их объединение в общее течение, которое в итоге станет генитальным влечением, этим идеальным в своей сущности единства влечением. Таким образом, в разговоре о перверсии речь идёт о некотором сбое в эволюции влечений. Прочитывая в классической манере идею Фрейда о том, что перверсия - это негатив невроза, эти аналитики хотят попросту представить перверсию как место, в котором влечение недоразвито.
Тем не менее другие аналитики, которые, впрочем, не относятся к числу ни самых лучших, ни самых проницательных, но только к числу наиболее искушённых опытом и свидетельствами, от которых в аналитической практике никуда не уйти, пытаются показать, что перверсия далеко не так проста и устойчива в своих проявлениях, она также преодолевает кризисы, слияния и драматические расслоения, которые происходят в том же богатстве измерений, в том же изобилии, в тех же ритмах, теми же этапами, что и невроз. Они стараются объяснить, что перверсия является негативом

невроза, продвигая формулу, которую все эти игры анализа ослабления защит им внушают - для них речь в перверсии идёт об эротизации защиты.
Я не возражаю, пусть это будет образным выражением, но, на самом деле, причём здесь эротизация? В этом весь вопрос: откуда взялась эта эротизация? Что за неведомая сила привнесла это излишество, эту окраску, это качественное изменение, это либидинальное удовлетворение? Не то чтобы это было немыслимо, но помыслить об этом не приходило покуда никому в голову.
Не надо думать, будто Фрейд не догадывался, что здесь есть ещё над чем поработать. Я бы сказал больше, у самого Фрейда мы можем найти пример, подтверждающий, что его формула, согласно которой перверсия является негативом невроза, не имеет того смысла, который долгое время было принято ей придавать, что она не имела в виду, будто скрытое в бессознательном невротической структуры при перверсии, напротив, находится в некотором своего рода свободном состоянии, располагается под открытым небом. В том сжатом виде, в котором мы встречаем у Фрейда эту формулу, он предлагает нам совершенно иную вещь, и наш анализ должен обнаружить её истинный смысл. Начнём с того, что попробуем пойти за Фрейдом и постараемся увидеть, как он понимает механизм того феномена, который можно определить как перверсию или даже крайнюю степень перверсии, и тогда мы сможем понять, что он имеет в виду, когда утверждает, что перверсия является негативом невроза.
Присмотримся к этим вещам более пристально, обратившись к исследованию, которое должно быть на слуху, Ein Kind wird geschlagen, Вклад в изучение происхождения сексуальных перверсий.
Характерно, что внимание Фрейда сосредоточено на фразе, которую он не просто делает клиническим ярлыком, а ставит в заглавие и которая представляет собой прямую выдержку из речей больных, когда они приближаются к теме своих фантазмов, которые в целом можно охарактеризовать как садо-мазохистские, какой бы ни была их роль и функция в том или ином конкретном случае.
Фрейд говорит, что в этом исследовании он сосредотачивается на шести случаях навязчивого невроза, четырёх женских и двух мужских. Они представляют его опыт наблюдения многочисленных других случаев, по которым у него самого нет большого понимания. Итак, похоже, здесь имеет место обобщение внушительного объема опыта и попытка его организовать.
Когда субъект в процессе лечения пересказывает нам то, что мы называем фантазмом, он делает это в примечательной по своей неопределённости форме, оставляя открытыми вопросы, на которые он может ответить лишь с большим трудом. На самом деле он изначально не способен дать удовлетворительный ответ, поскольку он вряд ли может ещё что-либо добавить, чтобы охарактеризовать этот фантазм. К тому же это сопровождается проявлениями смущения, даже отвращения, и стыда.
Здесь важное значение приобретает довольно примечательная черта. Если практики мастурбации, более или менее связанные с такими фантазмами, совершенно не вызывают у субъекта чувства вины, то, когда речь заходит о том, чтобы сформулировать эти фантазмы, у субъекта возникают не только большие сложности, но и довольно явные отвращение, неприятие и вина. Различие между фантазматическим или воображаемым использованием этих образов и их речевой артикуляцией является для нас верным поводом держать ухо востро. Такое поведение субъекта уже

представляет собой сигнал о приближении к пределу: обыгрывать фантазм
умозрительно и говорить о нём - это разные вещи.
Что означает фантазм субъекта, который высказывается в его типичной формулировке «ребёнка бьют»? Фрейд предлагает нам то, что открывается ему в опыте. Сегодня мы не дойдём до конца этой статьи, я только выделю в ней некоторые элементы, прямо подразумевающие тот путь, по которому я повёл вас в прошлый раз для приближения к проблеме через случай юной гомосексуальной пациентки.
Согласно Фрейду, продвижение анализа показывает, что данный фантазм посредством серии трансформаций сменил другие фантазмы, каждый из которых сыграл в определённый момент развития субъекта совершенно понятную роль. Я хотел бы показать вам структуру этих моментов, чтобы помочь вам распознать элементы, которые, стоит только открыть глаза, становятся легко заметными хотя бы в том измерении, в котором мы с вами пытаемся продвинуться, в измерении субъективной структуры. Иначе говоря, чтобы определить настоящее место того, что часто представлено в теории как двусмысленность, даже тупик или антиномия, мы всегда стараемся понять, на каком уровне субъективной структуры явление имеет место.
Есть три этапа, говорит нам Фрейд, которые дают о себе знать по мере того, как при аналитическом воздействии открывается история субъекта, что и позволяет проследить происхождение этого фантазма.
На этот раз мы не будем фокусироваться на том, что Фрейд излагает в первой части своего текста, когда он по причинам, которые уточняет позже, ограничивается описанием того, что происходит у женщин - сегодня мы о причинах этих говорить не станем.
Первый фантазм, который мы можем обнаружить во время анализа, говорит нам Фрейд, приобретает следующую форму: «Мой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу».
Происхождение этого фантазма в истории субъекта, как правило, связано с появлением брата или сестры - соперника, который как своим присутствием, так и получаемой им заботой нарушает связь ребёнка с родителями. Здесь речь идёт именно об отце. Не задерживаясь на этом, всё-таки не будем упускать из виду, что речь идет о девочке и притом в тот момент, когда комплекс Эдипа уже образован и отношения с отцом выстроены. Преобладание личности отца в совершенно примитивном фантазме не могло обойтись без влияния того факта, что речь идёт о девочке. Но давайте оставим прояснение этого вопроса на будущее.
Важно то, что мы здесь касаемся исторической перспективы, которая становится активной силой задним числом. Именно в настоящем моменте, во время анализа, субъект формулирует и организует первичную драматическую ситуацию таким образом, который вписывается в его актуальную речь и соответствует его текущей способности к символизации. То, что мы обнаруживаем в ходе анализа,представляет из себя нечто изначальное, это наиболее глубокое первозданное образование.
Очевидная сложность фантазматической ситуации подразумевает участие трёх персонажей: есть карающий агент, есть тот, кто претерпевает, и есть субъект. Тот, кто претерпевает, это как раз ребёнок, которого субъект ненавидит, и поэтому, видя его лишённым родительского расположения, чувствует своё преимущество, поскольку другой это расположение утратил.
Напряжение возникает здесь в трех направлениях. Существует связь субъекта с двумя другими персонажами, чьи отношения между собой замыкаются на нём как на

центральном элементе. Мой отец - скажем так, чтобы подчеркнуть этот смысл - бьёт моего брата (или сестру) только для того, чтобы я не подумал, что тот лучше меня. Причинность, напряжение, отсылка к субъекту в качестве третьей стороны, в интересах которой всё происходит, оживляют и направляют действие на второго персонажа - на того, кто претерпевает. Субъект участвует в ситуации как третий, на глазах у которого всё должно произойти, чтобы убедиться в предоставленной ему привилегии в предпочтении, в своём приоритете.
Таким образом, присутствует понятие страха, то есть своего рода предвосхищение, временная длительность, предзаданное напряжение, которое в качестве движущей силы действует внутри этой тройственной ситуации. И есть отсылка к третьему как субъекту - субъекту, который делает выводы, принимая во внимание поведение в отношении второго объекта. Этот последний в данном случае становится инструментом коммуникации между двумя субъектами, которая в конечном итоге, является любовной коммуникацией, поскольку именно за счёт этого второго формулируется для центрального субъекта то, что он воспринимает, а именно подтверждение его чаяния, его желания быть предпочитаемым или любимым. Таким образом, речь идёт об уже драматизированном и реакционном образовании, появляющемся в сложной ситуации, основанной на тройственной интерсубъективной взаимосвязи, с учётом всего того, что вводит измерение времени и его ритмического членения.
Участие второго субъекта необходимо. Для чего? Чтобы переходить от одного субъекта к другому, он задействован как инструмент, средство, передаточное звено. Здесь мы оказываемся перед лицом полной интерсубъективной структуры в том смысле, что она приобретает свою завершённость, будучи установленной в речи. Дело не в том, что нечто было сказано, но в том, что тройственная ситуация, заложенная в первичный (primitif) фантазм, сама по себе отмечена структурой интерсубъективности, которая формирует любой завершённый речевой акт.
Теперь перейдём ко второму этапу.
Он, по сравнению с первым, представляет из себя упрощённую ситуацию, в конкретном значении уменьшения количества персонажей до двух. Я следую тексту Фрейда, где он, не слишком настаивая, говорит о нем как о реконструированном этапе, необходимом для понимания мотивов того, что происходит в истории субъекта. Этот второй этап производит фантазм: «Меня бьёт мой отец».
Это ситуация, исключающая любое другое измерение, кроме отношений с избивающим агентом, дает повод для любого рода интерпретаций. Но все эти интерпретации сами по себе будут отмечены характером глубокой двусмысленности. Тогда как первый фантазм заключает в себе организацию и структуру, которую можно изобразить на схеме стрелочками, второй представляет ситуацию настолько неоднозначную, что может промелькнуть вопрос, насколько субъект сам содействует тому, кто подвергает его агрессии и побоям. Это классическая садомазохистская двойственность. Рассматривая её, мы вместе с Фрейдом сделаем вывод не только о сущности мазохизма, но и о том, что в этой ситуации важное значение придаётся собственному Я.
Субъект занимает по отношению к другому дополняющую (réciproque) и в то же время обособленную позицию. Бьют или его, или другого. В данном случае его. В свете того факта, что бьют его, присутствует указание на некоторую вещь, которая тем не

менее до сих пор не прояснена. В самом акте избиения можно увидеть - и дальнейший анализ подтверждает это - перемещение ( transposition ) или перестановку ( déplacement ) одного элемента, который, возможно, уже отмечен эротизмом.
Показателен сам факт того, что мы можем говорить в данном случае о сущности мазохизма. На предыдущем этапе Фрейд сказал, что ситуация, при своей предельной структурированности, чревата различными возможностями. Изначально она не была ни сексуальной, ни определённо садистической, она содержала в себе эти черты как возможные. Второй этап отмечен двойственным колебанием между одним смыслом и другим.
Второй этап знаменуется дуальностью и всей той проблематикой, которую она производит на либидинальном плане, когда субъект сочетается с другим в дуальных, то есть двойственных отношениях типа или-или, которые являются основополагающими для этой взаимосвязи. Этот этап, говорит нам Фрейд, настолько скоротечен, что мы почти всегда вынуждены его реконструировать. Мимолётность является наиболее характерной его чертой, так что ситуация очень быстро переходит на третий этап.
На третьем этапе устранение субъекта достигает своей крайней точки, он явно находится в положении третьего, стороннего наблюдателя, как на первом этапе. После сокращения первой, растянутой во времени интерсубъективной ситуации и перехода ко второй, дуальной и взаимной (réciproque), он переходит к ситуации полной десубъективации, которая получает своё выражение в окончательном фантазме Ребёнка бьют.
В безличности этой формулировки смутно угадывается отцовская функция, но в целом отец остаётся не распознанным, это только суррогат. С другой стороны, Фрейд хотел сохранить в изначальном виде формулу субъекта, но часто речь идёт не об одном ребёнке, а о множестве. Фантазматическое производство заставляет его взорваться, умножая одного на тысячу, что хорошо отражает принципиально происходящую в этих отношениях десубъективацию.
Действительно, в итоге происходит радикальная десубъективация всей структуры на том уровне, где субъект сокращает своё присутствие до позиции наблюдателя или просто глаза, то есть того, что характеризует, в пределе, к чему сводится в конечном счете любой объект. Чтобы это увидеть, не обязательно нужен субъект, достаточно глаза, который может быть лишь экраном, на котором субъект возникает.
Как мы можем перевести это на наш язык в том конкретном пункте нашего исследования, в котором мы оказались на данный момент? Наша схема определяет воображаемые, более или менее фантазматические, отношения осью а-а’, которая в той или иной степени отмечена зеркальностью и взаимным дополнением (réciprocité) собственного Я и другого. Но у нас есть и другой элемент, который располагается на оси S-A, а именно бессознательная речь, которая должна быть найдена несмотря на все искушения анализа переноса. Она вполне может быть такой: «Мой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу, чтобы показать, что он меня любит». Или такой: «Мой отец бьёт ребёнка из страха, что я подумаю, что я не тот, кого он предпочитает». Или может быть выражена какой-то другой формулировкой, которая каким-либо образом придаст особенное значение одному из акцентов этих драматических отношений. Это то, что исключено и не представлено в неврозе, но то, что следует обнаружить, поскольку это получает развитие и проявляет себя во всех симптомах, образующих этот невроз, и занимает место в клинической картине в качестве фантазма.

Как проявляется этот фантазм? Он несёт в себе наиболее очевидное свидетельство означающих элементов артикулированной речи на трансобъективном, если можно так сказать, уровне, где расположен большой Другой A как место артикуляции бессознательной речи и где находится субъект S, поскольку он является речью, историей, памятью, артикулированной структурой.
Перверсия, а лучше выразимся точнее, перверсивный фантазм, обладает одной особенностью, которую теперь мы можем прояснить.
В нём имеет место символическая редукция, которая постепенно устраняет всю субъективную структуру ситуации, позволяя сохранить от неё лишь всецело десубъективированный и в итоге таинственный остаток, поскольку в нём концентрируется весь заряд - но заряд не проявленный, не сформированный, не признанный субъектом - того, что на уровне большого Другого является артикулированной структурой, в которую субъект вовлечён. На уровне перверсивного фантазма все элементы в наличии, но потеряно всё то, что имеет значение, а именно интерсубъективные отношения. Это можно назвать поддержанием означающих в их чистом виде, вне интерсубъективных отношений, избавленными от их субъектов. Здесь мы имеем дело со своего рода объективацией означающих ситуации. То, что на уровне перверсии проявляется в качестве фундаментально структурирующих историю субъекта отношений, одновременно поддерживается и содержится, но лишь в виде чистого знака.
Находим ли мы на уровне перверсии что-либо другое? Возьмём, к примеру, то, что вам известно о фетише, о котором говорят, что его можно объяснить тем, что всегда по ту сторону и всегда остаётся за пределом видимости - пенисом фаллической матери. Чаще всего после небольшого аналитического усилия подтверждается, что субъект связывает это, по крайней мере в материале доступных ему воспоминаний, с конкретной ситуацией, когда, будучи ребёнком, он останавливает свой взгляд на подоле платья матери. Вы улавливаете здесь примечательное сходство со структурой того, что называется покрывающим воспоминанием (souvenir-écran), то есть с моментом, когда движение цепочки воспоминаний останавливается. Взгляд действительно останавливается на подоле, то есть не выше лодыжки, где край платья встречается с обувью, и именно поэтому обувь, по крайней мере в некоторых частных, но показательных случаях, может взять на себя функцию замены того, что, оставаясь невидимым, артикулировано, сформулировано как то, чем в глазах субъекта мать на самом деле обладает, а именно как фаллос - воображаемый конечно, но принципиально необходимый для её символического обоснования в качестве фаллической матери.
Наряду с фантазмом мы обнаруживаем здесь другую вещь того же порядка, она фиксирует, сводит ход воспоминания к одному мгновению, останавливая его в том пункте, который называется покрывающим воспоминанием (souvenir-écran). Представьте это на кинематографический манер, когда действие на экране стремительно развивается и в один момент вдруг внезапно замирает, оставляя персонажей в застывших позах. Эта моментальность является характерной для редукции полной, значимой и поступательно развивающейся ситуации к тому, что обездвиживается в фантазме, нагруженном всеми эротическими значениями, которые были таким образом выражены и для которых он является свидетельством, опорой и последней оставшейся поддержкой.

Мы касаемся здесь того, что можно назвать матрицей перверсии - того особенного значения, которое придаётся образу. Поскольку именно образ остаётся привилегированным свидетелем того, что должно быть сформулировано в бессознательном и войти в диалектику переноса, то есть должно обрести своё измерение в аналитическом диалоге.
То есть каждый раз, когда речь заходит о перверсии, воображаемое измерение оказывается преобладающим. Эта воображаемая связь лежит на пути того, что переходит от субъекта к Другому - того, точнее говоря, что в силу вытеснения осталось от субъекта в Другом. Эта речь является речью субъекта, но поскольку она, будучи по природе речью, представляет собой сообщение, которое субъект получает от Другого в обращённой форме, она вместе с тем может оставаться и в Другом, образуя в нём вытесненное и бессознательное, устанавливая возможные, но не реализованные отношения.
Возможные, да - но должна заключаться в них и некая невозможность, иначе они не оказались бы вытеснены. Именно в силу того, что при обычном ходе вещей имеет место эта невозможность, возникает необходимость пойти на любые ухищрения переноса, чтобы заново сделать пригодным для передачи, формулируемым то, что должно быть сообщено от этого Другого, большого Другого, субъекту, поскольку Я (¡е) этого субъекта уже возникло.
Фрейдовский анализ на это нам ясно указывает, и эта формулировка ведёт гораздо дальше, чем то, о чём я сейчас говорю. В данном случае Фрейд чётко отмечает, что к проблеме образования любой перверсии необходимо подходить со стороны Эдипа, через аватары, авантюру, революцию Эдипа.
Поразительно, что может прийти в голову понимать формулу Фрейда перверсия является негативом невроза так, как это предлагает её популярное толкование, рассматривая перверсию как влечение, недоработанное эдипальным и невротическим механизмом, как простой пережиток, как неизбытое частичное влечение. Фрейд, напротив, и в этой важнейшей, ключевой статье, и ещё во многих других местах, отчётливо указывает на то, что любое перверсивное структурирование, по нашим предположениям такое примитивное, - по крайней мере из тех, что известны нам, аналитикам - имеет место не иначе как средство, поворотная ось, некоторый элемент того, что в конечном счёте задумано, подразумевается и сформулировано только в целях и посредством процесса продвижения, организации и артикуляции эдипова комплекса.
2
Попробуем теперь вписать случай молодой гомосексуальной пациентки, рассмотренный нами на днях, в схему перекрёстных отношений субъекта и большого Другого.
За осью S-А следует закрепить символическое значение, всё актуальное бытие субъекта. На другой оси воображаемая диспозиция а-а' является тем, в чём субъект получает свой статус, свою объектную структуру, которая признана им как таковая и включена определённым образом в собственное Я, противостоя объектам, обладающим для него непосредственной привлекательностью и соответствующим его желанию, поскольку оно направлено по воображаемым рельсам, формирующим так называемые либидинальные фиксации.

Хотя мы сегодня и не доведём дело до конца, попробуем подытожить. Можно различить пять тактов в сопровождающих образование и установление этой перверсии феноменах, при этом неважно, рассматриваем ли мы её как вписанную в структуру изначально или приобретённую. В этом случае мы знаем, как именно перверсия дала о себе знать, потом закрепилась и развивалась, мы знаем о её пружинах и обстоятельствах её возникновения. Эта перверсия сформировалась поздно, что, однако, не означает, что она не имела предпосылок в самых ранних первичных процессах. Давайте попробуем понять ходы, которые предпринял сам Фрейд.
Начнём с первичного этапа. В пубертатный период, ближе к тринадцати или четырнадцати годам, эта юная девушка дорожит одним объектом, ребёнком, которого она нянчит и к которому привязалась. В глазах всех окружающих она выглядит вполне отвечающей их ожиданиям в смысле точного соответствия обычному призванию каждой женщины, материнству.
В этих обстоятельствах происходит нечто, производящее в ней своего рода разворот, в результате которого она перенаправляет свой интерес на объекты любви, отмеченные знаком женственности. Это женщины в ситуации материнства, которые недавно стали матерями.
В итоге она дойдёт до буквально пожирающей степени страсти к персоне, которую мы не без причины назовём Дамой. Девушка ухаживает за этой Дамой в высоком рыцарском стиле, прямо как мужчина, страстно, но без требований, без желаний и ожидания взаимности, предлагая своё служение в дар, ведя себя как любовник, влюблённый в свой объект помимо любых его проявлений. В общем, в этой истории мы находим одну из наиболее высокоразвитых форм любовных отношений.
Как можно осмыслить произошедшую трансформацию? Я показал вам начало и итог, но между ними происходит ещё кое-что, и Фрейд говорит нам, что именно. Вернёмся к этому и переведём ситуацию в термины, которые помогли бы нам проанализировать положение дел.
Оттолкнёмся от фаллической фазы генитальной организации. В чём смысл того, что говорит нам Фрейд по этому поводу? В преддверии латентного периода инфантильный субъект, как мальчик, так и девочка, подходит к фаллической фазе, которая отмечает пункт генитальной реализации, где уже всё представлено в наличии, вплоть до выбора объекта. Однако кое-чего недостаёт, а именно полноценного осуществления генитальной функции, по-настоящему структурированной и организованной. Действительно, есть только фантазматический, воображаемый по своей сути, элемент фаллического преобладания, посредством которого существа этого мира делятся для субъекта на два типа: существ, которые обладают фаллосом, и тех, кто им не обладает, то есть кастрированы.
Эти формулы Фрейда порождают проблематику, которую авторы не могут разрешить, когда пытаются положить в её основание мотивы, которые для субъекта определяются реальным, и тогда возникает необходимость прибегать к невероятным способам объяснения. Я уже говорил вам, что помечаю это кавычками, но общий смысл [подобных заблуждений] можно сформулировать примерно следующим образом. Поскольку всё, как известно, предначертано заранее и вписано в бессознательные тенденции, поскольку в субъекте заранее заложено то, что делает половые отношения адекватными, необходимо, чтобы фаллическое преимущество было формацией, в которой субъект находит определённое преимущество и чтобы налицо был, таким

образом, процесс защиты. Возможно, это имеет некоторый смысл, но уводит в сторону от проблемы и в итоге толкает авторов на ряд построений, которые относят всю диалектику символического к самому началу и по мере восхождения к этому началу предстают всё более немыслимыми.
Нам, по сравнению с этими авторами, гораздо проще допустить, что фаллос в данном случае является воображаемым элементом - это следует принять в качестве факта - посредством которого субъект на генитальном уровне вводится в диалектику символического измерения дара.
Символическое измерение дара и половое созревание, представляя собой две разные вещи, тем не менее связаны с одним фактором, влияющим на реальную человеческую ситуацию, а именно с правилами осуществления генитальных функций, установленными законом, которые действенно включаются в игру в сфере межчеловеческого обмена. Именно потому, что всё происходит на этом уровне, и возникает между символическим измерением дара и половым созреванием настолько тесная взаимосвязь. Но для субъекта это не имеет никакого внутреннего, биологического или индивидуального соответствия. Оказывается, напротив, что фантазм фаллоса на генитальном уровне приобретает своё значение в рамках измерения символического дара. Фрейд настаивает на том, что по определённым причинам фаллос не имеет одинаковой ценности для того, кто им действительно обладает, то есть ребёнка мужского пола, и для того, кто им не обладает, то есть для ребёнка женского пола.
Именно потому, что девочка не обладает фаллосом, она будет включена в символическое измерение дара. Именно в силу того, что она придает фаллосу в данной ситуации столь большое значение, то есть поскольку у неё возникает вопрос о том, иметь или не иметь фаллос, она входит в эдипов комплекс. Тогда как для мальчика, подчёркивает Фрейд, это происходит не на входе, а на выходе из комплекса Эдипа. В завершении комплекса Эдипа, после того как мальчик на определённом плане осознал символическое измерение дара, ему нужно будет подарить то, что у него есть. Девочка входит в комплекс Эдипа по причине того, что она не обладает [фаллосом], и для того, чтобы [его] в комплексе Эдипа найти.
Что значит она не обладает? Здесь мы уже на том уровне, где воображаемый элемент входит в символическую диалектику. Ведь в диалектике символического то, чего у нас нет, существует точно так же, как и всё остальное. Просто со знаком минус. Таким образом, она входит с этим минусом, тогда как мальчик - с плюсом. Нужно только, чтобы было нечто такое, что мы могли бы отметить плюсом или минусом, присутствием или отсутствием. То, что здесь вступает в игру, это и есть фаллос. Вот, говорит нам Фрейд, что подталкивает девочку войти в эдипов комплекс.
В пределах этого символического измерения дара любого рода вещи могут быть предложены в обмен, именно поэтому мы видим такое большое разнообразие эквивалентов фаллоса в симптомах.
Фрейд пошёл ещё дальше. В работе «Ребёнка бьют» вы найдёте предпосылки этого в изначальном виде. Почему такое количество элементов догенитальных отношений оказываются задействованными в эдипальной диалектике? Почему на анальном и оральном уровнях продолжается производство фрустраций, которые присоединяются к фрустрациям, происшествиям и драматическим компонентам эдипальных отношений, хотя, предположительно, всё это должно было послужить

исключительно целям генитального развития? Ответ Фрейда касается того, что для ребёнка на генитальном уровне есть вещи непонятные, поскольку он, конечно, не располагает соответствующим опытом - объекты, которые задействованы в догенитальном опыте, говорит он, более доступны для словесных представлений, Wortvorstellungen.
Да, Фрейд доходит до утверждения, что если в эдипальную диалектику вводятся догенитальные объекты, то происходит это постольку, поскольку они легче переходят в словесные представления. Ребёнку легче высказать, что иногда папа даёт маме мочу, потому что о её существовании и свойствах он хорошо знает, исходя из своего опыта, он знаком с мочой как с объектом. Легче символизировать, то есть более-менее оснастить знаком тот объект, который уже имеет некоторую реализацию в воображении ребёнка. Но это остаётся труднодоступным и сложным для понимания девочки.
Девочка в своём первом включении в диалектику Эдипа придерживается, согласно Фрейду, того представления, что желаемый ею пенис - это ребёнок, которого она ожидает получить от отца как замену. Но в нашем примере юной гомосексуальной пациентки речь идёт о реальном ребёнке. Девочка нянчится с настоящим ребёнком.
ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА

С другой стороны, что для неё значит этот ребёнок, которого она нянчит? Это воображаемый заменитель фаллоса, с помощью которого девушка сама не зная того, формирует свою субъективность в качестве воображаемой матери. Если, ухаживая за ребёнком, она получает удовлетворение, то происходит так потому, что таким образом она обретает воображаемый пенис, в перспективах обладания которым она уже глубоко разочаровалась, поэтому я записываю воображаемый пенис со знаком минус. Этим самым я лишь подчёркиваю то, что характерно для изначальной фрустрации - любой объект, введённый посредством фрустрации, всегда оказывается для субъекта в двусмысленной позиции - позиции принадлежности к его телу.
Я останавливаюсь на этом потому, что в вопросе первичных отношений ребёнка и матери всё внимание концентрируется на пассивном аспекте фрустрации. Утверждается, что ребёнок впервые обнаруживает связь принципа удовольствия и принципа реальности во фрустрациях со стороны матери, вследствие чего вы видите употребление терминов фрустрации объекта и утраты объекта любви, в качестве равнозначных. Тем временем, если и есть нечто, на чём я настаивал на предыдущих встречах, так это на совершенно очевидной биполярности или оппозиции между реальным объектом, которого ребёнок может быть лишён, то есть материнской грудью, с одной стороны, и матерью, положение которой позволяет наделить или обделить этим реальным объектом, с другой.

Это различение между грудью и матерью как всеобъемлющим (total) объектом проведено Мадам Мелани Кляйн. Она чётко помещает частичные объекты по одну сторону, а полный в своей совокупности материнский объект, способный образовать у ребёнка пресловутую депрессивную позицию, по другую. Это действительно является способом отразить положение дел. Только упускается из виду, что эти два объекта обладают разной природой. Но остаётся фактом, что мать как действующее лицо возникает в результате зова ( appel ) - что она с самого начала, на самом примитивном уровне, задействована в качестве объекта, отмеченного способностью присутствовать и отсутствовать, - что любая фрустрация, причинённая чем-то, связанным с матерью, является любовной фрустрацией - что любой материнский отклик на зов (appel) является даром, то есть чем-то другим, нежели объект. Иными словами, существует радикальное различие между даром как знаком любви, который целиком ориентирован чем-то иным и потусторонним, материнской любовью, с одной стороны, и любым объектом удовлетворения потребностей ребёнка, с другой.
Фрустрация любви и фрустрация наслаждения - это две разные вещи. Фрустрация любви весьма сильно проявляется в дальнейшем опыте любых интерсубъективных отношений. Тогда как фрустрация наслаждения никаких особых последствий вообще не несёт.
В противоположность тому, что нам говорят, вовсе не фрустрация наслаждения порождает реальность. Месье Винникотт очень хорошо это уловил, хотя и выразил не без характерной путаницы, присущей аналитической литературе. Мы не можем предполагать ни малейшего основания для происхождения реальности в обстоятельствах наличия или отсутствия доступа ребёнка к груди. Если груди нет, то он голоден и продолжает кричать. Другими словами, что производит фрустрация наслаждения? Прежде всего, она пробуждает желание, но никак не поддерживает образование какого бы то ни было объекта. Вот почему Месье Винникотту удаётся обнаружить в поведении ребенка ту замечательную особенность, которая позволяет нам действительно выявить некоторое развитие - развитие, требующее настоящего объяснения.
Ни фундаментальный, ни какой-либо ещё образ не формируются только лишь потому, что ребёнок лишается материнской груди. Необходимо, чтобы сам по себе образ был принят в его подлинном измерении. Принципиальное значение имеет не грудь, но заострение груди, то есть сосок. Именно им подменяется и на него накладывается фаллос. Общей у них является одна черта, на которой нам следует задержать внимание: они складываются как образы.
То, что следует у ребёнка за фрустрацией объекта наслаждения является самостоятельным измерением, которое сохраняется в субъекте в условиях воображаемых отношений. Это не просто элемент, который фокусирует на себе импульс желания по типу манка (leurre), который всегда направляет поведение животных. В оперении и плавниках противника есть некоторые опознавательные знаки, которые определяют его в качестве противника, и мы всегда можем выявить то, что дифференцирует образ в биологии. Безусловно, это присутствует и у человека, но усиливается в том, что становится доступным для наблюдения в поведении детей, образы у которых связаны с основополагающим образом, сообщающим ему его всеобъемлющий статус. Речь идёт о той форме целостности, к которой ребёнок

присоединяется, о форме другого, том образе, вокруг которого могут группироваться и распадаться субъекты в качестве причастных или же непричастных ему.
В целом, проблема заключается не в том, чтобы понять степень развития нарциссизма, рассматриваемого первоначально в качестве воображаемого и совершенного (idéal) аутоэротизма, а в том, чтобы установить роль первоначального (originel) нарциссизма в образовании мира объектов. Вот что обращает внимание Винникотта на объекты, которые он называет переходными.
Без них мы бы не имели ни малейшего представления о способе, с помощью которого ребёнок способен создать мир, исходя из своих фрустраций. Он, безусловно, создаёт мир, но не стоит утверждать, что это как-то касается объекта его желаний, по отношению к которому он изначально испытал фрустрацию. Он создаёт мир постольку, поскольку, приближаясь к тому, чего желает, он может встретиться с тем, обо что он ударится или обожжётся. Это совсем не является объектом, каким-то образом порождённым объектом желания, это не то, что может быть смоделировано стадиями развития желания в том виде, в котором они формулируются и распределяются в детском развитии. Это нечто другое. Объект, поскольку он порождается фрустрацией, подводит нас к тому, чтобы признать автономию воображаемого производства в его отношениях с образом тела. Это тот самый двойственный (ambigu) объект, который «ни здесь и ни там». Ни о реальности, ни о нереальности этого объекта говорить нельзя. Именно так, и весьма обоснованно, выражается Месье Винникотт, но вместо того, чтобы самому подойти к проблеме, которую ставит включение этого объекта в символический порядок, он сталкивается с ней едва ли не против воли, потому что не столкнуться с ней на этом пути нельзя.
Переходные объекты полуреальны, полуирреальны; для ребёнка таким объектом становится что-то свисающее, например, уголок простыни или краешек нагрудника. Это наблюдается не у всех детей, но у большей части. Месье Винникотт очень хорошо видит, что в конечном итоге эти объекты связаны с фетишем, который он ошибочно называет примитивным фетишем, но который действительно является первоначальным.
Месье Винникотт на этом останавливается, он рассматривает этот ни реальный, ни ирреальный объект, который мы не соотносим ни с полной реальностью, ни с полной иллюзорностью, как эквивалент философской идеи или религиозной системы у взрослых - той среды, в которой живёт воспитанный английский гражданин, зная заранее, как следует себя вести. Никто не подумает там спросить вас, почему вы так железно убеждены в доктрине, которой вы придерживаетесь в области философии или религии, никто и не подумает вас в ней разубеждать. Речь идёт о промежуточной, неопределённой области, в которой есть место полусуществованию вещей. Характерной чертой такого положения является то, что, как правило, никому и в голову не приходит навязывать другим подлинность своей веры или незыблемость своих философских иллюзий. Короче говоря, на Британских островах всем предоставлено право сходить с ума по-своему, но каждому по отдельности. Безумие начинается тогда, когда своё личное безумие навязывается множеству субъектов, поскольку каждому изначально присуще кочевое качество переходного объекта.
Месье Винникотт не ошибся, в сердцевине этого располагается жизнь. Если этого не было, то каким образом можно организовать всё остальное?

3
Чтобы завершить, вернёмся к нашей юной влюблённой девушке, о которой было сказано, что она обладает своим переходным объектом, воображаемым фаллосом, когда нянчит ребёнка. Что нужно, чтобы она перешла к третьему такту, то есть оказалась на втором этапе пяти ситуаций, которые сегодня мы не успеем полностью рассмотреть?
Она гомосексуальна, и она любит, как говорит Фрейд, männliches Typus, по мужскому типу, - хотя переводчик посчитал, что по женскому - она занимает мужскую позицию. Это отражено на нашей схеме - отец, который на первом этапе был на уровне большого Другого, A, переходит на уровень собственного Я. В точке a' находится дама, объект любви, которая заменила собой ребёнка. В точке А - символический пенис, то есть то, что в наиболее развитой форме любви расположено по другую сторону любимого субъекта. То, что в любви любимо, расположено вне субъекта, это буквально то, чего он не имеет. Дама любима именно потому, что не имеет символического пениса, но наделена всем, чтобы его иметь, поскольку является избранным предметом обожания субъекта.
| ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА (2) |
|---|
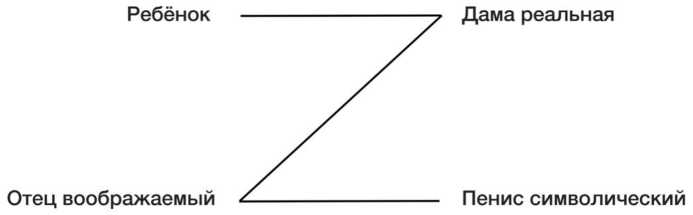 |
Таким образом, происходит перестановка, в результате которой символический отец переходит в положение воображаемого посредством идентификации субъекта с функцией отца. Похожим образом реальная дама смещается вправо, в позицию объекта любви, теперь располагая по другую сторону символическим пенисом, который прежде был на уровне воображаемого.
Что произошло в промежутке?
Данные наблюдения на втором этапе и то, что обнаруживается на четвёртом, говорит о том, что на уровне воображаемых отношений произошло реальное вмешательство отца, символического отца, который был на тот момент в бессознательном.
Желание пениса у девочки сменяется желанием ребёнка, которого подарит отец, ребёнка воображаемого или реального. В представленном случае довольно тревожно то, что он оказывается реальным, ребёнок тем более реален, что отец в качестве породителя остаётся в бессознательном. Но в действительности отец даёт ребёнка не своей дочери, а её матери. Девочка удовлетворяется тем, что находит для ребёнка, которого она бессознательно желала, реальную замену, и это обнаруживает у неё обострение потребности, придающее ситуации драматизм. Понятно становится, что субъект был специфическим образом фрустрирован тем фактом, что реальный ребёнок от символического отца был подарен её собственной матери.

Так можно это наблюдение описать. Когда рассуждают о неких инстинктивных всплесках, активизации психических тенденций или примитивных влечениях, пытаясь представить нечто в плане перверсии, не стоит ли нам всегда придерживаться трёх принципиально важных, при условии их различения, элементов, которыми являются воображаемое, символическое и реальное?
Вы могли заметить, что если ситуация - по причинам, имеющим глубоко структурный характер, - пробудила зависть, и если воображаемое удовлетворение, на которое полагалась девочка, оказалось недоступным, то произошло так потому, что вмешивается реальное, реальное, отвечающее на эту бессознательную ситуацию, расположенную на уровне воображаемого. Становясь в своем роде посредником, отец переходит в план воображаемых отношений, он вступает в игру как отец воображаемый, уже не как отец символический. С этих пор устанавливаются новые воображаемые отношения, которые девочка будет по возможности поддерживать.
Эти отношения характеризуются тем, что артикулированное латентно на уровне большого Другого начинает артикулироваться воображаемым образом, характерным для перверсии; именно это, а не что-то другое, приведёт к перверсии. Девочка идентифицируется с отцом и принимает на себя его роль. Она сама становится воображаемым отцом. Также она сохраняет свой пенис и привязывается к объекту, который его не имеет, и ей необходимо дать то, чего этот объект не имеет.
Эту необходимость сориентировать любовь не на объект, а на то, чего в объекте нет, мы размещаем в сердцевине отношений любви и дара. Это нечто такое, чем объект не располагает, и что делает необходимым рассмотреть историю субъекта под иным углом.
С этого мы начнём в следующий раз, чтобы глубже разработать диалектику дара, в качестве наиболее раннего опыта субъекта и увидеть другую её сторону, которую мы сейчас не рассмотрели. Ибо, подчеркнув парадоксы фрустрации на стороне объекта, я не сказал ещё, что, собственно, означает фрустрация любви.
16 января 1957

глава 8 Дора и юная гомосексуальная пациентка
Символическая инстанция переноса
Отец состоятельный, отец несостоятельный
Любовь, нехватка, дар
Дора между вопросом и идентификацией Перверсивная метонимия, невротическая метафора
В некоторых текстах этой брошюры второго номера журнала Психоанализ (La psychanalyse) вы найдёте новую попытку выстроить логику, найдёте там, где она особенно актуальна, то есть в нашей практике. Я имею в виду известную нам игру в чёт и нечет и отсылаю вас к вводной части, которую, как вы увидите, я добавил к лекции об Украденном письме.
Три такта субъективации, связанные с фрустрацией, - при условии её понимания в смысле нехватки объекта - вы легко обнаружите, если сразу задумаетесь над постановкой проблемы в её исходной ситуации, где задаётся простейшая символическая оппозиция плюса и минуса, присутствия и отсутствия - исходная позиция игры, как она может быть описана объективно.
Второй такт заключается в том факте, что заявленная вами ставка на чёт или нечет является своего рода требованием, и вы оказываетесь в положении, когда другой удовлетворяет или не удовлетворяет вас своим ответом. Но поскольку кости уже у него в руках, от него тоже не зависит, удовлетворит ли то, что находится у него в руке, ваше требование. Таким образом, здесь вы находитесь на второй стадии дуальных отношений, где есть обращение (appel) и ответ. На этом уровне возникает фрустрация, и ее, как вы видите, ни уловить, ни удовлетворить невозможно.
Если в этой игре что-то вас интересует, то, очевидно, потому что вы вводите третье измерение, которое придаёт ей свой смысл, измерение закона, которое всегда в скрытой форме сопровождает ход игры. На самом деле, о чем идёт речь с точки зрения вопрошающего? Очевидно, другой должен постоянно подсказывать ему некоторую упорядоченность, иначе говоря, закон, и в то же время норовит его утаить. Предполагается, что есть измерение некоторого закона или некоторого порядка, и тот, кто предлагает игру втёмную, постоянно утаивает его от другого, намекая при этом на его существование. Именно в этот момент устанавливается то, что является фундаментальной основой игры и придаёт ей свой интерсубъективный смысл, помещая её в измерение уже не двойственное, но тройственное.
В своём тексте я полагаюсь на это принципиально важное измерение: для того, чтобы появилась возможность артикуляции чего-то наподобие закона, необходимо ввести три термина. Следуя трём интерсубъективным тактам, мы постараемся понять, каким образом объект вводится в символическую цепь. Уже сам факт, что он оказывается нам доступен и попадает под нашу юрисдикцию в аналитической практике, говорит о включённости этого объекта в символическую цепь.
Именно на этом мы остановились в прошлый раз в истории нашего случая женской гомосексуальности.

1
Мы пришли к тому, что я назвал третьим тактом и расположил его в первой ситуации, которую мы произвольно приняли за отправную точку.
Отметим, что это уже было некоторой уступкой в пользу модели поступательного развития, которая предполагает хронологическую последовательность движения от прошлого к будущему. Мы сделали это для простоты, приближаясь к тому, что обычно происходит в диалектике фрустрации, и не забывая при этом, что её осмысление в общем смысле, то есть без различения планов реального, воображаемого и символического, заводит в тупики, которые по мере нашего продвижения, я надеюсь, становятся для вас всё более ощутимыми.
На данный момент мы пытаемся установить принципы отношений между объектом и образованием символической цепи.
Итак, мы имеем дело с юной девушкой в пубертатный период. Первое символическое и воображаемое структурное осмысление этой позиции осуществляется классическим образом, как это и прописано в теории. Равноценность воображаемого пениса и ребёнка устанавливает субъекта в позицию воображаемой матери по отношению к тому, кто по другую сторону представлен отцом, который в этот момент вмешивается, реализуя символическую функцию, то есть к тому, кто может предоставить фаллос. В это время могущество отца бессознательно. В этот момент, после угасания эдипова комплекса, отец, будучи тем, кто может дать ребёнка, бессознателен.
Именно на этой стадии наступает роковой, если можно так выразиться, момент реального вмешательства отца, когда он даёт ребенка матери, то есть делает ребёнка той, с кем субъект находится в воображаемых отношениях, ребёнком реальным. Нечто нашло свою реализацию, и, стало быть, вышло из той воображаемой позиции, которую девушка ранее ему отводила. Мы находимся сейчас на втором такте. Вмешательство реального отца на уровне ребёнка, в отношении которого она испытывала фрустрацию, преобразует всё уравнение, члены которого выглядят теперь так: воображаемый отец, дама, символический пенис.
Посредством своего рода инверсии отношения субъекта с отцом, расположенные до того в порядке символического, переходят в разряд воображаемых отношений. Или, если хотите, имеет место проекция бессознательной формулы первого уравнения в перверсивные, - в кавычках - воображаемые отношения с дамой. Это третий такт.
ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА (3)

Вот так после первого применения наших формул выглядит положение задействованных в игре терминов, положение, без всяких сомнений, загадочное,

которое стоит того, чтобы мы на мгновение на нём задержались. Следует тем не менее отметить, что эти термины, что бы они собой не представляли, задают определённую структуру, то есть, если мы меняем позицию одного из них, мы должны переместить и все прочие, и сделать это отнюдь не случайным образом. Теперь посмотрим, что всё это значит и какой смысл открывает для нас анализ.
Что говорит нам Фрейд в критический момент этого наблюдения? В силу определённой концепции, которой он обусловлен, исходя из обсуждаемой позиции, и посредством предпринятой им в этом смысле интерпретации, он кристаллизует ситуацию между ним и пациенткой неудовлетворительным образом, поскольку он сам подтверждает, что именно в этот момент происходит разрыв аналитических отношений. Что бы не имел в виду Фрейд, мы далеки от намерения возложить всю ответственность за сложившийся тупик на пациентку. Его интервенция, его концепция, его предубеждения по поводу ситуации каким-то образом должны были повлиять на этот разрыв.
Вспомним, что это за ситуация и как Фрейд формулирует её для нас. Он говорит нам, что сопротивления пациентки были непреодолимыми. Эти сопротивления, каким образом он их обосновывает? Какие он приводит примеры? Какой смысл он им придаёт?
Он видит их особенно выразительные проявления в сновидениях, которые парадоксальным образом подают большие надежды на то, что ситуация нормализуется. Это действительно сновидения о союзе, о воссоединении, о плодотворном браке. Пациентка в них вступает в идеальное супружество, в котором рождаются дети. Короче говоря, сновидения предъявляют желание, которое может удовлетворить, если и не Фрейда, то, как минимум, общество, представляющее здесь интересы семьи, и тем самым послужить наилучшим исходом лечения.
Учитывая всё то, что пациентка рассказывает о своём положении и своих намерениях, Фрейд далёк от буквального понимания текста сновидения, но видит в нём, как онговорит, уловку, явно направленную на то, чтобы его в итоге огорчить, а точнее, очаровать и одновременно разочаровать его, как это происходит в той интерсубъективной игре в разгадывание, которую я только что упоминал. Как замечает Фрейд, это может вызвать следующее возражение: «Но в таком случае бессознательное способно лгать?» Фрейд подробно останавливается на обсуждении этого пункта и старается ответить очень чётко.
Фрейд обращается к пассажу из Толкования сновидений. Он прибегает к нему также и в рассказе о другом случае, к которому мы сейчас обратимся, о случае Доры, говоря о котором после доклада Лагаша о переносе, я недавно сформулировал некоторые обобщающие положения, исходя из которых, как я полагаю, мы должны этот случай понимать.
В Толковании сновидений отношение между желанием бессознательным и желанием предсознательным описано путём сопоставления капиталиста и предпринимателя. Предсознательное желание - это предприниматель сновидения, но сновидение не обладало бы ничем, удовлетворяющим тому, чтобы утвердиться в качестве представителя бессознательного, если бы не было другого желания, которое создаёт основу сновидения и которое является бессознательным желанием. Таким образом, Фрейд чётко различает два желания, только не делает из этого окончательных выводов. Здесь уместно провести различие между тем, что субъект приносит в своём

сновидении, которое относится к уровню бессознательного, с одной стороны, и фактором дуальных отношений с тем, к кому человек обращается, когда рассказывает это сновидение в анализе, с другой. И именно в этом смысле я говорю вам, что сон, возникающий в процессе анализа, всегда определённым образом адресован аналитику, и эта адресованность не всегда и не обязательно является бессознательной.
Весь вопрос заключается в том, следует ли делать акцент на усмотренных здесь Фрейдом намерениях пациентки продолжать игру со своим отцом - пациентка сама это так формулирует - обманывать его, притворно следовать лечению и при этом сохранять свои позиции, свою верность даме. Следует ли то, что проявляется в сновидении, представлять непосредственно в перспективе обмана, то есть в рамках её предсознательной преднамеренности?
Непохоже на то. Если мы присмотримся внимательнее, то что мы увидим?
Несомненно, здесь присутствует диалектика обмана, но в бессознательном как на первом, так и на третьем этапе формулируется здесь то, что, сведённое к означающему, уже с самого начала изменило свое направление - это собственное послание, возвращенное от отца в обращённой форме, в форме: «ты - моя жена, ты - мой господин, у тебя будет ребёнок от меня». Это данное при вхождении в Эдип или в то время, когда Эдип ещё не разрешён до конца, обещание, на которое полагается девочка, входя в эдипов комплекс. Исходя из этого и выстраивается позиция пациентки, а в сновидении артикулируется соответствующая этому обещанию ситуация. Содержание бессознательного оказывается, таким образом, одним и тем же.
Фрейд сомневается в этом содержании, поскольку точной формулы для переноса он ещё не нашёл. Действительно, в переносе присутствуют элемент воображаемого и элемент символического, и, соответственно, выбор, который нужно сделать. Если перенос имеет смысл того, что Фрейд в дальнейшем представил в понятии Wiederholungszwang, которому я посвятил целый год, чтобы показать, что оно может значить, то перенос связан прежде всего с настоятельностью, присущей символической цепи как таковой.
Эта специфическая для символической цепи настоятельность по определению не принимается субъектом в расчёт. Тем не менее факт того, что она воспроизводится и появляется на третьем этапе, осуществляясь и формулируясь в сновидении, позволяет заключить, что это сновидение, даже если оно и выглядит на воображаемом уровне и в прямых отношениях с терапевтом обманом, как раз и представляет перенос в его собственном смысле. Именно на это мог бы положиться Фрейд и смело вмешиваться. Для его концепции переноса нужны были более устойчивые основания, которые бы чётко определяли осуществление переноса на уровне символической артикуляции.
Когда мы говорим о переносе, когда нечто приобретает смысл в силу того, что аналитик становится причиной переноса, вопрос ставится именно таким образом, потому что имеет место символическая артикуляция как таковая, которая складывается, конечно же, до того, как субъект её признаёт, как мы видим это здесь в том, что представляет собой сновидение переноса. Фрейд сразу отмечает, что случилось нечто, принадлежащее порядку переноса, но не делает из этого точных выводов и не предпринимает соответствующего вмешательства.
Это замечание касается не только этого случая. У нас есть другой случай, в котором подобная проблема возникает на том же уровне, только Фрейд ошибается ровно противоположным образом. Это случай Доры.

Эти два случая превосходно друг друга уравновешивают. Они точно пересекаются на встречном курсе. Прежде всего потому, что смешение символической и воображаемой позиции в каждом случае имеет противоположный смысл. Но ещё потому, что в их общей диспозиции эти два случая строго соответствуют друг другу, как позитив негативу. Я мог бы сказать, что нет лучшей иллюстрации формулы Фрейда перверсия - это негатив невроза.
Эту мысль стоит продолжить.
2
Вспомним вкратце обстоятельства случая Доры, чтобы сопоставить их с некоторыми подробностями случая юной гомосексуальной пациентки.
В случае Доры фигурируют те же самые персонажи: на первом плане отец, дочь и тоже дама госпожа К. Нас ещё более поражает, что и здесь ситуация вращается вокруг дамы, хотя в том, как девушка представляет всю историю для Фрейда, это неочевидно.
Дора - молодая истеричка, которую приводят к Фрейду с несколькими симптомами, без сомнения, незначительными, но в то же время выраженными. Ситуация стала невыносимой вследствие определённой демонстрации суицидального намерения, которое в конечном итоге встревожило её семью. Отец представил её Фрейду как больную, и этот переход на уровень лечения является элементом, который сам по себе и без всяких сомнений обозначает кризис в той системе отношений, где до сих пор поддерживалось некоторое равновесие. Однако это уникальное равновесие было нарушено ещё двумя годами прежде по причине изначально скрытой от Фрейда любовной связи отца и госпожи К., которая была замужем за господином К. Отношения этой пары с парой отца и дочери образуют своего рода квартет. Мать в этой ситуации отсутствует.
И по мере нашего продвижения мы замечаем контраст в сравнении с предыдущей ситуацией. Действительно, в случае юной гомосексуальной пациентки присутствует мать, ведь именно она похищает у девочки внимание отца и вводит тот самый элемент реальной фрустрации, который стал определяющим фактором при формировании перверсивной установки. К тому же в историю Доры именно отец приводит даму и поддерживает её присутствие, тогда как в первом случае дама появляется благодаря девушке.
Поразительно то, что Дора сразу же заявляет Фрейду чрезвычайно выразительный протест по поводу привязанности своего отца, в которой, по её словам, он счастлив. Она сразу же даёт Фрейду понять, что всегда была в курсе существования этой постоянной и приоритетной для отца связи и что она больше не может это выносить. Всё её поведение выражало протест против этих отношений.
Тогда Фрейд делает шаг, первый шаг фрейдовского подхода, наиболее решающий в своём, строго говоря, диалектическом качестве. Он подводит Дору к следующему вопросу: «Не кажется ли вам, что вы возмущаетесь тем беспорядком, в образовании которого вы сами приняли участие?». И действительно, для Фрейда быстро становится очевидным, что до критического момента Дора сама непосредственным образом поддерживала такое положение дел. Она была более чем удовлетворена этой уникально сложившейся позицией и была настоящим опорным стержнем всей ситуации, защищая интересы пары отца и госпожи К., при необходимости принимая на

себя её функции, занимаясь, например, её детьми. С другой стороны, по мере продвижения в понимании структуры случая, становится заметна особая связь с госпожой К, которая оказывается доверенным лицом и выглядит глубоко посвящённой в секреты Доры.
Этот случай настолько богат содержанием, что мы до сих пор можем делать новые открытия, и это краткое напоминание никоим образом не может заменить внимательного прочтения текста Фрейда. Давайте упомянем среди прочего промежуток времени равный девяти месяцам между истерическим симптомом аппендицита и фактом, его порождающим, сценой у озера - Фрейд полагает, что здесь имеется символическое значение, которое придаёт этому пациентка, но если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что в действительности речь идёт о пятнадцати месяцах. И эти пятнадцать месяцев имеют смысл, потому что это «пятнадцать» встречается в отчёте о наблюдении повсюду, и это полезный для понимания элемент, поскольку он основан на цифрах и на чисто символическом значении.
Сегодня я смогу напомнить вам лишь термины, в которых рассматривается проблема на протяжении всего наблюдения. Конечно, Фрейд впоследствии признаёт, что если он и потерпел неудачу, то произошло это из-за сопротивления пациентки признанию своей любовной привязанности к господину К., которую Фрейд, опираясь на свой авторитет, настойчиво преподносит ей как свершившийся факт. Он доходит до того, что впоследствии добавляет примечание с указанием на то, что, несомненно, им была допущена ошибка и ему следовало понять гомосексуальную привязанность к госпоже К. в качестве действительной причины как для формирования изначальной позиции Доры, так и для её дальнейшего кризиса. Но помимо того, что Фрейд понимает это спустя некоторое время, важно ещё то, что на протяжении всего отчёта о наблюдении вы видите, насколько противоречиво он относится к реальному объекту желания Доры.
В каких терминах можно сформулировать проблему? Здесь снова речь идёт о предоставлении возможной формулировки этой двойственности, в некотором смысле неразрешимой. Ясно, что персонально господин К. имеет весьма важное значение для Доры и что с ним установлено что-то вроде либидинальной связи. Также ясно, что существует и важный фактор иного порядка, постоянно играющий свою роль в либидинальной связи Доры и госпожи К. Как можно сопоставить одно и другое таким образом, чтобы это было обоснованным и позволило осмыслить и развитие ситуации, и момент остановки, кризис и нарушение равновесия?
Я сделал это пять лет назад при первом прочтении этого случая с точки зрения истерической структуры и отметил следующее:
- истерик это тот, кто любит по доверенности (par procuration), вы найдёте подтверждение этому в массе наблюдений;
- истерик это тот, чей объект гомосексуален;
- истерик подступается к этому гомосексуальному объекту путём идентификации с кем-то другого пола.
Так было в первом, более клиническом приближении.
Я пошёл дальше, исходя из понятия нарциссического отношения в качестве основания собственного Я как матрицы, Urbild, исходя из конструкции воображаемой функции, называемой собственное Я, и показал, где в наблюдении можно увидеть следы работы этой воображаемой функции. На самом деле в этой кадрили принимает участие лишь собственное Я. Только собственное Я Доры осуществляет идентификацию

с мужественной фигурой господина К, мужчины являются для неё множеством возможных образцов для её собственного Я. Другими словами, при посредничестве господина К., когда она сама становится господином К., именно в этом воображаемом положении, где воссоздаётся личность господина К., Дора оказывается связанной с персонажем госпожи К.
Я пошел ещё дальше и задался вопросом, почему госпожа К. является кем-то важным? Она важна не только потому, что является объектом, выбранным среди прочих объектов. Она важна не только потому, что наделена нарциссической функцией, которая лежит в основе влюблённости, Verliebtheit. Нет, как показывают сновидения, которые и стали принципиальной основой наблюдения, госпожа К. - это вопрос Доры.
Попробуем теперь перевести это в нашу нынешнюю формулировку и определить, каким образом этот квартет можно переложить на нашу основную схему.
Дора - истеричка, то есть она перешла на уровень эдипального кризиса, смогла его преодолеть и в то же время не смогла. На то есть причина: её отец, в отличие от отца юной гомосексуальной пациентки, несостоятелен в половом отношении. Всё наблюдение основано на этом центральном пункте несостоятельности отца. Таким образом, здесь есть возможность особенно наглядно показать то, в чём может заключаться функция отца в отношении нехватки объекта, посредством которой девочка входит в Эдип. Какой может быть функция отца как дарителя?
Эта ситуация опирается на различение, предпринятое мной в разговоре о первичной фрустрации - различение, которое может установиться в отношениях ребёнка с матерью. Ребёнок испытывает фрустрацию в связи с отстранением от некоторого объекта. Но после произошедшей фрустрации его желание сохраняется. Смысл фрустрации состоит в том, что объект остаётся принадлежащим субъекту и после фрустрации. И тогда мать вмешивается в другом регистре - она даёт или не даёт, но лишь то, что является знаком любви.
Именно здесь появляется отец как тот, кто символически предоставляет этот объект нехватки. В случае Доры он его не предоставляет, потому что не имеет его. Фаллическая несостоятельность (carence) отца звучит на протяжении всего наблюдения как фундаментальная, определяющая позицию тональность. Но является ли этот обнаруженный нами план единственным? Означает ли это, что случившийся кризис связан целиком и полностью с одной только этой нехваткой? Посмотрим, о чём идёт речь. Что выступает в качестве дара? Нет ли другого измерения, которое вводится в отношения с объектом на уровне, где они возводятся в символическую степень тем фактом, что объект может быть дан или может быть не дан? Другими словами, этот объект вообще когда-нибудь может быть дан? В этом весь вопрос, и в случае Доры мы видим одно из показательных его разрешений.
На самом деле она не получает дара мужественности от отца и остаётся к нему очень привязанной, так сильно привязанной, что эта история начинается именно в возрасте угасания Эдипа вместе с серией истерических происшествий, которые очень чётко связаны с проявлениями любви к отцу, который в этот момент более, чем когда-либо, выглядит как отец раненый и больной, как отец, поражённый в самой своей жизненной состоятельности. Любовь, которую Дора испытывает к отцу в тот момент, напрямую соотносится с его умалением.
Таким образом, у нас есть чёткое различение. То, что вмешивается в отношения любви, то, что запрашивается в качестве знака любви, никогда не является чем-то иным,

нежели именно знаком. Или, продвигаясь ещё дальше: нет большего возможного дара, большего знака любви, чем дар того, чего у нас нет. Но подчеркнём также, что измерение дара появляется только с введением закона. Как это подтверждают социологические изыскания, дар - это нечто, циркулирующее в процессе обмена - дар, который вы преподносите, всегда является даром, который вы до этого сами получили. Но когда дело касается двух субъектов, обмен происходит как-то иначе, поскольку отношения любви предполагают, что дар преподносится в обмен на ничто.
Ничто на ничто как принцип обмена. Эта формула, как и любая другая, содержащая в себе двусмысленное ничто, кажется формулой самой заинтересованности, но также она является формулой чистой благодарности. На самом деле в даре любви заключается только то, что дается ни за что и может быть только «ничем». Другими словами, субъект делает дар, когда отдаёт что-то безвозмездно, и поскольку в этом заключено всё то, чего ему не хватает, то он жертвует чем-то за пределами того, что у него есть. То же самое относится к примитивному дару, поскольку он действительно появляется в начале человеческих обменов в форме потлача.
Предположим, субъект располагает всеми возможными благами, несметным богатством, он на вершине возможностей обладания всем, чем только можно. Но его дар не имел бы тогда ни малейшей ценности в качестве знака любви. Верующие воображают себе возможность любить Бога, потому что предполагают, что Бог действительно обладает этой полнотой и совершенством бытия. Но такая возможность мыслима лишь постольку, поскольку в основе любой веры можно обнаружить ещё кое-что. Ведь существу, которое представляется всем, несомненно, не хватает в бытии главного, то есть существования. В основе любой веры в Бога как безгранично щедрого, есть нечто такое, чего Ему не хватает, что постоянно заставляет сомневаться в Его существовании. Нет никаких других оснований любить Бога, кроме сомнения в Его существовании.
Не вызывает сомнений, что именно так Дора любит своего отца. Она любит его за то, чего он ей не дает. Ситуация не поддаётся осмыслению без учёта этого изначального положения, которое сохраняется до конца. И теперь стоит задуматься, каким образом можно было это положение терпеть, выносить, когда отец на глазах у Доры оказался вовлечён в другие отношения, которым сама Дора, похоже, способствовала.
В наблюдении мы имеем дело с тройкой: отец, Дора, госпожа К.
ДОРА

Похоже на то, что вся история начинается с вопроса Доры: «Что мой отец любит в госпоже К.?» Госпожа К. представляет собой то, что отец может любить помимо неё. И то, к чему Дора привязывается, это то неизвестное ей, что её отец любит в другой.
Это вполне соответствует теории фаллического объекта, а именно тому, что субъект женского пола может войти в диалектику символического порядка только посредством фаллического дара. В психологии женщины Фрейд не отрицает реальную потребность, соотносимую с женским органом, но он никогда не допускал её участия в

установлении позиции желания. Желание ориентировано на фаллос, поскольку он должен быть обретён в качестве дара. Для этого фаллос, отсутствующий или присутствующий где-то в другом месте, нужно перевести на уровень дара. Тогда он приобретает достоинство объекта дара и вводит субъекта в диалектику обмена, которая урегулирует все позиции, вплоть до основополагающих запретов, в условиях которых существуют отношения обмена. Именно внутри этого находит своё место и побочное удовлетворение реальная потребность, связанная с женским органом, существование которой Фрейд никогда не думал отрицать, но он никогда не придавал ей какого-либо символического смысла, поскольку она всегда сама по себе проблематична и имеет место до определённого символического перехода.
Вот то, о чём в действительности идёт речь по ходу развития событий и разворачивания симптомов на протяжении всего наблюдения. Дора задается вопросом: «Что такое женщина?» И поскольку госпожа К. воплощает эту самую женскую функцию, она становится для Доры той, на кого проецируется этот вопрос. Дора вступает в дуальные отношения с госпожой К., или скорее госпожа К. это та, кто любима помимо Доры, вот почему Дора заинтересована в сохранении этой позиции. Госпожа К. осознаёт, что Дора понятия не имеет, как себя в этой ситуации расположить. Любимо нечто за пределами существа. То, что любимо в существе, лежит за пределами того, чем это существо является, в конечном итоге это именно то, чего ему не хватает.
Дора оказывается где-то между своим отцом и госпожой К. Покуда отец любит госпожу К., Дора чувствует себя удовлетворённой, конечно, при условии, что эта позиция стабильно сохраняется. Кроме того, эта позиция многократно символизируется. Так, несостоятельный отец прибегает к всевозможным вариантам замены символического дара, включая дары материальные, для того чтобы восполнить нехватку своего мужественного присутствия, он заодно щедро одаривает Дору, распределяя подарки между любовницей и дочерью, тем самым включая последнюю в эту символическую диспозицию.
Но это ещё не всё - Дора старается получить доступ в противоположном направлении. Я имею в виду, что не по отношению к отцу, а по отношению к женщине, госпоже К., она пытается воссоздать ситуацию треугольника отношений. Здесь появляется господин К., с фигурой которого образуется треугольник, ориентированный в противоположном направлении.
ДОРА (2)
I Господин К А .
Госпожа К Дора Отец
В поисках ответа на свой вопрос Дора предполагает, что господин К. по одну с ней сторону к госпоже К., то есть испытывает к своей жене такое же обожание, которое находит ещё одно своё выражение у Доры в очень показательной символической

ассоциации госпожи К. с Сикстинской Мадонной. Госпожа К. - предмет обожания всех окружающих, и в конечном итоге Дора связана с ней именно как соучастница этого обожания. Господин К. является инструментом, с помощью которого она осваивается в этом положении, пытаясь реинтегрировать в общий контур мужской элемент.
Когда господин К. получает пощёчину? Не тогда, когда ухаживает за Дорой или признаётся ей в любви. И даже не тогда, когда приближается к ней в невыносимой для истерички манере. Но в тот момент, когда он говорит ей: «Ich habe nichts an meiner Frau». «Я ничего не имею к моей жене». Немецкая формулировка очень красноречива, если мы придадим понятию «ничего» его полное значение, она приобретёт особенно выразительный смысл. То, что он сказал, выводит его за пределы образованного контура, где установился следующий порядок:
| ДОРА (3) |
|---|
 |
Дора вполне допускает, что её отец любит в ней и с помощью неё кого-то, кто «по другую сторону», госпожу К., но для того, чтобы господин К. мог соответствовать своему месту, он должен исполнять ровно противоположную, уравновешивающую функцию. То есть, Дора должна быть той, кого любит господин К. «по другую сторону» своей жены, но только в том случае, если жена для него «что-то» значит. Это «что-то» - это то же самое, что «ничто», которое должно быть «по ту сторону», то есть в данном случае Дора. Он не говорит, что его жена для него «ничто», он говорит, что там, на её стороне, нет «ничего». Предлог an мы находим во множестве немецких оборотов, например, в выражении Es fehlt ihm an Geld, ему не хватает денег. An это довесок, дополнение к расположенному «по ту сторону», к тому, чего не хватает. Мы здесь обнаруживаем именно это. Господин К. хочет сказать, что за его женой ничего нет - Моей жены нет в этом контуре.
К чему это приводит? Дора не может вынести его интереса к ней в том случае, если он интересуется только ей. Вся ситуация сразу же ломается. Если господин К. интересуется только ею, значит, её отец интересуется только госпожой К., она не может этого перенести. Почему?
На глазах у Фрейда разворачивается типичная ситуация. В соответствии с объяснением Месье Клода Леви-Стросса в Элементарных структурах родства, брачный обмен подразумевает именно это: «я получил женщину, я должен дочь». Женщина непосредственно выступает только в качестве предмета обмена и никак не интегрирована в сам принцип организации обмена и права. Другими словами, если она сама от чего-то не отреклась, если она не отреклась от отцовского фаллоса в качестве объекта дара, она не сможет представить себе, субъективно говоря, ничего, что она получала бы от других, то есть от другого мужчины. Будучи исключена из этой первой

организации дара и закона в прямых отношениях с даром любви, она может пережить эту ситуацию, только опустившись до уровня объекта.
Именно так и происходит в этот момент. Дора, переполненная возмущением, говорит: «Мой отец продаёт меня кому-то другому». Что действительно является объективной оценкой положения дел, которое остаётся в тени. Фактически, отец покупал расположение мужа госпожи К. тем, что на протяжении нескольких лет не обращал внимания на его ухаживания за Дорой.
Итак, господин К. признал, что не является частью контура, в котором Дора могла бы идентифицировать себя и полагать, что она, Дора, привязана к нему в качестве его объекта «по другую сторону» его жены. Происходит разрыв этих связей, без сомнения, тонких и неоднозначных, но имеющих смысл и прекрасно ориентированных, пусть нестабильных, но помогающих Доре найти своё место в общем контуре. Равновесное положение ситуации оказалось нарушенным. Дора обнаруживает себя в роли простого объекта и затем начинает требовать. Она заявляет свои права на то, что до сих пор, по её мнению, ей уже принадлежало, даже посредством другого человека. Она требует любви своего отца. С этого момента, поскольку в этой любви ей отказано, она требует её исключительно для себя.
3
Таким образом, Дора и наша юная гомосексуальная пациентка вписаны соответственно в две ситуации в двух разных регистрах. В чём между ними разница?
Чтобы ускориться и завершить картину, я скажу вам, на что мы опираемся.
Если в бессознательном нашей юной гомосексуальной пациентки действительно поддерживается обещание отца у тебя будет ребёнок от меня, и если в своей возвышенной любви к даме она демонстрирует, как нам говорит об этом Фрейд, модель абсолютно бескорыстной любви, любви в обмен на ничто, не замечаете ли вы, что всё происходит, как если бы девочка хотела показать отцу, что такое настоящая любовь, любовь, в которой её отец отказал ей? Без сомнения, в бессознательном субъекта есть мысль, что отец отдаёт предпочтение матери, поскольку видит в этом больше преимуществ, и действительно, это положение, а именно подавляющее превосходство взрослого соперника, имеет основополагающее значение для любого вступающего в комплекс Эдипа ребёнка. Дочь здесь показывает своему отцу, как можно любить кого-то не только за то, что он имеет, но буквально за то, чего у него нет, за символический пенис. Она хорошо знает, что не найдёт его у дамы, потому что ей хорошо известно, что им располагает отец, который не бессилен.
Другими словами, то, что мы можем назвать в этом случае перверсией, выражается между строк, с помощью противопоставлений и намёков. Это один из способов говорить о чём-либо одном и в то же самое время путём использования определённых терминов сообщать некий противоположный смысл, который требуется донести до понимания. Иначе говоря, вы находите здесь то, что я однажды назвал метонимией, которая позволяет нечто сообщить, говоря о совершенно других вещах. Если вы не преуспели в постижении этого основополагающего понятия метонимии, то вряд ли вы сможете прийти к каким-либо представлениям о том, что перверсия может означать в воображаемом.

Метонимия является основным принципом для всего, что можно причислить к измерению выдумки и искусства, то есть к реализму. Поскольку реализм буквально не имеет смысла. Роман со множеством мелочей, которые ни о чём не говорят, не имеет никакой ценности, если в нём нет отчётливо и согласованно вибрирующего смысла, который обретает своё значение за пределами текста. Так в начале Войны и мира отсылка к элементу обнажённых женских плеч служит отсылке к чему-то совершенно отвлечённому. Великие романисты выражают смысл не символически, не аллегорически, но с помощью того, что они удерживают на расстоянии. То же самое в кино - фильм хороший, если метонимический. Точно так же перверсивная функция субъекта является метонимической функцией.
Но так ли это для Доры, которая является невротиком? В её случае всё происходит совершенно иначе. Принимая во внимание схему, обнаруживается, что в перверсии мы имеем дело с означающим поступком, указывающим на означающее, расположенное дальше в цепочке означающих и связывающее его таким образом с необходимым означающим. В случае Доры она как субъект меняет свою позицию, соблюдая последовательность означающих в цепи. Она находится в своего рода бесконечной метафоре.
Дора не понимает ни куда себя деть, ни где она находится, ни зачем она нужна, ни зачем нужна любовь. Она только знает, что любовь существует, и конструирует историю, где любовь находит своё место в виде вопроса. Этот вопрос проявляется в форме и содержании всех её сновидений. Шкатулка с драгоценностями, Bahnhof, Friedhof, Vorhof - всё это означает не что иное, как этот вопрос. Короче говоря, у Доры возникает вопрос, что значит быть женщиной, и она выражает его определённым образом, а именно посредством симптомов. Симптомы - это означающие элементы, но они важны постольку, поскольку под ними скрывается постоянно ускользающее означаемое, которое интересует Дору, в погоню за которым она вовлечена.
Именно в качестве метафоры невроз Доры приобретает свой смысл и может найти своё разрешение. Фрейд хотел ввести в эту метафору или, скорее, усилить в ней реальный, постоянно возвращающийся элемент, повторяя Доре: «Вот, именно это вы любите». Конечно, кое-что нормализуется посредством включения в контур господина К., но это всё равно остаётся в метафорическом состоянии.
Доказательством этого служат те признаки подобия беременности Доры после разрыва с господином К., смысл которых Фрейд распознаёт своим поразительным интуитивным чутьём. Действительно, в дальнейшем имеет место нечто вроде странного многозначительного выкидыша. Фрейд указывает на срок в девять месяцев, потому что так говорит ему сама Дора, признавая тем самым своего рода беременность. На самом деле проходит пятнадцать месяцев, что превышает обычный период беременности. Важно, что Дора видит в этом последний отзвук того, что до сих пор связывает её с господином К. Мы находим некоторый эквивалент совокупления, который производится в символическом порядке в чисто метафорической форме. Повторим ещё раз, симптом в этом случае - только метафора. Для Доры это попытка присоединиться к закону символических обменов в отношениях с человеком, с которым вступают в союз или расходятся.
И наоборот, роды, которые также имеют место в конце случая юной гомосексуальной пациентки перед тем, как она попадает в руки к Фрейду, находят своё выражение следующим образом - внезапно она бросается с небольшого моста на

железную дорогу. Это случается в момент, когда реальный отец снова являет своё раздражение и ярость, а женщина, которая с ней, поддерживает это вмешательство отца и говорит, что больше не хочет её видеть. Девушка в этот момент лишается своих последних опор. До этого она уже была достаточно фрустрирована потерей того, что должна была получить, а именно отцовского фаллоса, но нашла способ поддержать желание в воображаемых отношениях с дамой, отказа которой она теперь совершенно не может вынести. Объект окончательно утрачен, и то ничто, в котором она утверждается, чтобы показать отцу, как можно любить, больше не имеет основы для существования. В этот момент она совершает попытку самоубийства.
Как подчёркивает Фрейд, у этого есть и другой смысл, смысл окончательной потери объекта. Этот фаллос, в котором ей решительно отказано, является тем, что выпадает, niederkommt. Падение здесь имеет значение окончательного лишения и в то же время некоторым образом имитирует символические роды. Вы найдёте здесь метонимическое значение, о котором я говорил. Если акт этого броска с железнодорожного моста в критический и предельный момент её отношений с дамой и отцом Фрейд интерпретирует как показательную попытку самой произвести на свет ребёнка, которого она не получила, и в то же время уничтожить себя в последнем выразительном акте как объект, то основана эта интерпретация исключительно на существовании слова niederkommt.
Это слово метонимически указывает на последнее обстоятельство суицида, в котором находит своё выражение то, о чём идёт речь в случае юной гомосексуальной пациентки. Единственным источником её перверсии, в соответствии с тем, что Фрейд неоднократно утверждал относительно патогенеза определённого типа женской гомосексуальности, является устойчивая и особенно сильная любовь к отцу.
23 января 1957

Часть III Объект-фетиш

глава 9 Функция завесы
Символический фаллос
Как реализовать нехватку
Покрывающее воспоминание, остановка на образе
Череда перверсивных идентификаций
Структура реакционного эксгибиционизма
Продолжая наши размышления об объекте, я предложу вам сегодня заняться областью, где вопрос объекта возникает в особенно острой форме, а именно фетишем и фетишизмом.
Вы снова увидите основополагающие схемы, представленные мною на последних встречах, которые особенно отчётливо формулируются в следующих парадоксальных утверждениях: «в объекте любят то, чего в нём недостаёт» и «мы даём лишь то, чего не имеем».
Эта фундаментальная схема, предполагающая для любого символического обмена, какой бы смысл его функционирование ни несло, постоянство конституирующей то, что располагается по ту сторону объекта, черты, позволяет нам по-новому взглянуть на пресловутую перверсию, которой в аналитической теории придают особую роль, и по-другому определить то, что я мог бы назвать её фундаментальными уравнениями.
Итак, речь пойдёт о фетишизме.
1
Вопросом фетишизма Фрейд занимается в двух основополагающих текстах, которые разделяет период с 1904 по 1927 год, и хотя он возвращается к этой теме и позже, именно они остаются наиболее ценными. Это один параграф в Трёх очерках по теории сексуальности и статья Фетишизм.
В этой статье Фрейд сразу говорит нам, что фетиш что-то символизирует, и мы несомненно будем разочарованы тем, что он собирается нам сказать, поскольку тему фетиша в анализе он уже затрагивал много раз, и снова этим чем-то оказывается пенис.
Только вот Фрейд немедленно подчёркивает, что это не абы какой пенис. Это уточнение так и не было, похоже, использовано с учетом его структуры, то есть тех фундаментальных предположений, которые невольно напрашиваются уже при первом, наивном его прочтении. Прямо говоря, пенис, о котором идёт речь, это не реальный пенис; это пенис, поскольку он есть у женщины, то есть постольку, поскольку пениса у неё нет.
Я обращаю внимание на смысловое колебание в этом пункте, потому что нам следует на мгновение задержаться на нём, чтобы увидеть то, что обычно предпочитают не замечать. Для того, кто не знаком с нашими ключевыми понятиями, это просто вопрос ошибочного понимания реальности - речь идёт о фаллосе, которого женщина не имеет, но должна была бы иметь в свете сомнительных отношений ребёнка с реальностью. Это общее заблуждение, которое, как правило, ведёт к последующим спекуляциям на тему будущего, развития и фетишистских кризисов; в процессе подробного изучения всего

того, что было написано о фетишизме, я удостоверился, что эти спекуляции заводят авторов во всевозможные тупики.
Я, как всегда, постараюсь не слишком задержаться в этой чаще психоаналитической литературы. Откровенно говоря, чтобы как следует проработать тему, требуются многие часы и подробное изучение, потому что нет более кропотливой и даже утомительной работы, чем искать точное место, где рассуждение проскальзывает, где автору изменяет способность к различению, так что я представлю вам более-менее сухой остаток из всего мною прочитанного и попрошу вас этому довериться.
Чтобы избежать тех дебрей, в которых долгие годы пребывают эти авторы, необходима путеводная нить. И нужно чётко сориентироваться относительно того пункта, который они не признают. А именно, следует определить, что речь идёт не о реальном фаллосе, который, будучи реальным, или есть, или нет, речь идёт о фаллосе символическом, по самой природе своей предстающем в обмене в качестве отсутствующего - отсутствие, функционирующее как таковое.
На самом деле всё, что может быть передано в символическом обмене, всегда представляет собой нечто столь же отсутствующее, сколь и присутствующее. Так устанавливается основополагающий режим чередования, в котором нечто, появляясь в одном месте, исчезает, чтобы вновь появиться в другом. Иначе говоря, оно циркулирует, оставляя знак своего отсутствия там, откуда приходит. Другими словами, в фаллосе, о котором идёт речь, мы тотчас распознаём символический объект.
С одной стороны, с помощью этого объекта устанавливается структурный цикл воображаемых угроз, которые ограничивает применение реального фаллоса. Именно в этом и состоит смысл комплекса кастрации, именно в этом отношении человек ему подчинён. Но есть и другое использование, которое скрыто, так сказать, под более или менее пугающими фантазмами об отношениях человека с запретами, связанными с использованием фаллоса - в этом состоит символическая функция фаллоса. Именно тем, тут он или его тут нет, и исключительно этим, и определяется символическое различие полов.
Женщина символически не обладает фаллосом. Но не обладать фаллосом символически означает располагать его отсутствием, это уже некоторого рода обладание. За любыми отношениями между мужчиной и женщиной всегда стоит фаллос. Порой он может оказаться для женщины объектом воображаемой ностальгии, поскольку у неё есть только очень маленький фаллос. Но этот фаллос, который она может считать недостаточным, является не единственным, которым она располагает. В силу того, что она вписана в интерсубъективные отношения, для мужчины по ту её сторону есть тот фаллос, которого у неё нет, то есть символический фаллос, который налицо у неё как отсутствие. Её реальная причастность к фаллосу совершенно никак не зависит от той неполноценности, которую она может ощущать в воображаемом плане.
Этот символический пенис, который я включил на предыдущих встречах в схему случая юной гомосексуальной пациентки, играет принципиальную роль при вхождении девочки в измерение символического обмена. Именно по причине того, что у девочки нет фаллоса, то есть поскольку она располагает им в символическом плане, она входит в символическую диалектику обладания или не обладания фаллосом, то есть в упорядоченные и символизированные отношения различия полов, отношения между людьми, которые являются принятыми, регулируемыми, типизированными,

организованными, пронизанными запретами, отмеченными, в частности, фундаментальной структурой запрета на инцест. Именно это имеет в виду Фрейд, когда пишет, что при помощи того, что он называет идеей кастрации - идеей, которая заключается в том, что у девочки нет фаллоса, но у неё нет его символически, таким образом, она может его иметь - она входит в эдипов комплекс, входит именно там, где мальчик из него выходит.
Здесь на структурном уровне мы видим подтверждение андроцентризма, который по леви-строссовской схематизации отмечает элементарные структуры родства. Женщины обмениваются между родами, определяющимися по мужской линии, именно в силу того, что она определяется символически и вероятностно. По факту женщины выступают предметами обмена между мужскими родами посредством обмена на тот фаллос, который они символически получают и в обмен на который они дают ребенка. Этот последний приобретает для них функцию эрзаца, заменителя, эквивалента фаллоса, благодаря чему они вводят природное воспроизводство в эту, саму по себе бесплодную, патроцентрическую символическую генеалогию. Именно в силу связи с этим уникальным, центральным объектом, который характеризуется тем, что является не просто объектом, но объектом, который самым радикальным образом был обращён в символический, именно через такое отношение к фаллосу они входят в цепочку символического обмена, обустраиваются там, обретают своё место и своё значение.
Это тысячей способов даёт о себе знать, как только однажды вы это заметили. Если присмотреться повнимательнее, чем оборачивается фундаментальное представление, будто женщина отдаёт себя, как не утверждением дара? Перед нами здесь весьма конкретный и парадоксальный психологический опыт. На самом деле в акте любви именно женщина является получающей стороной, она скорее получает, чем отдаёт. Всё указывает на то, - и аналитический опыт это подтверждает - что в воображаемом плане её позиция ассоциируется прежде всего с присвоением, едва ли не с пожиранием. И если на деле говорится обратное, что женщина отдаёт себя, то лишь в силу того, что символически это должно быть именно так - она должна что-то отдать взамен того, что получает, а именно взамен символического фаллоса.
Итак, говорит нам Фрейд, это и есть фетиш, представляющий собой отсутствующий символический фаллос. Как можно не заметить, что здесь необходим этот особого рода изначальный переворот, чтобы мы смогли понять вещи, которые в ином случае были бы парадоксальными? Например, фетишистом всегда становится мальчик и никогда девочка. Если бы решающим моментом была недостача, воображаемая неполноценность, то из двух полов к фетишизму должен был бы быть более предрасположен скорее тот, который действительно лишён фаллоса. Но ничего подобного. Фетишизм чрезвычайно редко встречается у женщин, если говорить о его непосредственном и обособленном значении, когда он воплощается в объекте, который мы могли бы рассмотреть как символизацию отсутствующего фаллоса.
Попробуем для начала понять, каким образом могут возникнуть эти особые отношения субъекта с объектом, который таковым не является.

2
Фетиш, говорит нам анализ, является символом. В этом отношении он сразу же оказывается почти в том же положении, что и любой другой невротический симптом.
Но в случае фетишизма мы говорим не о неврозе, но о перверсии, и это не одно и то же. Нозологическая классификация опирается на клинические проявления, которые, несомненно, имеют определённое значение, но нужно присмотреться повнимательнее, чтобы увидеть это на структурном уровне, с аналитической точки зрения. На самом деле многие авторы испытывают здесь некоторые колебания и доходят до того, что располагают фетишизм на границе между перверсиями и неврозами именно по причине особого символического характера ключевого фантазма.
Начиная с самой верхушки всей структуры, задержимся на мгновение на этой позиции заслонения, в которой то, что любимо в объекте любви, располагается по другую его сторону. Без сомнения, эта вещь является ничем, но обладает свойством наличия тамсимволически. Поскольку она символ, она не только может, но и должна быть ничем. Что наиболее явным образом может материализовать для нас эти отношения заслонения, где то, на что мы нацелены, находится по другую сторону того, что явлено? Не является ли это одним из фундаментальных образов человеческих отношений с миром - покровом, завесой?
Покров, завеса, за которыми что-то кроется - вот что даёт наилучшее представление о ситуации любви. Можно даже сказать, что в присутствии завесы то, что расположено по другую сторону как нехватка, стремится реализовать себя как образ. На завесе изображено отсутствие. Это и есть функция любой завесы. Завеса приобретает своё значение, существование и качество именно экрана, на который спроецировано и где отображено отсутствие. Эта завеса, так сказать, представляет из себя идол отсутствия. И если покрывало Майи стало метафорой, наиболее часто используемой для выражения отношений человека со всем, что его пленяет, то, без сомнения, произошло это не без причины, а связано с ощущением некоторой исконной иллюзорности всех сотканных желанием взаимосвязей. Именно на этой поверхности человек воплощает, идолотворит своё чувство к этому ничто, расположенному по другую сторону объекта любви.
Вы должны иметь в виду эту основополагающую схему для того, чтобы всякий раз, когда мы рассматриваем установление фетишистских отношений, правильно располагать задействованные элементы.
СХЕМА ЗАВЕСЫ
Субъект
Объект Ничто
Завеса

Вот субъект и объект, и это ничто, расположенное по ту сторону, оно же символ, оно же фаллос, которого не хватает женщине. Но как только возникает занавес, на нём может нарисоваться нечто, говорящее: «Объект там, по ту сторону». Тогда объект может занять место нехватки и таким образом стать опорой любви, но как раз в силу того, что он не является пунктом, к которому устремлено желание. Некоторым образом, желание здесь проявляется как метафора любви, но то, что привязывает его к себе, то есть объект, является в качестве иллюзорного, и с иллюзорностью и связана как раз его ценность.
Пресловутое «расщепление эго» в разговорах о фетише объясняют нам тем, что в женской кастрации одновременно присутствует утверждение и отрицание. Поскольку фетиш своим наличием удостоверяет, что женщина не потеряла фаллос, но и может его лишиться, то есть может быть кастрирована. Двойственность по отношению к фетишу является константой и постоянно проявляется в симптомах. Эта двойственность представляет собой оберегаемую иллюзию, которая зависит каждое мгновение от того, опущена завеса или же поднята. Именно о такого рода связи идёт речь в отношениях фетишиста с его объектом.
По поводу фундаментальной позиции отрицания по отношению к фетишу Фрейд, когда мы следуем его тексту, говорит о Verleugnung. Но в разговоре об этих сложных отношениях он упоминает также о важности сохранения вертикального положения, aufrecht zu halten, как если бы речь шла предметах мебели. Так в языке Фрейда, настолько образном и одновременно точном, появляются термины, которые обретают здесь весомую значимость. «В создании подобного заменителя отвращение к кастрации воздвигло себе памятник», - говорит он. Фетиш - это Denkmal. Слово трофей не подходит, но на самом деле оно присутствует в удвоении знака триумфа, das Zeichen des Triumphes. Множество раз авторы, приближаясь к типичному феномену фетиша, будут говорить о нём как о том, посредством чего субъект провозглашает своё отношению к полу. Здесь Фрейд помогает продвинуться ещё на один шаг.
Почему так происходит? Почему это необходимо? Мы к этому ещё подойдём. Ведь мы, как обычно, слишком торопимся. Если мы сразу же начинаем с «почему», то немедленно попадаем в пандемический хаос различных направлений, которые наваливаются толпой, дабы объяснить, почему субъект более или менее отдаляется от объекта и чувствует угрозу с его стороны, находится в конфликте с ним. Давайте лучше на мгновение задержимся на структуре.
А структура вот она: в отношениях того, что по другую сторону, и завесы. На завесе может быть изображено, то есть размещено в качестве воображаемой ловушки и места желания, отношение к тому, что лежит по ту сторону и является основополагающим для всякого установления символических отношений. Речь здесь идёт о сведении в воображаемую плоскость того троичного ритма субъект-объект-потустороннее, который является фундаментально значимым для символических отношений. Иначе говоря, в функции завесы речь идёт о проекции занимаемого объектом промежуточного положения.
Прежде чем идти дальше и подойти вплотную к необходимости, создающей у субъекта потребность в завесе, обратим внимание на ещё один аспект установления в воображаемом символических отношений.
В прошлый раз я говорил вам, в связи со структурой перверсии, о метонимии, а также о косвенных намёках и тех подразумеваемых между строк отношениях, которые представляют собой её производные формы. То же самое говорит и Фрейд, только слово

метонимия он не использует. То, что образует фетиш, тот символический элемент, который фиксирует фетиш и проецирует его на завесу, специально заимствуется из исторического измерения. Это момент истории, где образ фиксируется.
Помнится, я однажды уже использовал сравнение с действием фильма, которое внезапно застывает за мгновение до того, как то, что разыскивается у матери, то есть фаллос, который она и имеет, и не имеет, вот-вот должен быть увиден как присутствие-отсутствия или отсутствие-присутствия. Припоминание истории останавливается и зависает в последний момент.
Я говорю о припоминании истории, поскольку у такого фундаментального термина фрейдовской феноменологии и концептуализации как покрывающее воспоминание (souvenir-écran) нет никакого другого смысла. Покрывающее воспоминание, Deckerinnerung, это не просто стоп-кадр, это прерывание истории, момент, в который она останавливается и застывает, продолжая одновременно стремиться к тому, что расположено по ту сторону завесы. Покрывающее воспоминание связано с историей всей цепочкой исторических событий, оно является остановкой этой цепи, и именно в этом смысле оно метонимично, поскольку история по своей природе длится. И в момент остановки цепь указывает на своё завуалированное продолжение, на своё отсутствующее продолжение, то есть на вытеснение, о котором, как уточняет Фрейд, и идёт здесь речь.
Мы говорим о вытеснении только потому, что существует символическая цепь. Если в качестве вытесняемого мы описываем воображаемый феномен, поскольку фетиш в некотором смысле является образом, и образом спроецированным, то лишь потому, что этот образ представляет собой пограничный пункт между длящейся историей и моментом, в котором она прерывается. Это знак, метка, пункт вытеснения.
Читая тексты Фрейда внимательно, вы увидите, что именно наш способ артикулировать вещи наделяет его выражения наиболее ясным смыслом.
Здесь мы снова видим различие между отношением к объекту любви и фрустрирующим отношением к объекту. Это два разных отношения. Любовь переносится на привязанное к иллюзорному объекту желание посредством метафоры, но конституируется этот объект не метафорически, а метонимически. Это пункт в исторической цепочке, тот пункт, где история останавливается. Это знак того, что именно здесь берёт начало конституируемое субъектом потустороннее. Почему? Почему именно в этом пункте субъекту приходится конституировать нечто по ту сторону? Почему человек ценит завесу более, чем реальность? Почему порядок этого иллюзорного отношения становится для него сущностной, необходимой составляющей связи с объектом? Таков вопрос, поднимаемый фетишизмом.
Прежде чем идти дальше, вы уже можете заметить, насколько всё проясняется, включая случай замечательного каламбура, который Фрейд предоставляет нам как первый эпизод анализа фетишизма. Один господин, который жил в детстве в Англии и стал фетишистом, приехав в Германию, всегда искал виденный им некогда небольшой блеск на носу, ein Glanz auf die Nase. Речь здесь идёт ни о чём ином, как о взгляде на нос, нос, который и сам по себе, конечно, является символом. Немецкое выражение воспроизводит звучание английского glance at the nose, взгляд на нос, услышанное нашим господином в раннем детстве. Здесь вы видите включение в игру и проекцию на определённую точку завесы исторической цепочки событий, которая может включить в себя даже целое предложение и, более того, забытое предложение на другом языке.

Итак, каковы причины установления фетишистской структуры? Грамматисты по этому поводу ничего не могут сказать.
3
С некоторых пор авторы-психоаналитики находятся в затруднении. С одной стороны, мы не можем упускать из виду, что происхождение фетишизма непосредственным образом сопряжено с комплексом кастрации. С другой стороны, именно в доэдипальных отношениях, и нигде ещё, с наибольшей отчётливостью проявляется центральное положение элемента фаллической матери как главной первопричины. Как могут сочетаться эти два положения?
Авторы довольно легко с этим справились. Посмотрите только, какие способы упрощения, притом довольно посредственные, могут использовать представители английской школы благодаря системе Мелани Кляйн. Она структурирует первые этапы оральных тенденций, особенно в их самой агрессивный фазе, вводя присутствие отцовского пениса, который оказывается там путём ретроактивной проекции, то есть она ретро-активирует эдипов комплекс в первых отношениях с допускающими интроекцию объектами. Так мы получаем наиболее простой доступ к материалу, который позволяет проинтерпретировать, о чём идёт речь. Поскольку я ещё не представил всестороннего анализа системы Мелани Кляйн, оставим пока в стороне, что думает на этот счёт тот или иной автор. Чтобы держаться того, к чему мы пришли на сегодняшний день, оттолкнёмся от основополагающих отношений реального ребенка, символической матери и фаллоса, который является для неё воображаемым.
С этой схемой следует обращаться осторожно, поскольку она, будучи сфокусированной на одном плане, в то же время проявляет себя на других планах, которые вступают в действие на последующих этапах истории. На самом деле долгое время ребёнок не способен усвоить отношения воображаемой принадлежности, что приводит к глубокому расщеплению матери по отношению к нему. В этом году мы постараемся прояснить этот вопрос. Мы находимся на пути к тому, чтобы понять, каким образом и в какой момент это усваивается ребёнком, как это позволяет ребёнку войти в те отношения с символическим объектом, где именно фаллос является основной разменной монетой. Как нам на это указывает история психоанализа, здесь появляются вопросы времени, хронологии, порядка и преемственности, на которые мы стараемся ответить, рассматривая патологию.
Что показывают нам наблюдения? Их тщательное изучение обнаруживает феномены, которые заявляют о себе в связи с особым симптомом, который ставит субъекта в особые отношения с фетишем, изображённым на завесе завораживающим объектом, к которому тяготеет вся его эротическая жизнь. Я говорю о «тяготении», потому что субъект, конечно, сохраняет определённую степень подвижности, которую можно обнаружить, делая анализ, не ограничиваясь лишь описанием клинической картины. В одном наблюдении очень хорошо видны элементы, которые я вам уже сегодня представил, и на которые уже ранее указал Бинет - к примеру, покрывающее воспоминание (souvenir-écran), поразительный момент останавки взгляда на подоле платья матери или даже краю корсета, также он отмечает изначальную двойственность отношений субъекта с фетишем - иллюзорную, переживаемую таким образом и таким образом предпочитаемую связь - мы видим удовлетворяющую функцию объекта,

самого по себе инертного, полностью отданного на милость субъекта, поставленного на службу его эротических отношений. Всё это доступно для наблюдения, но необходимо это проанализировать, чтобы приблизиться к сути того, что происходит каждый раз, когда по какой-то причине применение фетиша слабеет, исчерпывается, изнашивается или просто ускользает.
Любовное поведение или, проще говоря, эротические отношения субъекта сводятся к защите. Вы можете в этом убедиться, прочитав в International Journal отчёты о наблюдениях Мадам Сильвии Пэйн, Месье Джиллеспи, Мадам Гринэкр, Месье Дагмора Хантера или другие работы, вышедшие в Psycho-Analytic Study of the Child. Это также было предугадано Фрейдом и нашло выражение в нашей схеме. Фрейд говорит нам, что фетишизм - это защита от гомосексуальности, и, как замечает Месье Гиллеспи, грань между ними чрезвычайно тонка. Короче говоря, в отношениях с любовным объектом, организующих у фетишиста этот цикл, мы обнаруживаем чередование идентификаций. Одна из них - идентификация с женщиной, столкнувшейся с разрушительным пенисом, с воображаемым фаллосом первичного опыта оральноанального периода, опыта, сконцентрированного на садистской теории коитуса; подтверждение ей можно обнаружить в большом количестве аналитических наблюдений, где первосцена воспринимается как жестокая, агрессивная, насильственная, даже смертоносная. Другая, обратная ей - идентификация с воображаемым фаллосом, в результате которой субъект становится для женщины чистым объектом, чем-то, что она может поглотить и даже полностью уничтожить.
Именно с таким колебанием между двумя полюсами первичных воображаемых отношений грубо сталкивается ребёнок в период, предваряющий появление отца как субъекта, устанавливающего эдипальный порядок и законность обладания. Это биполярное колебание между двумя несовместными объектами разными путями приводит к разрушительному или даже убийственному исходу. Именно это мы и находим в основе любовных отношений всякий раз, когда они появляются в жизни субъекта, стремясь приобрести определенные очертания и организацию. На определённом пути понимания психоанализа, который можно обозначить как современный и который недалёк в этом пункте от моего собственного, именно здесь аналитику следует вмешаться, чтобы помочь субъекту воспринять чередование своих позиций, а также их значение. Можно сказать, что он некоторым образом вводит символическую дистанцию, необходимую субъекту для обнаружения их смысла.
Материал наблюдений здесь чрезвычайно плодотворен и богат, мы можем увидеть, например, тысячи форм, которые на ранних стадиях жизни субъекта может принять фундаментальная неполнота, погружающая субъекта в воображаемые отношения либо путём идентификации с женщиной, либо ставя его на место воображаемого фаллоса; в любом случае субъект оказывается в условиях, где тройственные отношения символизированы не до конца. Очень часто авторы упоминают об отсутствии отца в истории субъекта, о недостаточном присутствии отца -он в путешествии, на войне и т.д.
Также бывает, что в фантазмах отчётливо воспроизводится другая позиция субъекта, позиция вынужденной неподвижности. Она может принять форму действительного связывания, пример чему можно найти в случае, описанном Сильвией Пейн, в котором, следуя экстравагантному медицинскому предписанию, ребёнку не давали ходить, и пока ему не исполнилось два года, он был привязан верёвками к своей

кровати. И это не осталось без последствий. Тот факт, что он жил под тщательным присмотром в комнате своих родителей, ставит его в показательное для нас положение, где его отношения остаются чисто визуальными, без каких-либо шансов на двигательные реакции с его стороны. Как вы можете догадаться, его отношение к родителям было окрашено яростью и гневом. Пусть такие показательные случаи довольно редки, но определённые авторы настойчиво говорят о том, что, когда некоторые матери воздерживаются от близкого контакта со своим ребёнком, как если бы он был источником инфекции, эти страхи способствуют, безусловно, тому, что в организации первичных отношений с материнским объектом преимущество получает визуальное измерение.
Гораздо более поучительным, чем такой пример нарушенных первичных отношений, является патологическое проявление, которое предстает как обратная сторона или дополнение либидинального пристрастия к фетишу. Фетишизм - это нозологически широкий класс всевозможных феноменов, близость или родство которых к фетишизму поверяется лишь интуитивно.
Например, может показаться, что тот субъект, о котором нам говорит Мадам Пейн, с одинаковым успехом мог привязаться как к плащу, так и к ботинкам. Мы ошибаемся, если думаем, что оба варианта имеют одну природу. Структурно говоря, этот плащ предполагает отношения и указывает на несколько иное положение, нежели ботинки или корсет, которые сами по себе находятся непосредственно в позиции завесы между субъектом и объектом. Но это не относится к плащу или к любому другому фетишу в форме одежды, в которую каким-то образом можно завернуться. Здесь нужно отвести особую роль тому качеству, которое привносит каучук. Загадку этой очень часто встречаемой характеристики, без сомнения, следует прояснить психологически, а именно ощущениями, которые возникают при контакте с резиновой поверхностью. Возможно, это потому, что она больше, чем что-либо другое, напоминает кожу или обладает специальными изолирующими свойствами. Как бы то ни было, исходя из самой структуры взаимосвязей, которые обнаруживаются в тех пунктах наблюдения, где оно рассматривается аналитически, мы видим, что плащ играет роль, которая не совсем соответствует завесе. Это скорее нечто такое, позади чего субъект располагает себя сам. Он оказывается не перед завесой, но за ней, то есть на месте матери, придерживаясь позиции идентификации с матерью, где она испытывает потребность в защите, в данном случае с помощью того, во что можно завернуться.
Это нечто переходное между случаями фетишизма и случаями трансвестизма. Заворачивание принадлежит порядку защиты, но не завесы. Заворачиваясь, субъект ищет спасения под эгидой идентификации с женской фигурой.
Другими типичными проявлениями, порой весьма показательными, являются в некоторых случаях действительно реактивные взрывы эксгибиционизма, иногда даже в чередовании с фетишизмом. Это постоянно наблюдается в ситуации, когда субъект старается выйти из своего лабиринта по причине реального вмешательства, которое нарушает его равновесное положение и приводит к укреплению или опрокидыванию его позиции. Это хорошо отражено в схеме случая юной гомосексуальной пациентки Фрейда, где вмешательство отца, в качестве реального элемента, приводит к смене позиций, итогом чего становится перемещение того, что было по ту сторону, символического отца, в положение пункта воображаемых отношений, тогда как субъект принимает по отношению к отцу демонстративную гомосексуальную позицию.

Мы также располагаем прекрасными наблюдениями, где субъект, пытаясь достичь полноценных отношений в условиях искусственной реализации и преодоления реального, выражает то, что неявно присутствовало в ситуации на символическом уровне, путем acting-out, то есть отреагирования в плане воображаемого.
У нас есть пример субъекта, который впервые пытается установить реальные отношения с женщиной именно с тем намерением, чтобы показать, что он на это способен. Благодаря содействию женщины это ему более-менее удаётся, но после встречи, хотя до настоящего момента ничего не предвещало появления у него таких симптомов, он осуществляет очень своеобразный и хорошо продуманный эксгибиционистский акт, который заключается в том, что он демонстрирует свой половой орган проходящему мимо международному поезду так, что никто не смог бы поймать его за руку. Таким образом субъект даёт выход тому, что имплицитно соответствует его положению. Его эксгибиционизм представляет из себя только выражение или проекцию на воображаемый план тех символических коннотаций, в которых он сам себе не отдаёт целиком отчёта, то есть его акт в конечном итоге был прямой попыткой просто показать - показать, что он, как и другие, способен вступить в нормальные отношения.
Мы встречаем множество проявлений такого рода реакционного эксгибиционизма в случаях очень близких к фетишизму или даже и являющихся, собственно говоря, фетишизмом. Иногда мы хорошо понимаем, что речь идёт об актах поведения с отклонениями, которые эквивалентны фетишизму. Мелита Шмидеберг представляет, например, одного мужчину, женившегося на женщине, которая была почти в два раза старше, чем он. И он превратился в жертву, настоящего мальчика для битья. В один прекрасный день этот мужчина, который старался сохранить хорошую мину в этой ужасной для него игре, поставлен в известность, что станет отцом. Он спешно направляется в городской парк и показывает свой орган компании молодых девушек.
Мадам Шмидеберг, слишком безоглядно следующая, судя про всему, Анне Фрейд, находит здесь всевозможные параллели с тем фактом, что отец мальчика тоже был жертвой своей жены, но сумел найти решение, будучи однажды застигнутым со служанкой, и это из-за взыгравшей ревности немного повлияло на его супругу. Но это ничего не объясняет. Мадам Шмидеберг не хочет замечать главного. Она полагает, что произвела анализ перверсии в рамках short analysis. И нет ничего удивительного в том, что это никакая не перверсия, и никакого анализа она тоже не сделала. Она упускает главное, оставляя в стороне тот факт, что субъект воспользовался возможностью эксгибиционистского акта, чтобы проявить себя. И нет другого способа объяснить этот акт демонстрации, кроме как обратиться к тому механизму внезапного пуска, с помощью которого то, что в реальном избыточно, что символизации не поддаётся, приводит к резкому обнаружению того, что лежит в основе символических отношений -эквивалентности ребёнка фаллосу.
В отсутствие какой-либо возможности допустить и даже предположить собственное отцовство, этот отважный человек отправился в подходящее место, чтобы предъявить эквивалент ребёнка, то, на что его фаллос ещё мог сгодиться.
30 января 1957

глава 10 Идентификация с фаллосом
Трансвестизм и одежда
Показать * дать увидеть
Girl = Fallus
Объект и идеал у Фрейда Любовная фрустрация и удовлетворение потребности
На последней встрече я шагнул в направлении прояснения фетишизма и представил его в качестве особенно показательного примера динамики желания.
Желание является нашим приоритетным интересом, и причина этого интереса двойственна. С одной стороны, именно с желанием мы имеем дело в нашей практике. Это желание не является согласованно сконструированным, это желание со всеми его парадоксами, как и в случае, когда мы имеем дело с объектом и со всеми его парадоксами. С другой стороны, очевидно, что фрейдовская мысль исходит из этих парадоксов. В части того, что касается желания, она исходит из желания перверсивного. Об этом недопустимо забывать сегодня, когда психоанализ полон наивных интуитивных теорий, в рамках которых постоянно происходят попытки унификации и упрощения.
Время от времени я улавливаю ваши отклики на то новое, что, надеюсь, понемногу вам приношу. Однако маленький шаг, который я сделал в прошлый раз, удивил некоторых из тех, кто уже удовлетворился предложенной мной теорией любви - любви, основанной на том факте, что субъекта привлекает в объекте измерение нехватки. Многим уже одно это дало повод для достаточно плодотворных размышлений, хотя некоторым было трудно понять, каким образом в отношения субъект-объект добавляется нечто потустороннее и нехватка. В прошлый раз я сделал дополнительное усложнение, а именно предложил термин покрова, завесы, которая расположена перед объектом и становится поверхностью для воображаемой проекции очертаний нехватки, фетиша, способной послужить опорой тому, что именно здесь получает своё имя, то есть желанию, но желанию перверсивному. На покрове фетиш имеет очертания нехватки, расположенной по другую сторону объекта.
Эта схематизация предназначена для того, чтобы установить последовательность планов, которая позволит вам получше ориентироваться в постоянной амбивалентности и неразберихе, где «да» подразумевает «нет», а некоторый смысл предполагает смысл ровно противоположный, в общем, во всём том, что по недоразумению, чтобы как-то выйти из положения, аналитики обычно называют амбивалентностью.
1
В заключительной части того, что я в прошлый раз говорил вам на тему фетишизма, я отметил возникновение своего рода дополнительной позиции. Она возникает в процессе формирования фетишистской структуры, в попытках фетишиста воссоединиться с объектом, от которого он был отлучён чем-то таким, ни о функции, ни о механизмах чего он, конечно, не имеет представления. Эту позицию можно назвать симметричным, соответствующим, противоположным полюсом фетишиста, в ней осуществляется функция трансвестизма.

При трансвестизме субъект идентифицирует себя с тем, что находится по ту сторону покрова, с тем объектом, которому чего-то не достаёт. Авторы это хорошо видят в анализе и в своих терминах рассуждают следующим образом: трансвестит идентифицирует себя с фаллической матерью, поскольку она скрывает нехватку фаллоса.
Такой трансвестизм сподвигает нас зайти очень далеко в этом вопросе. Нам не нужно было дожидаться Фрейда, чтобы приблизиться к пониманию психологии одежды. Любое использование одежды каким-то образом причастно функции трансвестизма. И даже если непосредственное, распространённое, общепринятое понимание и состоит в том, что одежда нужна чтобы скрывать pudenda, то с точки зрения аналитика вопрос должен несколько усложниться. Было бы неплохо, чтобы хоть кто-нибудь из числа авторов, говорящих о фаллической матери, попробовал иногда понять смысл того, что они говорят. Одежда нужна не только для того, чтобы скрыть нечто такое, чем можно обладать в смысле «иметь» или «не иметь», но и для того, чтобы скрыть то, чего нет. Обе функции сущностно необходимы. Дело не в том, чтобы всегда и непременно скрыть объект, но также в том, чтобы скрыть нехватку объекта. В случае простого применения воображаемой диалектики об этом слишком часто забывают, то есть упускают из виду вопрос присутствия и функции нехватки объекта.
И наоборот, широко пользуясь понятием скопофилических отношений, почему-то считают само собой разумеющимся, что факт демонстрации себя, «показа себя», очень прост, что он коррелируется с активностью разглядывания, с «видеть» вуайеризма. Здесь также упускается из виду целое измерение.
Неправда, что субъект всегда и при любой возможности показывает себя из-за того, что это соотносится с противоположным полюсом, с активным разглядыванием. Речь не идёт о простом включении субъекта в пару визуальной захваченности. В скопофилии есть дополнительное измерение включённости, которое выражается в языке с помощью глагола в возвратной форме, в том, что называется средним залогом. Здесь это будет «сделать себя разглядываемым» (сделаться разглядываемым). Комбинируя два эти измерения друг с другом, мы можем сказать, что в активности, которую ошибочно принимают за отношения вуайеризма-эксгибиционизма, то, что субъект даёт увидеть, показывая себя, отличается от того, что он показывает. Было бы ошибкой утопить всё это в широком смысле так называемого скопофилического отношения.
Такие авторы, как Фенихель, которые при своей видимой ясности являются очень плохими теоретиками, но не лишены при этом аналитического опыта, были очень хорошо об этом осведомлены. В то время как усилия по выстраиванию теории в таких статьях приводят к безнадёжному провалу, иногда в них можно встретить прекрасные клинические наблюдения. Благодаря таланту аналитика, который он, к счастью, применяет в своей практике, он чувствует или, скорее, предчувствует целый ряд фактов, группирует их вокруг выбранной темы или ветви аналитической артикуляции фундаментальных воображаемых отношений. Автор группирует вокруг скопофилии и трансвестизма факты, которые феноменологи отличают друг от друга, смутно ощущая их родство и общность.
Именно поэтому, разбираясь со всей этой обширной и бестолковой литературой, необходимой мне для того, чтобы понимать, до какой степени аналитики проникли в реальное изложение подобных фактов, я недавно заинтересовался статьёй Фенихеля,

опубликованной в Psychoanalytic Quarterly, выпуск XVIII, №3 1949 года, о том, что он называет уравнением Girl = Fallus, которое, как он сам замечает, не обходится без связи с известной серией уравнений фекалии = ребёнок = пенис. Хотя здесь и бросается в глаза отсутствие чёткой ориентации, заставляющее нас искать логику, которая была бы лишена этого недостатка, но из фактов анализа, сгруппированных автором, очевидно, что ребёнок может рассматриваться как эквивалентый, равный в бессознательном субъекта, особенно женского пола, фаллосу. В этом узловом пункте всё связано с тем фактом, что ребёнок предоставляется матери в качестве заменителя или даже эквивалента фаллоса.
Но, с другой стороны, есть большое количество других фактов, и то, что все они были подвёрстаны в одну категорию, довольно удивительно. Когда я говорил о ребёнке, речь шла не только о девочке, тогда как эта статья определённо только о девочке. Автор исходит из хорошо известных черт фетишистской или квазифетишистской специфики, говорящих о том, что девочка может быть проинтерпретирована как эквивалент фаллоса субъекта. Аналитические данные также указывают на то, что девушка, как и ребёнок в более общем плане, может представлять себя саму в качестве эквивалента фаллоса, проявлять это в своём поведении и рассматривать в сексуальных отношениях необходимость преподнести партнёру мужского пола его фаллос. Иногда это проявляется в особенных деталях её любовной позиции, когда она как бы приклеивается, свернувшись калачиком, примкнув к телу своего партнера как некоторая его часть. Такого рода факты не могут не поразить нас и не привлечь нашего внимания. В других случаях бывает, что субъект мужского пола отдаёт себя самого женщине как то, чего ей не хватает - преподносит фаллос той, кому его недостаёт, образно говоря.
Именно на всё это, кажется, указывают все представленные здесь факты. Но мы также можем увидеть, что, собрав их вместе в одном уравнении, мы объединили факты совершенно разных порядков. Поскольку в четырех порядках отношений, которые я только что описал, субъект абсолютно по-разному связан с объектом в зависимости от того, приносит ли он его, даёт ли он его, желает ли он его или же пытается его заменить. Как только мы обратим внимание на эти регистры, мы не можем не заметить, что приравнивание этих фактов друг к другу покидает рамки простого теоретического требования. То, что маленькая девочка часто становится персонажем определённого типа сюжетов, указывает на мифическую, так сказать, функцию, которая обнаруживается как в перверсивных миражах, так и в целом ряде литературных произведений, которые мы можем сгруппировать под рубриками более или менее известных в литературе авторов.
Были такие, кого заинтересовал тип Миньоны. Вы все знаете это творение Гёте. Миньона - цыганка, её бисексуальная позиция подчёркнута самим автором. Она живёт с огромным и жестоким покровителем, с этаким явленным сверхотцом, которого зовут Harfner. В общем-то, она работает у него в качестве старшей служанки, но в то же время он в ней очень нуждается. В одном месте Гёте говорит об этой паре: «Харфнер, который ей нужен более всего, и Миньона, без которой он ни на что не способен». Здесь мы встречаем пару воплощённого могущества в его массивном, брутальном качестве, с одной стороны, и, с другой стороны, того, без чего оно лишено своей действенности, того, чего самому могуществу не достаёт, и в чём в конечном итоге и заключается секрет истинного могущества. И это не что иное, как нехватка.

Вот где лежат истоки той самой знаменитой магии, которая с таким смущением приписывается в аналитической теории идее всемогущества. Как я уже говорил, структуру всемогущества, в противоположность общепринятым представлениям, следует искать не в субъекте, а в матери, то есть в первичном Другом. Именно этот первичный Другой всемогущ. Но за этим всемогуществом существует нехватка, на которой зиждется его могущество. Как только субъект обнаруживает в объекте предположительного всемогущества эту нехватку, которая делает его немощным, главный источник всемогущества обнаруживается по ту сторону, а именно там, где нечто не существует в наибольшей степени. В объекте это представляет собой не что иное, как символизацию нехватки, эфемерности, ничтожности. Именно здесь субъект сталкивается с тайной и с истинным источником всемогущества. Именно это и заинтересовало нас сегодня в Миньоне - типе, многократно воспроизведённом в литературе.
Три года назад я собирался прочитать лекцию о Дьяволе в любви Казота. Мало существует примеров настолько показательного, глубочайшего видения динамики воображаемого в том виде, в котором я стараюсь представлять её вам, в особенности сегодня. Я вспомнил о нём, потому что это лучшая иллюстрация того, о чём идёт речь -иллюстрация, подчёркивающая смысл этого магического существа по другую сторону объекта, к которому может присоединяться целая серия идеализирующих фантазий.
История начинается в Неаполе, в пещере, где автор очутился, чтобы вызвать дьявола, который после соблюдения необходимых формальностей не заставляет себя долго ждать и появляется в форме отвратительной верблюжьей головы, предусмотрительно оснащённой большими ушами, и спрашивает у автора утробным голосом: «Чего желаешь?» («Che vuoi?» ит.).
Это фундаментальное вопрошание в наиболее точной форме предоставляет нам иллюстрацию функции Сверх-Я. Но интересно другое. Это самое существо сразу же после заключения договора сначала превращается в собачонку, потом, что никого не удивляет, превращается в восхитительного юношу и, наконец, в прекрасную девушку, причём эти последние не перестают до самого конца двусмысленно чередоваться друг с другом. Так появляется возлюбленная рассказчика по имени Бьондетта, которая на некоторое время становится для него удивительным источником всех благ, исполняет все его желания, обеспечивает поистине волшебное удовлетворение всем тем, чего он только может пожелать. Всё это, однако, погружено в атмосферу фантазии, опасной ирреальности, постоянной угрозы, которая не перестаёт о себе повсеместно напоминать. В конце концов ситуация разрешается внезапной остановкой этой всё более ускоряющейся и безумной гонки - как и полагается, мираж рассеивается в тот момент, когда субъект возвращается в замок своей матери.
В другом романе, Фраголетте Латуша, представлен любопытный персонаж -явный трансвестит, поскольку до конца так ничего и не проясняется, по крайней мере для читателя, то ли это юноша, то ли девушка. Речь идёт о девушке, которая мальчик и которая играет роль, аналогичную той, которую я только что описал как тип Миньоны, но с некоторыми другими деталями и подробностями сюжета. Всё заканчивается дуэлью, на которой главный герой романа, не узнав Фраголетту, представившуюся на тот момент юношей, убивает её. Что хорошо демонстрирует равенство одного женского объекта Verliebtheit другому - сопернику. Об этом же другом идёт речь, когда Гамлет убивает брата Офелии.

Таким образом, мы встречаем в произведениях персонаж-фетиш или фею - оба эти слова связаны со словом factiso на португальском, поскольку исторически именно оттуда пришло слово «фетиш», и это не что иное, как французское fact^e (фальшивка). Это двусмысленное женское существо воплощает определённым образом по другую сторону матери недостающий ей фаллос и воплощает тем лучше, что не обладает им, а само как целое становится его репрезентацией, Vorstellung. Здесь мы находим ещё одну функцию, проясняющую те влюблённости, которые могут возникнуть на перверсивных путях желания. Они могут оказаться для нас полезными и пролить свет на различия, которые стоит иметь в виду, когда мы это желание анализируем.
Вот мы и пришли, наконец, к вопросу о том, что нашим критическим подходом постоянно подразумевается и затрагивается - к понятию идентификации.
2
Понятие идентификации появляется в работах Фрейда с самого начала латентно, далее возникает постоянно и вновь исчезает. Предпосылки к его появлению есть уже в Толковании сновидений. Своё главное объяснение в наиболее полной форме оно получает в VII части работы Массовая психология и анализ я, целиком посвящённой идентификации.
Этот раздел текста предназначен для того, чтобы показать нам, как это часто бывает у Фрейда, в чём и заключается ценность его работ, величайшее недоумение автора. Фрейд признаёт своё замешательство и даже бессилие выйти из дилеммы, возникающей из-за постоянной неопределённости между двумя предложенными им терминами, а именно идентификацией и выбором объекта. Во многих случаях при своём появлении два эти термина замещают друг друга в режиме сбивающей с толку метаморфозы таким образом, что сам переход не улавливается. Однако при этом существует очевидная необходимость их между собой различать, поскольку, как говорит Фрейд, быть на стороне объекта или на стороне субъекта - это не одно и то же. Объект, ставший объектом выбора, - это не то же самое, что объект, который стал поддержкой для идентификации субъекта.
Этот факт сам по себе весьма поучителен. И не менее поучительным является наблюдать эту обескураживающую лёгкость, с которой многие, не задаваясь лишними вопросами, кажется, этого не замечают и продолжают использовать строгое равенство одного другому как в теории, так и на практике. Когда вопросы всё-таки возникают, появляются такие статьи как Два вида механизмов идентификации Густава Ганса Грабера, опубликованная в Imago в 1937 году, и это нечто невероятное и поразительное, поскольку, похоже, что для него весь вопрос решается различием активной идентификации и пассивной идентификации. Если присмотреться к этому повнимательнее, то невозможно не заметить, - к тому же он сам это признает - что оба полюса, активный и пассивный, представлены в любого рода идентификации, так что следует вернуться к Фрейду и заново проследить пункт за пунктом, каким образом он сам формулирует вопрос.
VIII часть работы Массовая психология и анализ Я следует после раздела об идентификации и начинается с фразы, которая даёт нам глоток свежего воздуха в атмосфере того, что мы привыкли обычно читать: «Даже в своих причудах язык всегда остается верным некоторой реальности».

Я хотел бы напомнить, что в предыдущей главе Фрейд подходит к вопросу идентификации, начиная с разговора об идентификации с отцом. Во втором абзаце нас ожидает пример плохого французского перевода текста Фрейда. В немецком тексте мы читаем: «Одновременно с идентификацией с отцом, а бывает и чуть раньше (что переведено на французский как чуть позже) маленький мальчик начинает направлять свои либидинальные желания на свою мать», - исходя из этой версии перевода можно задаться вопросом о том случае, когда идентификация с отцом не является предваряющей.
Ещё один пример этому мы найдём в отрывке, который я подготовил для вас сегодня, чтобы в наиболее концентрированной и явной форме показать недоразумения Фрейда. Речь идёт о состоянии влюблённости в его отношении с идентификацией. Следуя тексту Фрейда, идентификация является первичной, основополагающей функцией, поскольку предусматривает выбор объекта. Но выбор этот таков, что артикуляция его сама по себе оказывается проблематичной. Следуя смыслу, отлично артикулированному здесь Фрейдом, как можно плотнее, скажем, что этот объект является своего рода другим Я в составе субъекта. Таким образом, речь идёт о том, чтобы обозначить разницу между идентификацией и влюблённостью, Verliebtheit, в её наиболее высоких проявлениях, наиболее полных, известных как зачарованность, пленение, Hörigkeit (закабаление), которые несложно описать. Во французском переводе читаем: «В первом случае Я обогащается качествами объекта, ассимилирует его ...». Вообще говоря, нужно просто прочитать, вслед за Ференци, интроецирует. Это вопрос взаимосвязи интроекции с идентификацией.
«Во втором случае оно обездоливает себя, полностью отдаваясь объекту, умаляя себя перед ним ...», - в переводе на французский. Это совсем не то, что говорит Фрейд: «объект заступает на место его важнейшей составной части». Эта фраза начисто отсутствует в предложении, вместо неё появляется «умаляя себя перед ним».
Фрейд останавливается здесь на противопоставлении между тем, что, с одной стороны, субъект интроецирует и чем он обогащается, и тем, что, с другой стороны, отнимает у него что-то и обездоливает. На самом деле незадолго до этого Фрейд подробно останавливается на том, что происходит в состоянии влюблённости, когда субъект всё больше и больше растрачивает всего себя в пользу объекта любви. Он становится смиренным и полностью порабощённым в отношениях с объектом своих инвестиций. Этот объект, в пользу которого он истощается, является тем самым, что заступает на место важнейшей Bestandtail, составной части Я.
Так Фрейд подходит к проблеме. Для этого приходится отступить назад: поскольку он не слишком побеспокоился о нас в своём продвижении, то, понимая, что не предоставил достаточно полных объяснений, он возвращается и говорит, что это описание выявляет оппозицию, которой в действительности с экономической точки зрения не существует, nicht bestehen: «С экономической точки зрения нет ни обогащения, ни обнищания, поскольку даже состояние крайней влюблённости можно представить как интроекцию объекта в Я».
Следующее различие касается, возможно, наиболее принципиальных моментов: «В случае идентификации объект улетучивается и исчезает, чтобы появиться заново в Я, которое подвергается частичному преобразованию по модели исчезнувшего объекта. В другом случае подменный объект оказывается наделённым всеми качествами Я, причём за его счет».

Это то, что говорит нам французский текст. С какой стати объект улетучивается и исчезает, чтобы вновь появиться в Я после его частичного преобразования по модели исчезнувшего объекта? Лучше обратиться к тому, что написано в немецком тексте: «Возможно, другое различие было быболее актуально. В случае идентификации объект был потерян», - это ссылка на фундаментальное понятие, которое мы встречаем постоянно и с самого начала. Объясняя нам образование объекта, Фрейд опирается на основополагающее понятие утраченного или брошенного объекта. Так что речь не идёт об объекте, который улетучивается или исчезает, ведь в том и дело, что он не исчезает. «Затем он снова возникает в Я, и Я частично трансформируется по модели утраченного объекта».
«В другом случае, при влюблённости, объект остался в сохранности, erhalten geblieben, и ему придаётся сверхценность, überbesetzt, за счёт инвестиций со стороны Я».
Но это различение в свою очередь приводит к новому соображению: действительно ли идентификация предполагает отказ от инвестирования в объект? Возможна ли идентификация с сохранённым объектом? И прежде чем мы вступим в эту особенно сложную дискуссию, нам следует задержать своё внимание на ещё одной альтернативе, в которой можно рассмотреть данное положение вещей, а именно: занимает ли объект место Ich или Ich-Ideal, место Я или Я-Идеала (l’ideal du moi).
Этот текст нас сильно озадачивает, кажется, что эти движения взад-вперёд ничего не поясняют. Фрейд только удостоверяет факт двусмысленного положения объекта, которое всегда остаётся под вопросом. Объект то уходит, то возвращается, соответственно, как объект идентификации или как объект влюблённости-очарования. Но, как минимум, этот вопрос заслуживает того, чтобы быть поставленным, только это я и хотел подчеркнуть. Этот текст нельзя назвать последним словом Фрейда, хотя это и одна из вершин созданной им аналитической теории.
Попробуем теперь вернуться к проблеме, принимая во внимание те ориентиры, которые мы наметили для себя, занимаясь связью между фрустрацией, с одной стороны, и образованием объекта, с другой.
3
Прежде всего дело в том, чтобы понять, какую связь мы обычно устанавливаем в нашей практике и в нашем способе об этом говорить между идентификацией и интроекцией. Вы видели, как заявляет о себе эта связь уже в начале фрагмента фрейдова текста, который я только что зачитал.
Я предлагаю вам следующее положение: метафора, лежащая в основе интроекции, является оральной метафорой. Интроекцию и инкорпорацию обычно не различают. Говоря о них, мы позволяем себе соскользнуть к формулировкам кляйнианской эпохи. Мы говорим, например, о пресловутом образовании первичных объектов, которые делятся, по обыкновению, на хорошие и плохие. Мы рассуждаем об интроекции объектов, рассматривая их как простые элементы, присутствующие в пресловутом лишённом границ примитивном мире, где субъект мог бы себя собрать воедино в материнском теле. Понятая таким образом интроекция становится функцией строго эквивалентной и симметричной проекции. Таким образом, объект оказывается

вовлечён в своего рода движение: переходит сначала снаружи вовнутрь, а потом, когда вынести его внутри становится слишком трудно, выталкивается изнутри наружу. В результате интроекция и проекция становятся полностью симметричны.
Против этого, отнюдь не Фрейду принадлежащего, заблуждения и направлено то, что я попытаюсь сейчас сформулировать.
Например, мы наблюдаем в случае фетишизма очевидные булимические импульсы, которые соответствуют тому поворотному моменту символической редукции объекта, который нам более-менее получается зафиксировать у первертов. Как понимать это соответствие и возникновение в этот определённый момент орального влечения? Концептуализация этого невозможна, невозможно выстроить сколько-нибудь упорядоченную линию рассуждения не только в теории, но и в практике и клинике, пока мы придерживаемся размытого понятия, которое всегда оказывается в таких случаях под рукой - субъект регрессирует, говорим мы, потому что, конечно же, для этого он и здесь. Таким образом, в тот самый момент, когда субъект в анализе прогрессирует, то есть, когда он пытается поставить свой фетиш в определённую перспективу, он регрессирует. Сказать так можно всегда, и никто с этим не поспорит.
Я же говорю наоборот, что каждый раз, когда в анализе или ещё где-то проявляет себя влечение, его экономическую функцию нужно увязывать с развитием определённых символических отношений. Не это ли и проясняет первичная схема символической структуры любовных отношений, которую я вам представил?
Рассмотрим предмет первых любовных отношений, то есть мать как объект призыва, объект, который в равной мере отсутствует и присутствует. С одной стороны, есть её дары, которые являются знаками любви и только ими, то есть в качестве чего-либо другого начисто упраздняются. С другой стороны, есть объекты потребности, которые мать предоставляет ребёнку в виде своей груди. Разве вы не видите, что те и другие друг друга уравновешивают и компенсируют? Всякий раз, когда случается фрустрация любви, она компенсируется удовлетворением потребности. Именно потому, что ребёнку не хватает матери, которую он зовёт, он присасывается к её груди, и эта грудь становится для него значимее всего. Пока она у него во рту и он ею удовлетворён, ребёнок, с одной стороны, неотделим от матери, с другой стороны, в таком положении он получает питание, покой и удовлетворение. Здесь удовлетворение потребности компенсирует фрустрацию, становится, можно сказать, чуть ли не её алиби.
Превалирующая ценность, которую приобретает объект, в данном случае грудь или соска-пустышка, основана именно на том, что реальный объект функционирует как часть объекта любви, он приобретает своё символическое значение, и влечение направляется на реальный объект, являющийся частью символического объекта. Как объект реальный он становится частью объекта символического. Только исходя из этого открывается возможность осмыслить оральное поглощение и его так называемый регрессивный механизм, который может вмешаться в любые любовные отношения. Как только реальный объект, удовлетворяющий реальную потребность, смог стать элементом символического объекта, любой другой объект, способный удовлетворить реальную потребность, может занять его место, и прежде всего таким объектом, уже символизированным, наряду с тем, что он является также и вполне материализованным, является слово.
По мере того, как оральная регрессия к первичному объекту поглощения компенсирует фрустрацию любви, эта реакция инкорпорации становится моделью,

литейной формой (moule), образцом, Vorbild, той своего рода инкорпорации, которая представляет собой инкорпорацию ряда определённых слов, инкорпорацию, лежащую в основе раннего образования той инстанции, что зовется Сверх-Я. То, что субъект инкорпорирует в качестве Сверх-Я, представляет собой нечто аналогичное объекту потребности, только не в качестве дара как такового, а в качестве того, что может заменить этот дар при его отсутствии, что совсем не одно и то же.
Из этого также следует, что факт обладания или необладания пенисом может иметь двойной смысл и появляться в воображаемой экономике субъекта двумя совершенно разными способами. Во-первых, пенис в данный момент может расположиться в линии или на месте такого объекта, как грудь или соска. Таким образом, это форма оральной инкорпорации пениса, которая играет свою роль в организации некоторых симптомов и некоторых функций. Но есть и другой способ, посредством которого пенис может войти в воображаемую экономику. Он может появиться там не в качестве объекта компенсации фрустрации любви, но как нечто, расположенное по другую сторону объекта любви, как его нехватка.
Один из них, назовём его пенисом, целиком представляет собой воображаемую функцию постольку, поскольку он инкорпорирован воображаемым образом. Другой -это фаллос, он является тем, чего не хватает матери, и расположен по ту сторону матери и её способности любить.
Именно в отношении фаллоса как нехватки и ставлю я с самого начала семинара этого года следующий вопрос: в какой момент субъект обнаруживает эту нехватку? Когда и как происходит это открытие, после которого он приходит к необходимости восполнить эту нехватку самим собой, то есть выбрать другой способ нахождения объекта любви, который ускользает, принося с собой собственную нехватку.
Это различие имеет решающее значение, оно позволит нам сегодня сделать первый набросок того, что требуется для осуществления этого такта.
У нас уже есть символическая структуризация и возможная интроекция, которая как таковая является наиболее характерной формой первичной фрейдовской идентификации. Именно на втором такте возникает Verliebtheit. Она абсолютно непостижима и никаким образом не может быть сформулирована, кроме как в регистре нарциссических отношений, иначе говоря, зеркальных отношений в том виде, в каком определил и сформулировал их тот, кто с вами сейчас говорит.
Напомню вам, что в определённом возрасте, но не раньше, чем на шестом месяце, у субъекта возникает отношение к образу другого, дающее субъекту матрицу, вокруг которой развивается у него то, что я назвал его переживанием неполноты (incomplétude vécue). Иными словами, субъект обнаруживает у себя изъян. Именно по отношению к этому образу, который предстает как цельный, не просто удовлетворительный, но, в силу специфического отношения человека к своему собственному отражению, вызывающий ликование, субъект обнаруживает, что ему может чего-то недоставать. Поскольку в игру вступает воображаемое, на основе двух первых символических связей между объектом и матерью, может возникнуть впечатление, что и матери, и ребёнку воображаемым образом чего-то недостаёт. Именно в зеркальных отношениях субъект приобретает опыт и восприятие возможной нехватки, обнаруживает, что по другую сторону может существовать нечто, представляющее собой нехватку.
То есть только за пределами нарциссической реализации, где между субъектом и другим возникает напряжённая, глубоко агрессивная циркуляция, в которой

откладываются и кристаллизуются последовательные слои того, что образует собственное Я (moi), субъект обнаруживает, по ту сторону себя самого как объекта для матери, ситуацию, где объект любви оказывается пленён, объят, захвачен переживанием, которое он сам, будучи объектом, утолить не способен - ностальгией, связанной с его собственной нехваткой.
В той точке, где мы сейчас находимся, всё основано на эффекте передачи, который заставляет предположить, - поскольку это установлено на опыте, и Фрейд остаётся этому привержен до последних своих формулировок - что никакое удовлетворение, с помощью какого бы то ни было реального объекта, пришедшего на замену, никогда не способно восполнить нехватку внутри матери. В отношениях с ребёнком у матери всегда остаётся то, чем обусловлено её место в регистре воображаемого, то есть нехватка фаллоса. Только после второго такта воображаемой зеркальной идентификации с образом тела, который изначально предоставляет матрицу для формирования собственного Я, субъект способен обнаружить, что матери чего-то не хватает. Опыт зеркального восприятия другого, формирующий единство собственного Я, является необходимым предварительным условием. Именно по отношению к этому образу субъект обнаруживает перспективу, что ему самому может чего-то не хватать. Тогда субъект располагает эту нехватку по другую сторону объекта любви и может предложить самого себя в качестве объекта для её восполнения.
Сегодня я подвёл вас к одной схеме, которую прошу принять во внимание, чтобы мы могли вернуться к ней в следующий раз. Что это за схема? То, что здесь изображено, является новым измерением, новым свойством сформировавшегося субъекта, в котором различаются функции, называемые Сверх-Я, Я-Идеал, собственное Я. Речь идёт о том, чтобы понять, как говорит об этом Фрейд в конце своей статьи, чем является объект, который в Verlibtheit заступает на место собственного Я или Я-Идеала.
В том, что я до сих пор говорил о нарциссизме, я делал акцент на образовании идеального Я, то есть на образовании собственного Я как об идеальном образовании, поскольку именно на фоне идеального Я собственное Я и получает свои черты. Я недостаточно чётко сформулировал имеющее здесь место различие. Откройте Фрейда, чьи трудности так поучительны, и взгляните на его схемы, которые продолжают кочевать из рук в руки, хотя никто ни на секунду не задумывается о том, чтобы с ними поработать. Что вы найдёте в конце седьмой части Психологии масс? Схему, на которой расположены собственные Я различных субъектов.
| GRAPHISCHE DARSTELLUNG ФРЕЙДА |
|---|
 |

Речь идёт о том, чтобы узнать, почему субъекты приобщаются к одному и тому же идеалу. Фрейд нам объясняет, что есть идентификация Я-Идеала с объектами, которые якобы одинаковы. Просто посмотрите на схему, и вы увидите, что он позаботился о том, чтобы связать эти предположительно одинаковые три объекта с внешним объектом, который находится позади. Не находите ли вы здесь поразительное сходство с тем, о чём говорю вам я? В том, что касается Я-Идеала, речь идёт не просто об объекте, но о том, что находится по ту сторону объекта, который отражается, как говорит Фрейд, не прямо и непосредственно в собственном Я, которое, несомненно, что-то по этому поводу переживает и даже может в силу этого обеднеть, но в чём-то, что находится в самых основах собственного Я, в его первых формах, в его первых нуждах, одним словом, на первой завесе, на поверхность которой оно спроецировано в форме Я-Идеала.
В следующий раз я вернусь к тому пункту, на котором мы остановились в разговоре о взаимосвязи Я-Идеала, фетиша и объекта в качестве объекта нехватки, то есть фаллоса.
06 февраля 1957

глава 11 Фаллос и ненасытная мать
Дар появляется в ответ на зов
Замещение удовлетворений
Эротизация потребности
Зеркало, от ликования до депрессии Воображаемый фаллос в роли означающего
Сегодня я собираюсь снова обратится к терминам, в которых я пытаюсь сформулировать для вас необходимость пересмотра понятия фрустрации. Весьма вероятно, что без такого пересмотра продолжится увеличение разрыва между доминирующими сегодня в психоанализе теориями, которые считаются актуальными тенденциями, и фрейдовским учением, которое, по моему мнению, выстраивает единственно верную, осмысленную артикуляцию опыта, которая самим этим учением и обоснована.
То, что я сегодня попробую сформулировать, будет, возможно, несколько более алгебраичным, чем обычно, но мы уже достаточно к этому подготовлены благодаря всему тому, что проделали ранее.
Перед тем как приступить, уточним, что следует из тех терминов, которые мы к настоящему моменту сформулировали.
1
Я представил вам фрустрацию, расположив её в небольшой трёхчастной таблице между кастрацией, которая является элементом фрейдовского учения, и лишением, с которым некоторые её связывают. Связывают её, скажем так, с разными вещами.
Сегодняшний психоанализ ставит фрустрацию в центр всех возможных недоразумений, последствия которых могут быть проанализированы в симптомах, которые возникают в поле нашего внимания. Для того чтобы найти фрустрации правильное применение, нам необходимо понять фундаментальное измерение её опыта, поскольку если она выходит на передний план среди используемых в психоаналитической практике терминов, то происходит это не без причины. Хотя её широкое распространение не слишком затронуло наши представления о невротических феноменах, оно, тем не менее, завело исследователей в тупики, которые я, надеюсь, что небезуспешно, стараюсь показывать вам на множестве примеров. Вы сможете убедиться в этом ещё лучше, когда сами займётесь внимательным чтением аналитической литературы.
Прежде всего давайте уточним, что фрустрация не является следствием отказа в доступе к объекту удовлетворения в обычном смысле. Удовлетворение здесь означает удовлетворение потребности, на этом пункте останавливаться не обязательно.
Как правило, говоря о фрустрации, мы используем это слово, особенно не задумываясь - у нас есть фрустрирующие переживания, и мы полагаем, что они имеют последствия. Мы забываем, что если бы всё было так просто, тогда следовало бы объяснить, почему фрустрированное желание отвечает той характеристике, которую так сильно подчёркивает Фрейд с самого начала и которая навсегда остаётся для него

загадкой, так что на протяжении всей своей работы он задаётся вопросом, почему бессознательное, вытесненное желание неразрушимо.
Строго говоря, эта характеристика не поддаётся объяснению в единственно принятой перспективе удовлетворения потребности. Мы видим это в любом наблюдении за тем, что происходит в экономике животного мира. Фрустрация потребности приводит к различным изменениям, которые организм более-менее способен вынести, но совершенно очевидно и подтверждается на опыте, что она не способна породить то, что поддерживает желание как таковое. Либо отступается индивид, либо меняется или отклоняется желание.
В любом случае не установлено никакой согласованности между фрустрацией и постоянством желания, тем более его настойчивостью (insistance) - термин, который я вывел на первый план, когда мы говорили об автоматизме повторения.
К тому же Фрейд никогда не говорит о фрустрации. Он говорит о Versagung, что гораздо более адекватно определяется понятием отказа в том смысле, когда говорят об отказе от обязательств, отмене договора. Также верно, что иногда Versagung может иметь обратный смысл, поскольку слово Versagung одновременно означает и обещание, и отказ от него. Это очень часто встречается в словах, которые начинаются с ver-, с приставки, играющей столь существенную роль в этом языке и занявшей видное положение при выборе терминов для аналитической теории.
Давайте сразу же отметим, что триада фрустрация-агрессия-регрессия, предложенная именно в таком виде, далека от обладания заманчивой для понимания простотой. Достаточно задуматься на мгновение, чтобы обнаружить, что сама по себе она непонятна. С таким же успехом можно предложить любой другой ряд понятий. Я совершенно наугад сказал фрустрация-агрессия-регрессия, я мог бы предложить и что-то другое. Сейчас для нас речь идёт о том, чтобы поставить вопрос взаимного отношения фрустрации и регрессии. Это ни разу не было сделано надлежащим образом. Я не говорю, что всё сделанное неверно, я говорю, что этого недостаточно, потому что не было проработано само понятие регрессии.
Итак, фрустрация не является отказом в доступе к объекту удовлетворения. К этому она не сводится. По этому поводу я хочу представить вам цепь рассуждений, чтобы вы, придерживаясь основных её формулировок, смогли проверить, насколько они окажутся вам полезными, а поскольку я приведу в завершение серию формул, которые уже были здесь проработаны, мне не придётся их доказывать заново, а достаточно будет только на них ссылаться.
Попробуем посмотреть на вещи с самого начала, я не имею в виду последовательности их развития, поскольку это не отмечено характером развития, но связано с уровнем первичных (primitive) отношений ребёнка с матерью. Скажем, что изначально фрустрация - и не абы какая фрустрация, но та, которая задействована в нашей диалектике - мыслима только как отказ в даре, тогда как дар - это знак (symbole) любви.
Утверждая это, я не говорю ничего, кроме того, о чём прямо написал Фрейд. Фундаментальный характер отношений любви, не на второй, а на третьей ступени её диалектики, предполагает, что взаимодействие происходит не только с объектом, но и с существом. Это представлено в массе пассажей Фрейда как отношения, установленные с самого начала. Что это значит? Это не означает, что ребёнок изобрёл философию любви, что он различает, например, любовь и желание. Это означает, что он уже попал

в купель существования в символическом порядке. Мы находим этому доказательства в его поведении. Происходят определённые вещи, которые возможны лишь тогда, когда этот символический порядок уже в наличии.
Здесь мы всегда имеем дело с двусмысленностью, которая возникает из-за того, что наша наука является наукой о субъекте, а не об индивиде. Однако, подчиняясь необходимости определить субъекта в качестве исходного пункта, мы забываем, что субъект как таковой с индивидом не совпадает. Даже если субъект выделяется в качестве индивида из всего того порядка, который определяет его как субъекта, этот порядок продолжает существовать. Другими словами, закон интерсубъективных отношений управляет изнутри тем, от чего зависит индивид, включая его, таким образом, в обусловленный этим законом порядок, осознаёт он это как индивид или нет. Так возникает отчаянная и обречённая на провал попытка, которая тем не менее постоянно воспроизводится, связать первичные тревоги ребёнка с образом отца. Я имею в виду статьи о первичных (primitives) фобиях человека по имени Молле. Его потуги особенно грубо скроены и шиты белыми нитками толщиной с руку. Отцовский порядок существует как таковой независимо от того, проживает ли индивид те инфантильные страхи (terreurs), которые обретают свой артикулированный смысл только в интерсубъективных отношениях отец-ребёнок, организованных структурой символического и формирующих субъективный контекст, в котором развивается ребёнок. Опыт ребёнка всегда учтён и задним числом переработан в интерсубъективных отношениях, в которые он вовлечён посредством ряда зачаточных попыток, которые потому и зачаточны, что им предстоит быть в эти отношения вовлечёнными.
Я говорил о даре. Дар предполагает полный цикл обмена, в который субъект вовлекается настолько рано, насколько вы только можете себе представить. Дар существует только потому, что существует огромный оборот даров, покрывающий всё интерсубъективное множество. Дар возникает по другую сторону объективированных (objectale) отношений, поскольку подразумевает тот самый порядок обмена, в который вступил ребёнок, и его появление по ту, другую, сторону возможно только в строгом соответствии с символическим характером его учреждения. Нет никакой другой возможности обращения в дар, кроме как посредством акта, в котором он предварительно аннулируется, отменяется. Именно на основании отзыва, отмены обязательства возникает дар, именно таким образом, как знак любви, изначально аннулированный и появляющийся вновь, дар предоставляется или нет в ответ на зов (appel).
Я сказал бы больше. Я говорю о зове, поскольку именно здесь располагается первичный план, первый такт речи, но вспомните, что я вам говорил, когда мы занимались психозом. Я сказал тогда, что зов имел принципиальное значение для речи. Было бы неправильным на этом останавливаться, поскольку структура речи в большом Другом предполагает, что субъект получает своё собственное послание в обращённой форме. В данном случае мы пока ещё не на этом уровне, но уже здесь зов не может возникнуть в изолированном виде, как нам это хорошо показывает фрейдовский пример детской игры в катушку, Fort-Da. Уже на уровне воззвания должно быть налицо противопоставление. Назовите это ориентиром, меткой. Если зов приобретает свой фундаментальный статус основателя символического порядка, то происходит это постольку, поскольку тот, к кому взывают, может оттолкнуть. Воззвание вводит, полностью погружает в символический порядок, в речь.

Дар появляется в ответ на зов, который звучит, когда объекта нет. Когда он есть, объект проявляет себя, по сути, только как знак дара, то есть как ничто в смысле объекта удовлетворения. Он там именно для того, чтобы быть отвергнутым, потому что он ничто. Таким образом эта символическая игра имеет принципиально обманчивый (décevant) характер. Такова сущностная формулировка, исходя из которой определяется и обретает свой смысл удовлетворение.
Я не имею в виду, конечно, что ребёнок в этой игре не может испытать удовлетворения в чисто витальном измерении. Я говорю, что любое удовлетворение, достижению которого угрожает фрустрация, возникает в условиях принципиально обманчивого характера символического порядка. Удовлетворение здесь является только замещающим, компенсаторным. При оральном удержании реального объекта удовлетворения, например, груди, ребёнок подавляет (écrase) то, что в этой символической игре его не удовлетворяет. В этом удовлетворении его усыпляет именно безутешность, фрустрация, некогда пережитый отказ.
Фрейд гениально схватывает болезненную сущность диалектики присутствующего и одновременно отсутствующего объекта и представляет её для нас в этом эпизоде, выразив в точной и лаконичной форме. Это основа отношения субъекта к паре присутствия-отсутствия, отношения к присутствию на почве отсутствия и к отсутствию, которое учреждает присутствие. Ребёнок подавляет в удовлетворении фундаментальную ненасытность этих отношений. Он убаюкивает себя с помощью орального удержания. Он подавляет последствия базовых символических отношений.
Поэтому для нас нет ничего удивительного в том, что именно во сне проявляется настойчивость его желания на символическом уровне. Я подчёркиваю, что даже у ребёнка желание никогда не связано с простым удовлетворением естественной потребности. Обратите внимание на сновидения, которые считаются наипростейшими, а именно на инфантильные сновидения, например, сновидение маленькой Анны Фрейд. Она говорит во сне: малина, пирог и т.д. Все эти объекты для неё являются недостижимыми. Они уже настолько вошли в символический порядок, что совершенно точно являются запретными. Ничто не заставляет нас полагать, что Анна Фрейд не осталась в тот вечер сыта, совсем наоборот. Всё то, что утверждается в этом сновидении как желание, выражено, конечно, в неприкрытом виде, но, будучи целиком размещённым в символическом порядке, это желание невозможного.
И если вы ещё сомневаетесь, что слова играют здесь принципиально важную роль, я замечу, что если бы маленькая Анна Фрейд не выразила бы это словами, то мы бы об этом ничего не узнали.
2
Проследим диалектику фрустрации и поставим вопрос: что происходит в момент, когда удовлетворение потребности вступает в игру и замещает собой удовлетворение символическое?
То, что оно задействовано в качестве замены, само по себе подвергает его трансформации. Как только реальный объект становится знаком в требовании любви, то есть в символическом запросе, это немедленно влечёт за собой его трансформацию. Какую? Как я вам сказал, реальный объект обретает в этом случае символическое значение, я бы даже мог сказать, что он становится или почти становится символом, но это было бы слишком просто. То, что оказывается в центре внимания и обретает

символическое значение - это та активность, тот способ усвоения, с помощью которого ребёнок овладевает объектом.
Именно таким образом оральность превращается в то, чем она является. Будучи изначально связанной с инстинктивным голодом, она несёт в себе либидо самосохранения, но не только. Фрейд задаётся вопросом: это либидо самосохранения или либидо сексуальное? Конечно, оно направлено на самосохранение индивида и при этом включает в себя и деструдо (destrudo), но, вступая в диалектику, где удовлетворение замещает собой требование любви, оно становится активностью отчётливо эротизированной. Оно и есть либидо в его непосредственном значении, либидо сексуальное.
Всё это отнюдь не пустая риторика, но прямой ответ на возражения, которые позволяют себе сделать люди не самого далёкого ума. Так, например, Месье Шарль Блондель в последнем номере Etudes philosophiques, посвящённом столетию Фрейда, делает несколько аналитических замечаний на тему эротизации груди. Мадам Фаве-Бутонье напоминает нам, что в одной из своих статей этот автор говорит: «Я, конечно, всё понимаю, но как насчет случая, когда мать кормит не грудью, а из бутылочки?». Именно на такого рода возражения отвечают вещи, которые я вам только что изложил. С тех пор как реальный объект входит в диалектику фрустрации, он хоть и не безразличен сам по себе, но не должен носить какого-то специфического характера. Даже если это не грудь матери, это никак не отражается на положении объекта в сексуальной диалектике, в которой появляется эротизация оральной зоны. Принципиальную роль играет не объект сам по себе, а то обстоятельство, что активность взяла на себя эротическую функцию в измерении желания, которое организуется в символическом порядке.
Попутно замечу, что это заходит настолько далеко, что для получения того же эффекта реальный объект бывает не нужен вовсе. Речь идет только о том, чтобы создать возможность заместительного удовлетворения в форме символического насыщения. Только так можно объяснить действительное значение таких симптомов, как психическая анорексия. Я уже говорил, что психическая анорексия заключается не в том, чтобы ничего не есть, но в том, чтобы есть «ничто». Я настаиваю, это означает есть «ничто». «Ничто» - это именно та вещь, которая обретает своё существование в плане символического. Это не nicht essen, это nichts essen. Это основополагающий для понимания феноменологии психической анорексии пункт. Говорить, что ребёнок ест ничто, не значит отрицать его активность. Он пользуется смакованием отсутствия как такового перед лицом того, что перед ним находится - своей матери, от которой он зависит. При отсутствии вкушения как такового он использует то, чем располагает прямо перед собой, а именно свою мать, от которой он зависит. Благодаря этому «ничто», он делает её зависимой от него. Если вы этого не усвоили, то не сможете ничего понять в психической анорексии, а в работе с другими симптомами наделаете ещё более серьёзных ошибок.
Таким образом, я обозначил поворотный момент, который вводит нас в символическую диалектику оральной активности. Вся последующая активность также производится в условиях либидинальной диалектики. Но происходит кое-что ещё. Обратным образом, в момент, когда в реальном происходит символический переворот замещающей активности, мать, которая до сих пор была только субъектом символического требования, лишь местом проявления присутствия или отсутствия - что

наводит на мысль об ирреальности первичных отношений с матерью - становится реальным существом. Будучи способной бесповоротно отказать, она буквально становится всем. Как я вам говорил, именно на этом уровне - а не на уровне невнятной гипотезы о некой мегаломании, приписывающей ребёнку то, что является только домыслом аналитика - впервые обнаруживает себя измерение всемогущества Wirklichkeit, что по-немецки означает вместе и эффективность, и действенность. По сути, эффективность заключается во всемогуществе реального существа, от которого абсолютно и безоговорочно зависит, будет получен дар или нет.
Сейчас я говорю вам о том, что мать является изначально всемогущей, что мы не можем исключить эту диалектику, что это исходное условие для того, чтобы понять хоть что-то, заслуживающее внимания. Я не говорю вам, как Мелани Кляйн, что мать содержит в себе всё, не говорю, что в огромном контейнере материнского тела находятся все примитивные фантазматические объекты. Теперь мы можем предположить, как такое возможно, но это другой вопрос, и я затрагиваю его лишь мимоходом. То, что такое возможно, Мелани Кляйн нам гениально продемонстрировала, но она постоянно теряется, когда нужно объяснить причины такого положения дел, и её оппоненты не упускают случая заключить из этого, что она бредила. Конечно, бредила, и у неё были на то основания, потому что этот факт возможен только посредством ретроактивной проекции всего сонма воображаемых объектов в укрытие материнского тела. Они там действительно существуют, поскольку мать образует виртуальное поле символического ничтожения, из которого все объекты, каждый в своё время, извлекут свое символическое значение. Тогда совершенно не удивительно, что можно обнаружить ретроактивно спроецированные объекты у субъекта чуть более развитого, например, ребёнка в возрасте около двух лет. И можно сказать, что, как и всё остальное, они были готовы появиться, поскольку уже были там предварительно сформированы. Вот положение, в котором находится ребёнок в присутствии всемогущей матери.
Поскольку я только что кратко упомянул параноидную позицию, как Мелани Кляйн её называет, добавлю, что и депрессивная позиция, согласно тому, как она её намечает, также не обходится без отношения к всемогуществу. Это пространство уничтожения, микромании как противоположности мегаломании. Но не будем слишком торопиться, потому что всё зависит не только от факта того, что мать, представшая однажды в своём всемогуществе, реальна. Для того, чтобы встреча с реальным всемогуществом вызвала у субъекта депрессивный эффект, также необходимо, чтобы он был способен помыслить себя и, по контрасту, свою беспомощность. Клинический опыт показывает, что происходит это в отмеченном Фрейдом шестимесячном возрасте, когда возникает феномен стадии зеркала.
Вы мне можете возразить, ведь я учил вас, что в момент, когда субъект в зеркальном отражении усваивает целостность своего собственного тела, когда он достигает своего рода завершённости в этом целостном другом и предстаёт перед самим собой, то он испытывает скорее чувство триумфа. Эта реконструкция подтверждается на опыте, и эффект ликования при этой встрече не вызывает сомнений. Но здесь не следует путать две разные вещи.
С одной стороны, для возможности различения самого себя этот опыт владения собой навсегда обеспечивает отношения ребёнка со своим собственным Я принципиально важным элементом расщеплённости. С другой стороны, это встреча с

реальностью господина. Поскольку форма владения дана субъекту в образе единства, который сам по себе от него отчуждён, но тесно с ним связан и зависим от него, он ликует, но дело принимает другой оборот, когда в предоставленной ему форме единства он встречается с реальностью господина. Таким образом, это настолько же момент его триумфа, как и поражения. Покуда он находится в присутствии единства формы материнского тела, он вынужден признать, что она ему не подчиняется. Когда же на стадии зеркала отражающая структура осознания себя вступает в игру, материнское всемогущество отражается только в отчётливо депрессивной позиции, то есть в чувстве несостоятельности у ребёнка.
Сюда можно отнести и то, что я говорил о психической анорексии. Мы могли бы продвинуться ещё дальше и сказать, что единственная возможность, которую субъект способен использовать против всемогущества, это сказать «нет» на уровне действия и ввести таким образом измерение отказа, что соответствует тому пункту, к которому я веду. Однако я хотел бы отметить, что опыт показывает нам, и не без оснований, что сопротивление всемогуществу в отношениях зависимости вырабатывается не на уровне действия в форме отказа, но на уровне объекта, который мы обнаружили под знаком «ничто». Именно на уровне аннулированного объекта в качестве объекта символического ребёнок опровергает свою зависимость тем, что питает себя ничем. Переворачивая отношения зависимости, он таким способом превращает себя в господина всемогущей силы, от которой зависит - силы, стремящейся, чтобы он жил. Теперь она оказывается в зависимости от его желания, она зависит от его милости, от милости его каприза, от милости его всемогущества.
Поэтому мы должны очень хорошо отдавать себе отчёт в том, что уже для самых первых воображаемых отношений символический порядок изначально является необходимой подкладкой, на которой могут быть разыграны проекции любых противоположностей.
Для иллюстрации этого в психологических терминах - но учтите, что это будет упрощением по сравнению с первым положением, которое я только что представил, -интенциональность (intentionnalité) любви учреждается очень рано и прежде всего по ту сторону объекта. Основополагающую символическую структуризацию невозможно представить иначе, чем посредством принятия того факта, что символический порядок уже установлен и как таковой уже в наличии. Опыт нам это подтверждает. Мадам Сюзан Исаак давно показала, что с самого раннего возраста ребёнок отличает наказание от случайной грубости. Ещё до появления речи ребёнок по-разному реагирует на толчок и пощёчину.
Я предложу вам поразмышлять над тем, что это значит. Вы скажете мне: это любопытно, у животных ведь то же самое, по крайней мере, у домашних животных. Это возражение легко опровергнуть. Это доказывает только то, что у животного могут возникнуть зачаточные представления о чём-то, в отношении объекта потустороннем, которые поставят его в очень специфические отношения идентификации с тем, кто является его хозяином. Но именно потому, что, в отличие от человека, животное не включено всем своим существом в порядок языка, ему это, кроме хозяйской похвалы, ровно ничего не дает. В лучшем случае собачка научается отличать шлепок по спине от трёпки.
Раз речь зашла о том, чтобы прояснить основные положения, возможно, вы видели вышедший в свет в декабре 1956 года четвёртый выпуск ежегодного International Journal

of Psycho-Analysis. Пожалуй, мы могли бы сказать, что в нём есть интерес к языку. Показалось, что некоторые люди откликнулись на призыв. Месье Лёвенштайн в своей статье, написанной с почтительным отношением и не без мастерства, после цитирования некоторых второстепенных персонажей Гамлета ссылается на открытие Месье де Соссюра о различии между означающим и означаемым. В общем, выглядит так, что как бы мы немного в курсе, но с нашим психоаналитическим опытом это остаётся абсолютно не связанным, разве что подчёркивает лишний раз, что мы должны думать о том, что нам говорят. Так что на уровне такого подхода я с пониманием отношусь к тому, что автор не цитирует моих работ, - мы в этом направлении продвинулись гораздо дальше.
Но есть также Месье Чарльз Рикрофт, который как представитель лондонской школы пытается внести свою лепту и разработать, в общем-то, как и мы, аналитическую теорию внутрипсихических инстанций и возникающих между ними связей. Возможно, следует вспомнить, говорит автор, о существовании теории коммуникации. Так, напоминает он нам, когда ребёнок кричит, мы имеем замкнутый контур ситуации, в которой предполагается участие матери, крика и ребёнка. Следовательно, речь идёт о полноценном акте коммуникации - ребёнок кричит, мать воспринимает его крик как сигнал, сигнал потребности. Опираясь на это, мы, возможно, могли бы реорганизовать наш опыт, полагает автор.
В том, что говорю я, речь идёт совершенно о другом. Судя по тому смыслу, который придаёт Фрейд проявлениям ребёнка, крик его не воспринимается в качестве сигнала. Крик следует понимать как воззвание к ответу, если можно так сказать, воззвание с опорой на перспективу отклика. Крик производится при том положении вещей, когда ребёнок не просто знаком с языком, но когда он уже окунулся в среду языка и с помощью парного чередования он уже способен на первые попытки кое-что уловить и сформулировать.
Суть этого выражает Fort-Da. Крик, который мы принимаем в расчёт, когда говорим о фрустрации, вписан в синхронный мир криков, организованных системой символического. Крики прямо и непосредственно организованы системой символического. Человеческий субъект прекрасно осведомлён, что крик не является чем-то таким, что каждый раз сигнализирует об объекте. Абсолютно некорректно, ошибочно и бестолково ставить вопрос о знаке, когда речь идёт о символической системе. С самого начала крик производится для того, чтобы его приняли к сведению, даже скорее для того, чтобы там, на другой стороне, его принял к сведению другой. Достаточно обратить внимание на то, насколько принципиальна для ребёнка необходимость овладеть модуляциями и артикуляциями крика, тем, что мы именуем словами, на его интерес к системе языка. Типичным даром является именно дар слова, поскольку в этом случае дар соответствует своему принципу. С рождения ребёнок питается словами, словно хлебом, и гибнет от слов. Ибо, как говорится в Евангелии, не только то, что входит в уста, губит человека, но и то, что выходит из них.
Как вы заметили - вернее, не заметили, но я уточню этот момент, чтобы закрыть тему - термин регрессия предстаёт здесь в непривычном свете.
Термин регрессия применим к тому, что происходит, когда реальный объект и в то же время действие, которое осуществляется, чтобы им овладеть, становятся заменой символическому требованию. Когда ребёнок подавляет разочарование, насыщаясь и напитываясь в контакте с грудью или с каким-либо другим объектом, это позволяет ему

освоить механизм, с помощью которого символическая фрустрация всегда может подтолкнуть к регрессии. Одно открывает дверь другому.
3
Теперь, чтобы перейти к следующему этапу, нам нужно совершить jump.
Если бы мы удовлетворились замечанием, что с доступом означающего через врата воображаемого всё становится на свои места и идёт дальше само собой, то мы бы слишком поторопились. На самом деле все отношения с собственным телом, которые устанавливаются при посредничестве зеркального отношения, любые телесные проявления вступают в игру и трансформируются в результате своего выражения в означающих. Нас, безусловно, не удивляет, что экскременты избираются в качестве объекта дара, поскольку совершенно очевидно, что именно в материале, который обнаруживается в отношениях с собственном телом, ребёнок оказывается способным найти реальную возможность подпитывать символическое. Нас абсолютно не может удивить, что именно в этом случае удержание может стать отказом. В общем, каковы бы ни были тонкости и богатство явлений, которые аналитический эксперимент обнаружил на уровне анального символизма, это не повод задерживаться здесь на долгое время.
Я сказал вам о jump, потому что теперь речь идёт о том, чтобы рассмотреть, как в диалектику фрустрации включается фаллос.
Опять же, избавьте себя от пустых хлопот по поводу естественного генезиса. С опорой на природную конституцию половых органов у вас никогда не получится обосновать главенствующую роль фаллоса в любого рода генитальном символизме. Я собираюсь продемонстрировать вам в подробностях, что в таком случае вы лишь впадёте в заблуждения, как Месье Джонс, когда он пытается удовлетворительно прокомментировать фаллическую фазу, которуюбезапелляционно постулировал Фрейд. Месье Джонс старается объяснить нам, как случилось, что для женщины, которая фаллосом не обладает, он вдруг становится таким важным. Это действительно весьма забавно.
На самом деле вопрос совершенно не в этом. Вопрос касается факта. Прежде всего, это факт. Если бы мы не обнаруживали в наблюдаемых феноменах этого преобладания, превосходства фаллоса во всей воображаемой диалектике, которая отвечает за все приключения, злоключения, проявления, а также провалы, сбои и неудачи генитального развития, тогда бы действительно не было бы никаких проблем.
Некоторые стараются изо всех сил придать должное значение тому факту, что у девочек должны быть свои особые ощущения в животе и что этот опыт без сомнения и, по-видимому, с самого начала отличается от опыта мальчика. Это само собой, но вопрос стоит абсолютно иначе, как это и отмечает Фрейд. По его словам, если женщине действительно гораздо сложнее, чем мальчику, ввести реальность того, что происходит в матке или влагалище, в диалектику желания, которая её удовлетворила бы, то происходит это по той причине, что ей приходится столкнуться лицом к лицу с тем, к чему мужчина имеет совершенно другое отношение, а именно обнаружить свою нехватку, то есть фаллос. Но причина, которая объясняет, почему это так, безусловно, не имеет никакого отношения к каким бы то ни было факторам физиологической предрасположенности. Необходимо исходить из существования воображаемого фаллоса.

Воображаемый фаллос является опорным стержнем для целого ряда фактов, которые требуют его постулировать. Нужно изучить этот лабиринт, в котором субъект обычно теряется и даже рискует быть пожранным. В роли путеводной нити выступает тот факт, что матери не хватает фаллоса, а поскольку ей его не хватает, она его желает, и только он даёт ей что-то, что может её удовлетворить.
Это может буквально изумить. Что ж, начнём с изумления. Первым достоинством знания является способность взглянуть в лицо тому, что не является само собой разумеющимся. Мы, возможно, готовы будем принять, что именно нехватка является здесь главным желанием, если признаем, что символический порядок тоже характеризуется именно этим.
Другими словами, ситуация такова именно потому, что воображаемый фаллос играет главную означающую роль. Означающее - это не то, что каждый субъект изобретает в зависимости от своего пола и своих врождённых предрасположенностей. Означающее существует. Фаллос как означающее играет глубоко структурную (sous-jacent) роль, в этом нет никаких сомнений, это принципиальный момент, и для того, чтобы понять его, потребовался анализ.
Покинем на мгновение территорию психоанализа, чтобы заново поставить вопрос, который я задал Месье Леви-Строссу, автору Элементарных структур родства. Я сказал ему следующее: «Вы описываете диалектику обмена женщинами между родами. Вы выдвигаете определённый постулат, согласно которому происходит обмен женщинами между поколениями: «Я взял женщину из другого рода, поэтому я должен другую женщину или следующему поколению, или другому роду». Если в брак вступают дети разнополых сиблингов, то ситуация, как правило, замыкается в цикл, у которого нет никаких причин размыкаться или давать сбои, но если в обмен вступают дети однополых сиблингов, могут произойти досадные недоразумения, потому что со временем проявляется тенденция к схождению, и при обмене внутри родов случаются разрывы и сбои». Поэтому я спрашиваю: «А что, если рассмотреть цикл обменов с противоположной точки зрения, а именно предположить, что, наоборот, при смене поколений именно женские линии производят мужчин и обмениваются ими?» Поскольку, в конце концов, мы уже в курсе, что нехватка, о которой мы говорим, у женщины не является нехваткой реальной. Каждый понимает, что женщины могут обладать фаллосом, они имеют фаллосы, более того, они их производят, они делают мальчиков, носителей фаллоса. Следовательно, можно говорить об обмене между поколениями в обратной форме. Тогда закон матриархата можно представить следующим образом: я дала ребёнка, я хочу получить мужчину.
Ответ Леви-Стросса следующий: «Конечно, если подойти к этому чисто формально, можно описать положение дел именно таким образом, воспользовавшись симметричной системой координат, где в основу берутся женщины. Вот только если мы так сделаем, то возникнет целый ворох не поддающихся объяснению вопросов. Так, в каждом случае, в том числе в матриархальных сообществах, политическая власть андроцентрична. Она представлена мужчинами и мужскими родовыми линиями. Очень странные аномалии обменов, преобразований, исключений, парадоксов, которые возникают в рамках законов обмена на уровне элементарных структур родства, возможно объяснить только с помощью факторов, расположенных за пределами условий родства, но определяющихся политическим контекстом, то есть порядком власти, а точнее, порядком означающего, где скипетр совпадает с фаллосом».

Именно по причинам, вписанным в символический порядок, который выходит за рамки индивидуального развития, факт обладания или не обладания воображаемым и символизированным фаллосом приобретает экономическое значение на уровне Эдипа. Это то, что определяет как важное значение комплекса кастрации, так и приоритетное положение пресловутых фантазмов о фаллической матери, которая, как вы знаете, создала проблему сразу же, как только появилась на аналитическом горизонте.
Прежде чем подойти к тому, как формулируется, завершается и разрешается диалектика фаллоса на уровне Эдипа, я бы хотел показать, что тоже мог бы задержаться на доэдипальных уровнях, но лишь воспользовавшись путеводной нитью основополагающей роли символических отношений.
Какую роль играет фаллос на уровне своей воображаемой функции, на уровне предполагаемого требования фаллической матери? Я хочу ещё раз показать вам, насколько принципиальное значение приобретает понятие нехватки объекта, если читать хороших аналитических авторов, к числу которых я отношу Месье Абрахама.
В замечательной статье 1920 года о комплексе кастрации у женщин он на 341 странице представляет случай маленькой двухлетней девочки. После завтрака она направляется к сигарному шкафу, достаёт одну сигару для Папы, вторую для Мамы, которая не курит, и третью зажимает у себя между ног. Мама собирает весь набор и кладет его обратно в коробку для сигар. Маленькая девочка начинает всё заново, возвращает всё на свои места. К сожалению, более подробных комментариев нет. Месье Абрахам неявным образом, имплицитно признаёт, что третий жест маленькой девочки указывает на символический объект её нехватки. Посредством него она выражает свою нехватку. Но несомненно также, что на этом же самом основании она сначала вручает его тому, кто его не утратил, чтобы чётко отметить, чего она желает, а точнее, как это подтверждает опыт, чтобы удовлетворить ту, которой его не хватает. Если вы прочитаете статью Фрейда о женской сексуальности, вы узнаете, что речь здесь идёт не только о нехватке фаллоса у маленькой девочки, но и о том, чтобы дать его своей матери или дать ей заменитель, как если бы она была маленьким мальчиком.
Я напоминаю эту историю лишь для того, чтобы вы могли себе уяснить, что феноменология перверсий не поддаётся осмыслению в сумерках идентификаций, реидентификаций, проекций и других хитросплетений, которые обычно вам предлагают. Чтобы не заблудится в этих дебрях, следует исходить из гораздо более простой идеи фаллоса. Речь идёт о фаллосе и понимании того, каким образом ребёнок более или менее осознанно обнаруживает тот факт, что его всемогущая мать нечто необратимым образом утратила, и это всегда вопрос выбора пути, по которому он пойдёт в своих попытках восполнения объекта её нехватки, который он и сам тоже всегда утрачивает.
Давайте не будем забывать, что фаллос маленького мальчика ненамного более замечателен, чем фаллос маленькой девочки. Естественно, хорошие авторы это увидели, и Месье Джонс всё же понял, что Мадам Карен Хорни была скорее на стороне того, с кем он спорил, то есть в данном случае на стороне Фрейда. Характер фундаментального несовершенства фаллоса маленького мальчика или даже стыд, который он может испытывать по этому поводу, или глубокая недостаточность, которую он может чувствовать, - она придавала всему этому большое значение не для того, чтобы сгладить разницу между маленьким мальчиком и маленькой девочкой, но для того, чтобы прояснить одно с помощью другого. Чтобы понять точное значение попыток

маленького мальчика соблазнить свою мать, о которых мы постоянно говорим, не нужно забывать о важности того открытия о себе, которое он совершает. Эти попытки глубоко отмечены нарциссическим конфликтом, они всегда становятся первыми случаями нарциссических увечий, которые становятся прелюдиями или даже предпосылками последующих эффектов кастрации. В конце концов, очевидно, что скорее речь идёт не о простом влечении или сексуальной агрессии, а о том, что мальчик пытается убедиться, что он мужчина или обладатель фаллоса, хотя и является таковым лишь наполовину.
Другими словами, на протяжении всего доэдипального периода, где берут своё начало перверсии, речь идёт об игре, которая в дальнейшем продолжается, игре в хорька, или в боннето, или даже в наш чёт-нечет, где фаллос имеет фундаментальное значение в качестве означающего, в качестве основы материнского воображаемого, к которому нужно присоединиться, поскольку собственное Я ребёнка опирается на всемогущество матери. Дело в том, чтобы разобраться, где он есть, а где его нет. В действительности он никогда не там, где он есть, и он никогда полностью не отсутствует там, где его нет. На это должна опираться любая классификация перверсий. Каким бы ни было значение идентификации с матерью или идентификации с объектом и так далее, то, что имеет принципиальное значение, - это отношение к фаллосу.
Возьмем, к примеру, трансвестизм, когда субъект ставит под вопрос свой фаллос. Мы забываем, что трансвестизм это не просто вопрос каким-то образом выраженного гомосексуализма, это не просто какой-то особый случай фетишизма. Дополнительно нужно, чтобы фетиш был предметом одежды субъекта. Фенихель в своей статье Психоанализ трансвестизма во 2-ом номере Международного психоаналитического журнала, 1930, делает чёткий акцент на том факте, что под женской одеждой находится женщина. Субъект идентифицирует себя с женщиной, но с женщиной, обладающей фаллосом, только обладает она им как тем, что скрыто. Фаллос всегда связан с тем, что выступает в качестве покрова. Мы видим здесь принципиально важное значение того, что я назвал покровом. Объект материализуется именно в силу существования одежды. Даже когда там есть реальный объект, нужно, чтобы оставалась возможность предположить, что его там нет, чтобы всегда оставалась возможность подумать, будто он там, где на самом деле его нет.
То же самое актуально для случая мужской гомосексуальности, и ограничимся сегодня только ей, где речь опять идёт о фаллосе субъекта, но вот ведь любопытная вещь: то, что он ищет в другом, является его собственным фаллосом.
Все перверсии каким-то образом задействуют этот означающий объект, который по самой своей природе является подлинным означающим, то есть тем, что ни в коем случае не может быть принято в своём буквальном значении. Когда мы это уловили и определённо усвоили, как в случае перверсии всех перверсий, именуемой фетишизмом - ведь, действительно, именно фетишизм показывает не только где на самом деле это нужно искать, но и что это такое - тогда мы способны чётко определить, что объект это не что иное, как ничто. Это старая поношенная одежда, тряпьё, хлам. То, что мы видим в случае трансвестизма - маленький истоптанный башмак. Когда он появляется, когда он действительно разоблачается, это фетиш.
Решающий этап располагается непосредственно перед Эдипом, то есть между первыми отношениями, с которых я сегодня начал и назвал их первичной фрустрацией, и Эдипом. На этом этапе ребёнок вовлекается в интерсубъективную диалектику приманки. Чтобы удовлетворить то, что не может быть удовлетворено, а именно

желание матери, которое в своей основе ненасытно (inassouvissable), ребёнок любым способом старается превратить себя в объект-обманку. Поскольку это желание невозможно насытить (assouvi), его предстоит обмануть. Отправной точкой пути, на котором собственное Я ребёнка обретает свою устойчивость, является стремление показать своей матери то, чем он не является.
Как показал Фрейд в своей последней статье о splitting, эти наиболее характерные этапы всегда отмечены исконной двойственностью субъекта и объекта. Поскольку ребёнок становится объектом для того, чтобы обмануть, он оказывается по отношению к другому в позиции, где интерсубъективные отношения уже полностью установлены. Это не тот примитивный вид приманки, который применяется в животном мире, где особь выставляет себя напоказ в ярком параде. Наоборот, субъект предполагает желание в другом. Это желание во второй степени, которое должно быть удовлетворено, но поскольку это желание удовлетворено быть не может, остаётся лишь обмануть его.
Мы постоянно забываем о том, что эксгибиционизм человека отличается от эксгибиционизма других существ, например, малиновки. Все дело в том, чтобы штаны в определённый момент расстегнуть, а потом застегнуть опять. Если нет штанов, нет и никакого эксгибиционизма.
Здесь мы обнаруживаем возможность регрессии. Эта ненасытная, неудовлетворённая мать, вокруг которой происходит нарциссическое восхождение ребенка по пути нарциссизма, является чем-то реальным: она налицо и, как и все ненасытные существа, ищет, кого поглотити, quaerens quem devoret. То, что сам ребёнок нашёл некогда как средство подавить свою символическую ненасытность, предстаёт теперь перед ним вновь в форме разверстой пасти. Образ оральной ситуации вновь обнаруживается здесь на уровне воображаемого сексуального удовлетворения. Зияющая дыра головы Медузы-Горгоны - это поглощающая фигура, с которой ребёнок может столкнуться в поиске удовлетворения матери.
Вот опасность, которую открывают нам эти фантазмы, - быть поглощённым. Мы встречаем её в самом начале и снова сталкиваемся с ней на том повороте, где она становится главной формой проявления фобии.
Мы находим всё это в страхах маленького Ганса. Теперь у нас есть возможность представить этот случай в чуть более ясных координатах. С опорой на то, что я изложил вам сегодня, вы сможете лучше увидеть отношения фобии и перверсии. Также вы лучше поймёте сказанное мной в прошлый раз о том, как на основе этого приобретает свои очертания функция Я-Идеала. Я даже скажу, что вы сможете проинтерпретировать случай маленького Ганса лучше, чем смог это сделать Фрейд, потому что в его наблюдении есть колебание по поводу способа, с помощью которого можно идентифицировать то, что ребёнок называет большим жирафом и маленьким жирафом.
Как сказал месье Превер: «Большие жирафы безмолвны, маленькие жирафы редки».
Если даже это плохо истолковано в наблюдении, мы всё равно понимаем, о чём идёт речь. Не достаточно ли нам одного только факта, что несмотря на вопли большого жирафа, который, несомненно, является его матерью, маленький Ганс мнёт пальцами маленького жирафа и садится на него верхом?
27 февраля 1957

Часть IV Структура мифов в наблюдении фобии маленького Ганса

глава 12 О комплексе Эдипа
Уравнение Пенис = Ребёнок Идеал моногамии у женщины Другой, между матерью и фаллосом Символический отец немыслим Мужская бигамность
| Агент | Нехватка | Объект |
| Кастрация Б | 1 |
| Символическая мать | Фрустрация I | г |
| Лишение К | s |
В прошлый раз мы постарались пересмотреть понятие кастрации или, по крайней мере, применение этого концепта в нашей практике.
Во второй части лекции я указал на место, где происходит вмешательство воображаемого в отношения фрустрации, отношения бесконечно более сложные, чем способ, которым ими обычно пользуются - отношения, связывающие ребёнка с матерью. Я говорил вам, что если, прослеживая поэтапно линию развития, мы и движемся от последующего к предыдущему, то лишь на первый взгляд, для удобства изложения, тогда как на самом деле нам всегда важно понять то, что, привходя на каждом этапе извне, изменяет задним числом то, что возникло в зачатке на этапе предыдущем. Так происходит по той простой причине, что ребёнок не одинок. Он не одинок не только в силу своего биологического окружения - есть окружение гораздо более важное для него, а именно область права, символический порядок. Попутно я отметил, что именно в силу особенностей символического порядка своё преимущественное положение обретает элемент воображаемого, называемый фаллосом.
Вот пункт, до которого мы добрались, и для перехода к третьей части моего изложения я собирался поговорить о тревоге маленького Ганса. Не случайно мы с самого начала приняли в качестве ориентиров два эти объекта - объект-фетиш и объект фобии.
Именно на примере маленького Ганса мы и попробуем сегодня артикулировать свою мысль.
Мы не будем пытаться заново сформулировать понятие кастрации, потому что, видит Бог, оно и без этого постоянно и настойчиво звучит у Фрейда, но стоит его обсудить, поскольку с тех пор, как разговора о нём избегают, комплекс кастрации или ссылка на него всё реже и реже появляются в материалах наблюдений.
Чтобы приблизится к понятию кастрации сегодня, нам нужно лишь продолжить линию нашей предыдущей дискуссии.

1
О чём мы говорим в конце доэдипальной фазы, в преддверии Эдипа?
Речь идёт о том, что ребёнок усваивает фаллос в качестве означающего и таким образом обращает его в инструмент символического порядка обменов, который определяет преемственность по линии рода. В общем-то, речь идёт о том, что он столкнётся с тем порядком, который превратит функцию отца в основной стержень драмы.
Это не так просто. По крайней мере, я рассказал на эту тему уже достаточно, чтобы, когда я говорю это не так просто, кое-что в вас на это откликалось; действительно, отец - это не так просто. Каким образом отец, его функция, его существование в плане символического, в означающем отец со всем тем глубоко проблематичным, что этот термин в себе несёт, занимает центральное положение в символической организации?
Это заставляет нас задуматься о вопросах, которые возникают по отношению к трём аспектам отцовской функции. В первый же год наших семинаров мы научились различать три измерения отцовского участия в конфликте: как отца символического, отца воображаемого и реального. И на примере случая человека-волка, которым мы занимались во второй половине года, мы обнаружили, что без проведения этого принципиально важного различия сориентироваться в наблюдении невозможно.
Принимая во внимание хронологический порядок, попробуем осмыслить вхождение ребёнка в Эдип из того пункта, к которому мы теперь подошли.
Мы оставили ребёнка в положении, где он старается стать приманкой для своей матери. Как я вам сказал, речь идёт не о простой приманке в этологическом смысле, в роль которой он был бы вовлечён целиком. В игре сексуального парада мы из позиции внешнего наблюдателя можем обнаружить воображаемые элементы как некоторые проявления, которые пленяют партнёра. Мы не знаем, до какой степени субъекты пользуются ими в качестве приманки, хотя знаем, что сами при случае можем ими воспользоваться, предъявляя желанию простого соперника столь же простые гербовые символы. Приманка, о которой идёт здесь речь, проявляет себя в действиях, в тех самых действиях, которые мы наблюдаем у маленького мальчика, например, в его действиях, направленных на соблазнение своей матери. Когда он выставляет себя напоказ, это не чистая и простая демонстрация, это демонстрация его самого им самим своей матери, которая участвует в качестве третьей стороны. К этому присоединяется то, что возникает позади матери, на что при благоприятном стечении обстоятельств мать может, так сказать, пойматься - искренность. Это уже полная троица, даже предварительно намеченная интерсубъективная четверица.
О чём в итоге идёт речь в Эдипе? О том, что субъект может сам пойматься на эту приманку таким образом, что оказывается вовлечённым в существующий порядок, который отличается от того измерения психологической приманки, через которое он прошёл и где мы его оставили.
Если аналитическая теория приписывает Эдипу нормализующую функцию, вспомним и то, чему учит нас опыт: одного приближения субъекта к выбору объекта недостаточно, нужно также, чтобы этот выбор был гетеросексуальным. Наш опыт учит нас также, что и гетеросексуальности недостаточно, чтобы соответствовать правилам, и кроме того, есть многочисленные формы создания видимости гетеросексуальности. Иногда действительно гетеросексуальные отношения могут скрывать позиционную

атипичность, которую аналитическое исследование покажет происходящей из (на самом деле) гомосексуальной позиции. Поэтому субъекту для достижения гетеросексуальности ещё недостаточно пройти Эдип: субъект, девочка или мальчик, достигает гетеросексульности, если занимает надлежащее положение по отношению к функции отца. Вот центр всей проблематики Эдипа.
Мы уже указали на это с помощью особого подхода к объектным отношениям, который мы используем в этом году, и Фрейд отчётливо формулирует это в статье 1931 года о женской сексуальности - под углом доэдипальности женская проблематика выглядит гораздо проще. Тогда как гораздо более сложной она предстаёт у Фрейда лишь в связи с тем порядком, в котором он эту проблему исследовал. Фрейд действительно открывает Эдип раньше доэдипальности, могло ли быть иначе? Если мы говорим, что на уровне развития, определяемом как доэдипальный, женская позиция проще, то лишь постольку, поскольку заранее знаем, что должны в итоге прийти к сложной структуре комплекса Эдипа.
Мы могли бы сказать, что девочка более-менее расположила или приблизила к себе фаллос в воображаемом, где он и находится, по другую сторону матери, при постепенном обнаружении фундаментальной неудовлетворённости, которую испытывает мать в отношениях с ребенком. Таким образом, речь для неё идёт о скольжении фаллоса от воображаемого к реальному. Именно об этом толкует Фрейд, описывая тоску по подлинному фаллосу, которая начинается у маленькой девочки на уровне воображаемого, в зеркальном обращении к подобию, другой маленькой девочке или маленькому мальчику, и говоря нам, что ребёнок будет для неё заменителем фаллоса.
На самом деле это несколько усечённая форма того, что происходит в наблюдаемом явлении. Посмотрите на мой рисунок: здесь воображаемое, то есть материнское желание фаллоса, а вот ребёнок, наш центр, которому предстоит открыть лежащее по ту сторону - нехватку в материнском объекте. По крайней мере это один из возможных исходов: начиная с того момента, когда ребёнок входит в ситуацию и выходит из неё, усвоив её как возможную, всё вращается вокруг него.
НОСТАЛЬГИЯ ПО ФАЛЛОСУ

Но что на самом деле мы обнаруживаем в фантазме и маленькой девочки, и маленького мальчика? Поскольку ситуация вращается вокруг ребёнка, маленькая девочка находит реальный пенис там, где он и есть, по другую сторону, у того, кто может подарить ей ребёнка, а именно, говорит нам Фрейд, у отца. И лишь поскольку она не имеет его в наличии, поскольку она от него в этом плане определённо отказывается,

сможет она получить его как дар от отца. Вот почему, говорит нам Фрейд, именно посредством отношений с фаллосом маленькая девочка входит в Эдип и делает это, как вы видите, простым способом. В дальнейшем фаллосу только и останется, что скользить от воображаемого к реальному как некоему эквиваленту - этот же термин Фрейд использует в статье 1925 года об анатомическом различии полов - Nun aber gleitet die Libido des Mädchens - man kann nur sagen: längs der vorgezeichneten symbolischen Gleichung Penis = Kind. Таким образом, маленькая девочка уже в достаточной мере вступает в Эдип.
Я не говорю, что не может произойти многое другое, способное обусловить аномалии развития женской сексуальности, но то, что есть точно, так это фиксация на реальном отце как обладателе реального пениса, как на том, кто реально может подарить ребёнка. Этого уже вполне достаточно, чтобы в конечном счете можно было сказать, что пройти путём интеграции в нормальное гетеросексуальное положение Эдипа женщине гораздо проще, даже если этот самый Эдип и влечёт за собой всевозможные осложнения и тупики в развитии женской сексуальности.
Такая большая простота, очевидно, не должна нас удивлять, поскольку Эдип, в сущности, андроцентричен или патроцентричен. Подобная асимметрия вызывает всевозможные квазиисторические умозаключения, которые подталкивают нас искать причину неравенства на социологическом или этнографическом уровне. Фрейдовское открытие, позволив проанализировать субъективный опыт, обнаруживает женщину в позиции, которая, поскольку я говорил о символическом распорядке или упорядоченности, этому порядку подчинена. Отец для неё является прежде всего объектом любви, то есть объектом чувства, которое направлено к элементу нехватки в объекте, поскольку именно эта нехватка указала на путь, который привёл её к этому объекту, к отцу. Этот объект любви становится впоследствии тем, кто даёт объект удовлетворения, объект, появляющийся в процессе естественного деторождения. В дальнейшем ей потребуется лишь немного терпения, пока на место отца не придёт другой, кто его заменит, исполняя ту же самую роль, роль отца, действительно дающего ей ребёнка.
Мы ещё вернёмся к этой особенности, которая задаёт специфику развития женского Сверх-Я. Существует некоторый баланс, прекрасно отмеченный Гансом Заксом, между отказом от фаллоса и преобладанием нарциссического отношения в развитии женщины. На самом деле единожды отказавшись от фаллоса, она отрекается от возможности обладания им как принадлежностью, и он становится принадлежностью того, на кого с этого момента обращена её любовь, то есть отца, от которого теперь ожидается ребёнок. Ожидание подарка ставит девочку в положение особой зависимости, которая, как замечают многие авторы, парадоксальным образом заставляет проявиться в этот момент фиксации, чётко определяемые как нарциссические. Она становится существом наиболее нетерпимым к определённого рода фрустрации. Мы, возможно, вернёмся к этому попозже в процессе обсуждения идеала женской моногамии.
Упрощённое сведение всей ситуации к идентификации с объектом любви и к объекту удовлетворения потребности объясняет также сторону развития женщины, застывшую, преждевременно остановленную по отношению к ходу развития, который можно характеризовать как нормальный. В некоторых местах своих сочинений Фрейд переходит на особый женоненавистнический тон, горько сетуя на большие трудности,

которые необходимо преодолеть, по крайней мере в случае некоторых субъектов женского пола, чтобы хоть как-то их мобилизовать и заставить продвинуться дальше морали, как он говорит, супа и фрикаделек, где они чрезвычайно властно требуют, например, удовлетворения от самого анализа.
Я всего лишь указываю на некоторые предпосылки, и мы ещё вернёмся к тому, как Фрейд представил развитие в разговоре о женской сексуальности, сегодня же мы обратимся к ситуации мальчика.
В случае мальчика работа Эдипа выглядит гораздо более чётко ориентированной на то, чтобы обеспечить субъекту идентификацию со своим собственным полом, что в целом происходит в идеальных, воображаемых отношениях с отцом. Но это не является истинной целью Эдипа, которая заключается в том, чтобы точно сориентировать субъекта относительно функции отца, то есть в том, чтобы однажды он смог допустить для себя самого эту столь парадоксальную и проблематичную позицию - быть отцом, доступ к которой, наоборот, преподносит целую гору трудностей.
Мы всё меньше и меньше интересуемся Эдипом не потому, что не замечаем этой горы трудностей, мы отворачиваемся от него именно потому, что видим её.
Всё фрейдовское вопрошание - не только в его учении, но и в его собственном субъективном, Фрейда, опыте, - которое может быть прослежено нами благодаря тому доверию, которое он нам оказывает, открывая свои сновидения, показывая развитие своей мысли, и также благодаря тому, что мы знаем на данный момент о его жизни, о его привычках и даже отношениях в его семье, о которых Месье Джонс в специфической, но доходчивой манере нам более-менее полно поведал, - всё фрейдовское вопрошание сводится к следующему: «Каково это, быть отцом?»
Это было для него центральной проблемой, плодотворным пунктом, который по-настоящему сориентировал всё его исследование.
Обратите внимание, что эта проблема, актуальная для каждого невротика, также наблюдается и в детском опыте каждого не невротика. Кто такой отец? С этим вопросом можно приблизиться к проблеме означающего отца, но не будем забывать, что субъекты всё-таки им становятся, превращаясь в отцов. Поставить вопрос Кто такой отец? это нечто иное, нежели им быть и получить доступ к отцовской позиции. Присмотримся к этому повнимательнее. Если для каждого мужчины это достижение отцовской позиции является таким испытанием, не так уж немыслимо утверждать, что в итоге никто и никогда полностью в неё не попадал.
В предполагаемой нами диалектике нужно исходить из того, что где-то есть тот, кто уверенно претендует на позицию отца, что кто-то может сказать: «Я отец, я им являюсь». Такое предположение является сутью всей эдипальной диалектики, но это никоим образом не проясняет вопроса особой интерсубъективной позиции того, кто для других, и особенно для ребёнка, эту роль исполняет.
Так вот, давайте вернёмся к маленькому Гансу.
2
В этом случае - целый мир. Неспроста из пяти психоанализов я оставил комментарии к нему напоследок.
Первые страницы наблюдения точно описывают уровень, который мы обсуждали в прошлый раз, и Фрейд излагает вещи в таком порядке не без причины. Первый вопрос

касается вивимахера, Wiwimacher, что на французский переведено как делатель пипи (fait-pipi ). Если следовать за Фрейдом побуквенно, то маленький Ганс занят не просто вопросом своего вивимахера, он интересуется вивимахерами и других живых существ, в особенности тех, которые старше и больше, чем он.
Вы уже видели соответствующие замечания о последовательности, в которой ребёнок задаёт вопросы. Сначала он спрашивает у матери: «У тебя тоже есть вивимахер?» Мы ещё поговорим о том, что отвечает ему мать. Тогда Ганс выдаёт: «Да, я так и думал...», - то есть он уже неплохо соображает. Затем он задаёт вопрос отцу, потом забавляется, увидев вивимахер льва, и это отнюдь не случайность. Тогда, то есть до появления фобии, он чётко отмечает, что если у матери, как она без зазрения совести утверждает, есть вивимахер, то, по его мнению, это должно быть заметно. И действительно, как-то вечером, вскоре после этих расспросов, он застаёт её раздевающейся и высказывает мнение, что если бы у неё был вивимахер, то он должен был бы быть такой же большой, как у лошади.
Слово Vergleichung переведено на французский как сравнение (comparaison). Тогда как слово уравнивание (péréquation), кажется, подходит лучше, если не в строгом его смысле, то по крайней мере в экономическом. В перспективе воображаемого фаллицизма, где мы оставили субъекта в прошлый раз, речь действительно идёт об усилии, направленном на уравнивание некоего абсолютного объекта и фаллоса, и о проверке реальности его существования. Это уже не ставка пан или пропал. До сего момента субъект играл в боннето, в прятки (cache-cache), фаллос никогда не оказывался там, где его ищут, и никогда там, где его находят. Теперь речь идёт о том, чтобы выяснить, где он на самом деле.
Ребёнок до этого момента был тем, кто притворяется или разыгрывает притворство. Не случайно, что чуть позже в случае маленького Ганса, как это замечают и Фрейд, и родители, в первом сновидении с элементом деформации и смещения фигурирует игра в фанты. Если вы вспомните представленную мной на прошлой нашей встрече диалектику воображаемого, вас поразит, насколько она здесь на поверхности, на этапе развития маленького Ганса, который предшествовал появлению фобии. Всё в наличии, включая фантазматических детей. Внезапно после рождения младшей сестры появляется множество маленьких воображаемых девочек, о которых он заботится совершенно как о своих детях. Почти непреднамеренно складывается полная картина воображаемой игры. Речь идёт о нуждающейся в преодолении дистанции, которая отделяет того, кто притворяется, от того, кто знает, что обладает могуществом.
Что для нас открывает это первое приближение Ганса к эдипальным отношениям? То, что обыгрывается в акте уравнивания, не позволяет нам покинуть план воображаемого. Игра продолжается в плане приманки. Ребёнок лишь прибавил к этим измерениям материнскую модель: образ больших масштабов, но по сути своей однородный (homogène). Если эдипальная диалектика останется для него ограниченной этими пределами, то он никогда не будет иметь дело ни с кем, кроме своего двойника, двойника больших масштабов. Введение, вполне мыслимое, материнского образа в идеальной форме собственного Я (la forme idéale du moi) погружает нас в воображаемую диалектику зеркальных отношений субъекта с маленьким другим, где мы остаёмся в пределах действия логики или-или - или я, или он, - связанной с первой символической диалектикой присутствия-отсутствия. Мы не выходим из игры чёт-нечет, мы не покидаем плана приманки. Что из этого следует?

Мы понимаем это благодаря теоретической и в то же время показательной модели - в этой уникальной ситуации мы видим, как возникает симптом, появляется тревога, говорит нам Фрейд.
Он с самого начала наблюдения чётко различает тревогу и фобию. Не случайно далее следуют друг за другом две вещи - и, без всякого сомнения, одна приходит на смену другой - фобический объект начинает исполнять свою функцию на почве тревоги. Но на воображаемом уровне ничто не располагает к прыжку, в результате которого ребёнок способен выскочить из этой игры в приманку для своей матери, где он играет роль того, кто является всем или ничем, удовлетворяющим или неудовлетворяющим -и где, конечно же, сам факт поставленного таким образом вопроса обнажает план принципиальной неудовлетворимости.
Это и есть первая упрощённая схема вхождения в Эдип - едва ли не братское соперничество с отцом. Мы же видим здесь гораздо большее количество нюансов, нежели обычно принято полагать. На самом деле агрессивность, о которой идёт здесь речь, происходит из игры в поле зеркальных отношений, для которой главной пружиной всегда является логика или я, или другой. С другой стороны, остаётся неизменной фиксация на матери, ставшей после первых фрустраций реальным объектом. Именно потому, что такая стадия существует, а точнее в силу того, что центральный опыт Эдипа располагается на уровне воображаемого, этот комплекс в дальнейшем простирается во всех своих невротических последствиях на тысячи аспектов аналитической реальности.
Именно здесь мы видим включение такого важного термина фрейдовского опыта, как унижение в любовной жизни, которому Фрейд посвятил специальное исследование. Из-за постоянной привязанности субъекта к этому первичному реальному фрустрирующему объекту, матери, любой другой женский объект будет для него не более, чем объект обесцененный, суррогатный, нарушенный, всегда недостаточно полный по сравнению с первым материнским объектом. Чуть позже мы увидим, как это можно осмыслить.
Однако давайте не будем забывать, что долгосрочные последствия, связанные с воображаемой пружиной, которую Эдипов комплекс приводит в действие, - это ещё не всё. Как правило, и это сформулировано во фрейдовском учении с самого начала, в природу комплекса Эдипа включено его разрешение. Когда Фрейд сообщает нам это, он говорит, что отодвигание враждебности к отцу на задний план мы можем обоснованно связать с вытеснением. Но в том же предложении он подчёркивает, что понятие вытеснения применяется обычно к конкретной исторически артикулированной ситуации, а не к постоянному отношению. В дальнейшем он признаёт возможность применить здесь термин вытеснение в расширенном смысле, но имейте в виду, что угасание эдипова комплекса, его уничтожение и разрушение, происходящее, как правило, в промежутке с пяти до пяти с половиной лет, представляет из себя нечто иное, нежели мы полагали до сих пор, нечто иное, нежели воображаемое стирание или ослабление исконных и постоянных по своей природе отношений. Здесь есть кризис и есть его разрешение. В результате этого события появляется и регистрируется в бессознательном особого рода образование, а именно Сверх-Я.
Короче говоря, мы здесь сталкиваемся с необходимостью обнаружить нечто новое и оригинальное, что находило бы в эдипальных отношениях свое разрешение. Чтобы его увидеть, достаточно обратиться к привычной нам схеме.

В пункте, на котором мы остановились в прошлый раз, ребёнок предлагает матери фаллический воображаемый объект, чтобы обеспечить её полное удовлетворение, и делает это в форме приманки. Тем не менее эксгибиционизм маленького мальчика перед матерью имеет смысл только при участии, наряду с матерью, большого Другого, который выступает своего рода свидетелем, тем, кто видит ситуацию целиком. Его присутствие подразумевается уже в самом факте презентации или даже подношения (offrande) маленького мальчика своей матери. Поэтому, чтобы Эдип имел место, именно на уровне большого Другого должен появиться термин, который до сих пор не вступал в игру, кто-то, кто всегда и при любых обстоятельствах готов вступить в игру и одержать верх.
ПРИСУТСТВИЕ ДРУГОГО

Модель игры в фанты можно обнаружить в тысячах наблюдений за детской активностью, и мы постоянно встречаем её черты в случае маленького Ганса. Когда, например, он вдруг закрывается в темной маленькой кладовке, которая тотчас превращается в его собственный туалет, хотя до этого он уже сходил в общий. Есть момент, когда всё приходит в неустойчивое положение и осуществляется переход в дополнительное, ожидаемое нами, измерение игры - в план символических отношений. То, что до этого было только воззванием и призывом (appel et rappel), характерным для отношений с символической матерью, о чём я говорил вам в прошлый раз, становится представлением о существовании на уровне большого Другого того, кто всегда способен ответить и кто отвечает, что фаллосом, истинным, реальным пенисом при любом положении дел обладает он. Он тот, у кого главный козырь, и он это знает. Он вступает в символический порядок как реальный элемент, обратный начальной позиции матери, символизированной в реальном своим присутствием и отсутствием.
До этого момента объект одновременно был там и его там не было. Исходным пунктом отношений с любым объектом является одновременное присутствие и отсутствие, у субъекта была возможность играть в присутствие и отсутствие объекта. Начиная с этого поворотного момента, объект больше не тот воображаемый объект, при помощи которого субъект может заманивать (leurrer), но это уже объект, на который навсегда распространяется власть большого Другого показать, что субъект им не обладает или обладает им в недостаточной степени. Если кастрация играет принципиальную для всего последующего развития роль, то происходит это из необходимости допустить наличие материнского фаллоса в качестве символического объекта. Только исходя из этого принципиального для эдипального опыта факта лишения объекта кем-то, кто этим объектом обладает и знает о том, что им обладает, и обладает им при любом положении дел, ребёнок способен предположить, что когда-то этот символический объект будет ему подарен.

Другими словами, формирование самого символа мужественной позиции, гетеросексуальной маскулинности, изначально подразумевает кастрацию. Этому нас учит фрейдовское понятие Эдипа. Именно потому, что мужчина, в отличие от женщины, действительно располагает естественным довеском, что пенис принадлежит ему, необходимо, чтобы он получил его от кого-то другого, кто является реальным в символическом, то есть от настоящего отца. Вот почему никто не может ничего сказать о том, что в действительности значит быть отцом - ясно одно: это нечто такое, что находится в игре заранее. Только игра с отцом, игра проигравшего победителя, если можно так сказать, позволяет ребёнку найти тот путь, на котором возникнет в нём первая запись закона.
3
Кем становится субъект этой драмы?
Как это описано в диалектике Фрейда, он - маленький преступник. Именно по дороге воображаемого преступления вступает он в порядок закона. Но он может попасть в этот порядок закона, только если хотя бы на одно мгновение встретит реального партнёра, который действительно привнесёт нечто на уровне большого Другого, нечто такое, что не является простым воззванием и призывом, парой присутствия и отсутствия, элементом, кардинально ничтожащим символическое - если он встретит того, кто ему ответит.
Но если мы получаем здесь сюжет в плане воображаемой драмы, то этот опыт должен быть устроен именно на уровне воображаемой игры. Недаром требуемое измерение абсолютной инаковости того, кто просто обладает могуществом и соответствует ему, ни в каком конкретном диалоге не возникает. Оно воплощено в реальных персонажах, но эти реальные персонажи сами по себе всегда зависят от чего-то, представляющего из себя в конечном счёте вечное алиби. Единственный, кто может абсолютно соответствовать позиции символического отца, - это тот, кто может сказать, как Бог монотеизма: «Я есмь тот, кто я есмь». Но эту фразу, которую мы находим в священном тексте, больше никто не может произнести.
Тогда вы мне скажете: «Вы научили нас, что мы получаем своё собственное послание в обращённой форме, и это всё объясняет». Ты еси тот, кто есть. Не обманывайтесь: кто я, чтобы сказать такое кому-либо другому?Иными словами, здесь я хочу вам указать на то, что символический отец, собственно говоря, немыслим.
Символического отца нет нигде, и он никуда не вмешивается.
Доказательства этому можно найти в той же книге Фрейда. Нужен был весь свойственный Фрейду дух научного и позитивистского мышления, чтобы создать эту конструкцию, которую, по заверению Джонса, Фрейд ценил в своем творчестве больше всего. Он не выдвигал её на первый план, потому что его главное произведение одно, -он его написал, утвердил и никогда не отступал от него - это Толкование сновидений; но самой дорогой для него была работа Тотем и табу, которую он считал высшей своей удачей и достижением, работа, которая является не чем иным как современным мифом, призванным объяснить то, что оставалось в его учении явным пробелом - вопрос Где отец?
Достаточно открыть глаза и прочитать Тотем и табу, чтобы понять - если это не является тем, о чём я говорю, то есть мифом, то это совершенный абсурд. Работа Тотем

и табу написана, чтобы донести до нас, что для самой возможности существования отцов необходимо прежде, чтобы настоящий отец, единственный отец, отец уникальный, вошёл в историю как отец мёртвый. Более того, как отец убитый. И тогда, в самом деле, зачем этому придавать какое-то другое значение, кроме мифологического? Насколько мне известно, этот самый отец ни Фрейдом, ни кем-либо ещё не рассматривался как бессмертное существо. Чего ради сыновьям понадобилось ускорить его смерть? Ради того, чтобы в итоге запретить себе то, чем он наслаждался. Его убили, только чтобы доказать, что он неубиваем.
Суть исполненной значения драмы, которую вводит Фрейд, основывается на понятии строго мифическом, поскольку в качестве главной его категории выступает форма невозможного, даже немыслимого, поскольку оно увековечивает единственного изначального отца - отца, обречённого быть убитым. Убитым для чего? Чтобы его сохранить! Мимоходом замечу вам, что во французском и в некоторых других языках, в частности в немецком, убийство происходит от латинского слова tutare, что означает сохранить.
Этот мифический отец показывает нам, с какого рода трудностями имел дело Фрейд, и заодно то, к чему он прямо и непосредственно обращался в понятии отца. Это никак не может быть привнесено в диалектику, кроме как при посредничестве реального отца, который приходит в какой-то момент для исполнения своей роли и функции, позволяет оживить воображаемые отношения и придать им новое измерение. Он выходит из игры зеркальных отношений собственного Я и маленького другого, чтобы воплотить собою эту фразу, о которой мы только что говорили как о непроизносимой: «Ты тот, кто ты есть». Если вы позволите мне показать неоднозначность смысла в игре слов, которую я уже использовал, когда мы занимались изучением параноидальной структуры Председателя суда Шребера, то это не только «Ты тот, кто ты есть» «Tu es celui que tu es», но и «Ты тот, кто убивал» «Tu es celui qui tuais».
Закат эдипова комплекса соответствует установлению закона в качестве вытесненного в бессознательное, но неизбывного. По мере того, как это происходит, и появляется нечто такое, что откликается в символическом. Закон является не просто тем, о чём мы задаёмся вопросом, почему, в конце концов, все человеческое сообщество в него вписано и включено. Он укоренён в реальном в форме ядра, которое оставляет после себя эдипов комплекс - ядра, которое, как показал анализ, и становится раз и навсегда той реальной формой, в которую вписано всё то, что философы до этого момента с большей или меньшей двусмысленностью представляли как некую постоянную, плотную сердцевину нравственного сознания - ядра, которое, как мы знаем, воплощается в каждом человеке в самых разнообразных, несуразных и причудливых очертаниях - ядра, которое мы и называем Сверх-Я.
Эту форму принимает оно потому, что его образование на уровне Es (Оно) как элемента однородного другим либидинальным элементам, всегда связано с тем или иным чрезвычайным происшествием (accident). В действительности мы никогда не знаем ни того, в какой момент воображаемой игры произошёл переход, ни того, кто там был, чтобы откликнуться в ответ.
Это тираническое Сверх-Я, глубоко парадоксальное и непредсказуемое, представляет из себя даже у не невротиков означающее, которое маркирует, пропечатывает, оставляет на человеке клеймо отношений с означающим. У человека есть одно означающее, которое помечает его отношения с означающим, оно называется

Сверх-Я. Вообще-то, таких означающих гораздо больше, чем одно, и называются они симптомы.
Используя этот и только этот ключ, вы сможете понять, что происходит, когда маленький Ганс инициирует свою фобию. Я думаю, что смогу показать вам как характерную черту этого случая тот факт, что, несмотря на всю любовь отца, всю его доброту и всю его интеллигентность, благодаря которой мы располагаем материалом наблюдения, реального отца в этой истории нет.
Всё происходящее в отношениях маленького Ганса с матерью сводится к игре в приманку, которая становится в итоге невыносимой и мучительной, из которой он не может найти выход. Он - либо он, либо она; либо один из них, либо другой, без различения, кто из них есть кто - фаллоносный или фаллоносная, большой или маленький жираф. И несмотря на противоречивые толкования, которые предлагают различные авторы, ясно, что маленький жираф соотносится именно с той материнской принадлежностью, по отношению к которой и возникают вопросы: чья она и кто ей будет обладать. Это своего рода сон наяву маленького Ганса. Несмотря на громкие крики его матери, эта грёза делает его хозяином положения и наглядно демонстрирует нам весь механизм.
Я хотел бы добавить к этому ряд соображений, которые помогут вам усвоить точное обращение с категорией кастрации, которое я вам сейчас предлагаю.
Привносимая мной перспектива позволяет учесть карающее вмешательство кастрации в воображаемую игру Я-Идеала, благодаря чему воображаемые элементы, каждый в своём плане и в своих взаимодополняющих отношениях, стабилизируются в символическом, где фиксируется их констелляция. И кому в такой перспективе может прийти в голову обратиться к понятию объектных отношений, по определению типично полноценных и гармоничных? Как если бы по некоему природному замыслу и закону, в идеале и на постоянной основе каждый должен был бы найти свою каждую для скорейшего и полнейшего удовлетворения в паре без малейшей оглядки на мнение всего остального сообщества.
Если же мы, напротив, научимся отличать порядок закона от гармоничных воображаемых отношений и даже от позиции отношений влюблённости, если мы признаем кастрацию сущностным кризисом, пройдя который любой субъект получает, если так можно выразиться, полное право быть эдипализированным, то мы придём к выводу, что совершенно естественным - даже на уровне сложных структур родства, в том числе в полностью свободных сообществах, подобных тому, в котором живём мы, то есть не только на уровне элементарных структур - будет признать, что любая женщина, доступ к которой не позволен, запрещена законом. В этой формуле можно ясно расслышать ту истину, что каждый брак, и не только у невротиков, несёт в себе кастрацию. Если в нашей цивилизации расцвёл идеал, идеальное сочетание любви и супружества (conjugo), то произошло это благодаря выдвижению на передний план такого продукта символического, как брачный договор по взаимному согласию, то есть свобода союзов продвинулась настолько далеко, что балансирует на грани инцеста.
К тому же достаточно задуматься немного над самой функцией первобытных законов союза и родства, и вы обнаружите, что любое, каким бы мимолётным оно ни было, сопряжение индивидуального выбора с законом, любое сопряжение любви и закона, даже если оно необходимо для создания объединяющей разных существ связи, причастно инцесту. Из этого следует, что в конечном счёте, даже если учение Фрейда

приписывает длительной фиксации на матери неудачи или даже деградацию любовной жизни и видит в её устойчивости нечто, вносящее неустранимый дефект в желанный идеал моногамного союза, не нужно думать, будто перед нами новая форма пресловутого или-или, показывающая, что если инцест не происходит там, где мы желаем его, то есть в действительности, в так называемых идеальных семьях, то лишь оттого, что он произошёл где-то в другом месте. И в одном, и в другом случае речь идёт об инцесте. Другими словами, здесь имеет место нечто, несущее в себе самом ограничение и глубинную двойственность, всегда готовую заявить о себе противоречивость.
Это позволяет нам, опираясь на опыт, утверждать, что если женский идеал моногамного супружеского союза имеет своей причиной то, на что мы указали с самого начала, то есть желание единоличного обладания фаллосом, то нет ничего удивительного - и это наш главный вывод - что исходная модель отношения ребёнка к матери всегда склоняется к воспроизводству на мужской стороне. А поскольку этот типичный, нормативный, правовой союз отмечен кастрацией, то всегда будет воспроизводиться расщепление, split, которое определит его фундаментальную бигамность. Вопреки общепринятому предположению, я не говорю о полигамности, хотя, конечно, с того момента, как появляются двое, нет никаких причин ограничивать игру в галерее миражей. Но именно по другую сторону того, на чём реальный отец разрешает остановить свой выбор тому, кто вошёл в эдипальную диалектику, именно по другую сторону этого выбора неизменно имеет место нечто, искомое в любви, - не разрешённый объект, не объект удовлетворения, но существо, то есть объект, пленяющий тем, чего ему не хватает.
Вот почему, будь то в организованном или анархичном сообществе, мы никогда не видим совпадения любви и освящённого союза. Множество развитых цивилизаций без колебаний приняли и применили на практике эту доктрину. Что до цивилизации нашей собственной, то мы смогли лишь предположить, что всё происходит как бы случайно - в зависимости от того, насколько сильное или слабое у нас Я, и насколько прочно связаны мы с теми или иными архаическими или даже наследственными фиксациями.
Уже в ранних воображаемых отношениях ребёнок знакомится с тем, что находится по другую сторону его матери, он видит, ощущает, переживает то, что человеческое существо является существом обделённым и существом заброшенным. Сама структура, устанавливающая для нас различение опыта воображаемого и опыта символического, который её нормирует, делает это, однако, исключительно посредством закона, так что многое из этого последнего сохраняется, не позволяя говорить о любовной жизни исключительно в регистре объектных отношений, пусть даже идеальных и отмеченных глубочайшей близостью. Эта структура оставляет проблематику любовной жизни открытой.
Чтобы это ощутить и тотчас в этом убедиться, у нас есть Фрейд, его опыт и наша собственная повседневная жизнь.
6 марта 1957

глава 13 О комплексе кастрации
Критика афанизиса
Отец воображаемый и отец реальный
Любимое существо
Тревога, от приманки к возбуждённому пенису Фобические животные
| Агент | Нехватка объекта | Объект |
| Реальный отец | Кастрация | Воображаемый |
| Символическая мать | Фрустрация | Реальный |
| Воображаемый отец | Лишение | Символический |
Сегодня мы попробуем поговорить о кастрации.
Так же как эдипов комплекс, кастрация постоянно упоминается в работах Фрейда. Но важно отметить, что дело с ними обстоит по-разному.
Только в позднем тексте 1924 года Закат эдипова комплекса, который посвящён совершенно новой теме, Фрейд пытается вывести полную формулу эдипова комплекса, хотя говорил о нём с самого начала, что позволяет предположить наличие большой персональной проблемы, исходного вопроса Кто такой отец? Откровенно говоря, в этом нет никакого сомнения. Биография и переписка с Флиссом предоставляют подтверждения озабоченности этим вопросом и доказывают, что эдипов комплекс изначально присутствовал в мысли Фрейда несмотря на то, что был разъяснён гораздо позднее.
В случае с кастрацией ничего подобного не происходит. Фрейд никогда полностью не сформулировал точный смысл, точное психическое значение этого страха или угрозы, или инстанции, или драматического момента - со знаком вопроса все эти слова имеют отношение к кастрации.
Когда я в прошлый раз начал подходить к проблеме, подведя кастрацию под фрустрацию и воображаемую фаллическую игру с матерью, многие из вас, если и поняли мою идею о вмешательстве отца как чисто символической фигуры в сновидениях, то остались тем не менее с вопросом по поводу кастрации. Что такое кастрация? Для того чтобы субъект достиг половой зрелости, он должен быть кастрирован. Что это значит?
Вот вопросы, которые эхом донеслись до меня. Посмотрим, как получится на них ответить.

1
На уровне первого же прочтения сразу можно сказать, что кастрация является знаком драмы Эдипа и служит ему внутренним стержнем.
Хотя именно так это нигде не прозвучало, но неявно предполагается в работах Фрейда буквально повсюду.
Конечно, можно уклониться от подобной формулировки и принять её только как возможную. Актуальное направление аналитического дискурса ровно к этому и располагает. Но не стоит ли прислушаться к тому, что говорю я, и немного поразмыслить над этим? Я понимаю, что по-настоящему категоричный тон этого утверждения показался вам проблематичным, и так оно на самом деле и есть. Каким бы парадоксальным такое утверждение ни было, оно может послужить для вас отправным пунктом.
О чём говорит подобная формулировка? Что подразумевает? Что предполагает? На самом деле есть авторы, которые обратили внимание на её особенность, и первый среди них - Эрнст Джонс.
Читая тексты Месье Джонса, вы видите, что он так и не преодолел сложности обращения с комплексом кастрации, что привело его к необходимости применить специфический термин, который, как и всё, что он привнёс в психоанализ, закрепился и получил распространение в основном в кругу английских авторов. Это - aphanisis аушюц, что по-гречески означает исчезновение.
Джонс предлагает своё объяснение форме настоятельности психической драмы кастрации в истории субъекта. Он не рассматривал в качестве причин страха кастрации какие-либо происшествия или угрозы, несмотря на особенность их постоянного воспроизводства в истории субъекта, например, в известной родительской фразе: «Мы попросим, чтобы кое-кто пришёл и отрезал тебе это». Авторов остановила не только парадоксальная, не имеющая отношения к насущному постоянству межличностных отношений сторона этой угрозы, но и сложность подхода к самой кастрации, которую Фрейд всё же чётко определил как угрозу пенису, фаллосу. Вот что подтолкнуло Джонса, когда он занимался проблемой образования Супер-Эго и старался понять его механизм, вывести на передний план понятие aphanisis, которое само по себе создаёт большое количество затруднений. Я полагаю, что будет достаточно моей краткой формулировки для того, чтобы вы это уловили.
На самом деле aphanisis - это исчезновение, но исчезновение чего? У Джонса это исчезновение желания. Аphanisis, заменивший кастрацию, - это страх обнаружения субъектом затухания своего желания.
Я полагаю, вы не можете не заметить, что подобное понятие уже само по себе предполагает высокую степень субъективности отношений. Стоит ли искать здесь источник первичной тревоги? Может быть и так, но совершенно точно, что эта тревога является весьма осмысленной. Чтобы объяснить это, нужно было совершить в понимании своего рода прыжок и предположить, что субъект в соответствии с тем, что артикулирует фрустрация как таковая, отступает на позицию своих первых отношений с объектами, но и не только, и связать с этой фрустрацией чувство ослабления желания. Откровенно говоря, это предполагает преодоление огромной дистанции одним махом.
На самом деле именно вокруг понятия лишения, поскольку оно вызывает страх aphanisis, Джонс попытался сформулировать свою теорию происхождения Супер-Эго, в

образовании которого он видел нормальный результат исхода эдипова комплекса. Тут-то он и встретил те различения, которым нам удалось придать чуть более пригодные для использования очертания. Конечно, говоря о лишении, он не может хотя бы на мгновение не заподозрить разницу между чистым лишением, которое создаёт для субъекта невозможность какого-либо удовлетворения своих потребностей, и лишением, названным им умышленным (délibérée), которое предполагает присутствие перед субъектом другого субъекта, отказывающего ему в искомом удовлетворении. Поскольку, опираясь на слабоструктурированные данные общего плана, нелегко проследить переход от одного к другому, особенно когда эти два понятия используются как синонимы, естественно, что всё чаще лишение понимается как фрустрация, как эквивалент фрустрации, и это, безусловно, облегчает процесс теоретического продвижения. Но если многое становится более простым для говорящего, это не означает облегчения для мало-мальски взыскательного слушателя.
В своей таблице я придаю термину лишение совершенно иной смысл, нежели Джонс. Лишение, о котором я веду речь, это термин, по отношению к которому занимает своё место понятие кастрации. Что касается термина фрустрации, то на встрече, предшествующей нашему перерыву в феврале, я очень подробно проработал его, чтобы вернуть присущую ему сложность. Без сомнения, того, что осталось у вас в памяти, довольно будет, чтобы увидеть, что я не использую этот термин в обобщённой форме, в том виде, в котором обычно его применяют.
Невозможно внятно сформулировать что-либо о роли кастрации без обособления понятия лишения, поскольку оно представляет собой то, что я назвал дырой реального. Вместо того, чтобы смешивать понятия, давайте, наоборот, попробуем их как следует различить. Вместо того, чтобы отпускать рыбку на волю, попробуем её подсечь. Лишение - это лишение рыбки. Это тот факт, что женщина не имеет пениса, что она его лишена. Этот факт, допущение этого факта, оказывает постоянное влияние на динамику почти каждого случая, представленного нам Фрейдом, и для мальчика это самая заметная черта, которая встречается в случаях Фрейда на каждом шагу. В основе кастрации, которую мы стараемся определить, лежит обнаружение в реальности отсутствия пениса у женщины. Именно это в большинстве случаев является решающим моментом, именно это в опыте субъекта мужского пола закладывает фундамент, на который прочно опирается вселяющее тревогу понятие лишения. Действительно, часть человеческих существ, как говорится в текстах, кастрированы. Конечно, этот термин далеко не однозначен. Они кастрированы с точки зрения субъективности субъекта. Тогда как в реальном, в реальности, в том, что называют реальным опытом, они лишены.
При изучении текстов Фрейда опыт кастрации вращается вокруг отношений с реальным. Попробуем более точно сформулировать наши мысли в этом направлении, чтобы лучше уловить, в чём тут дело, и пока что обойдёмся без обращения к клиническому опыту.
Само, настолько ощутимое и очевидное в опыте, понятие лишения предполагает символизацию объекта в реальном. Поскольку в реальном нет такой вещи, которая была бы чего-либо лишена. Всё, что есть в реальном, само по себе самодостаточно. Реальное по определению является полным. Если мы вводим в реальное понятие лишения, то лишь постольку, поскольку мы его уже в достаточной мере или даже целиком символизировали. Указать на отсутствие некоторой вещи означает предполагать её

возможное присутствие, то есть, чтобы каким-то образом покрыть реальное, углубиться в него, мы вводим простой символический порядок.
Объект, о котором в данном случае идёт речь, — это пенис. Когда мы говорим об уровне лишения, этот объект представлен для нас в символическом измерении. Тогда как кастрация, в своей действенной и подтверждённой форме связанная с возникновением невроза, касается, в соответствии со своим расположением в таблице, воображаемого объекта. Никакая кастрация, действующая в неврозе, никогда не является реальной. Она вступает в игру субъекта только в форме воздействия на воображаемый объект.
Для нас вопрос состоит в том, чтобы понять, почему, исходя из какой необходимости, кастрация вводится в типичный ход развития субъекта, где речь идёт о его присоединении к этому сложному порядку, в котором формируются отношения мужчины и женщины. Реализация человека на генитальном уровне оказывается связанной с рядом условий.
Вернёмся, как в прошлый раз, к первоначальным отношениям субъекта с матерью на этапе, который квалифицируется как доэдипальный. Мы рассчитываем на то, что сможем осмыслить этот этап гораздо лучше и подробнее, чем это обычно происходит, поскольку если авторы и берутся за эти термины, то обращаются с ними слабо и неубедительно. Мы вернёмся к этому этапу, чтобы постичь необходимость феномена кастрации в момент её появления - феномена, который завладевает этим воображаемым объектом как инструментом, символизирует долг или символическую кару и вписывается в цепочку символического.
В качестве руководства, и в том числе для того, чтобы сориентироваться относительно терминов, используемых нами ранее, я попрошу вас принять на мгновение установленную нами в прошлый раз предварительную гипотезу, на которую будет опираться наше дальнейшее изложение, - гипотезу о том, что за символической матерью располагается символический отец.
Символический отец необходим для символической конструкции, и мы не можем расположить его нигде, кроме как по ту сторону, я бы сказал, что он почти трансцендентен; в любом случае, как я вам по ходу дела уже говорил, он может быть введен лишь посредством конструкции мифической. Я часто настаивал на том, что символический отец в конечном счете нигде не представлен. И в дальнейшем нашем продвижении вы сможете убедиться, как сильно нам пригодится это положение, насколько оно ценное и полезное и каким образом оно помогает выявить в условиях сложной реальности этот драматический элемент кастрации.
Теперь мы видим в нашей таблице отца реального и отца воображаемого. Если символический отец является означающим, о котором невозможно говорить иначе, как каждый раз заново открывая его необходимость и одновременно его характер, и таким образом принимать его в качестве незыблемой данности мира означающих, то с отцом воображаемым и отцом реальным у нас возникает гораздо меньше трудностей.
Мы постоянно имеем дело с воображаемым отцом. Как правило, именно с ним связана вся диалектика агрессивности, идентификации, идеализации, посредством которой субъект получает доступ к идентификации с отцом. Всё это происходит на уровне воображаемого отца. Мы называем его воображаемым именно потому, что он включён в воображаемые отношения, формирующие психологическую подоплёку отношений подобия, которые являются, прямо говоря, отношениями видовыми и лежат

в основе как любой либидинальной захваченности, так и любого агрессивного побуждения. Воображаемый отец задействован именно в этом регистре и проявляется в его типичных персонажах. Этого устрашающего отца мы часто встречаем в глубине невротических переживаний, и он совершенно не обязательно бывает как-то связан с реальным отцом ребёнка. Мы часто видим, как в фантазии ребёнка вмешивается порой искажённая фигура отца (или матери), которая имеет весьма отдалённое отношение к реальному отцу ребёнка, но играет роль воображаемого отца на данном этапе развития.
Реальный отец - это совсем другое дело. Ребёнку крайне сложно получить о нём представление из-за вмешательства фантазий и насущности символических отношений. Так происходит с каждым из нас. Если и есть нечто, лежащее в основе всего аналитического опыта, то сводится это к огромной трудности понимания того, что вокруг нас является более реальным, то есть как увидеть людей такими, какие они есть. Вся сложность как психического развития, так и повседневной жизни сводится к пониманию, с кем же действительно мы имеем дело. Так происходит и с персонажем отца, которого при обычных условиях можно по праву считать постоянным элементом того, что называется в наше время окружением ребенка. Таким образом, я прошу вас допустить на мгновение то, что при первом знакомстве с таблицей может показаться парадоксальным, а именно то, что вопреки нормализующей или типичной функции, исполнение которой мы хотели бы приписать реальному отцу в драме Эдипа, в действительности именно ему отведена чётко прописанная роль в комплексе кастрации.
Эти выводы не делают более понятной кастрацию и то, что может показаться её случайным характером. Почему именно кастрация? Почему именно эта странная форма вмешательства в экономику субъекта называется кастрацией? В этом есть что-то само по себе шокирующее.
Нам предлагается объяснение, которое следует отклонить. Не случайно и не в силу определенных странностей в первоначальном подходе к субъекту врач обращает внимание на эти сцены раннего соблазнения, которые теперь признают более фантазматическими, чем полагалось прежде. Вы знаете, что на этом этапе мысли Фрейда он эту тему ещё не анализирует и не прорабатывает. Но в случае с кастрацией речь вовсе не идёт о воображении действия, как это происходит в фантазии со сценой раннего соблазнения. Если кастрация действительно заслуживает в истории субъекта отдельного имени, то происходит это потому, что она всегда будет связана с влиянием, с вмешательством реального отца. Вместе с тем она может быть глубоко затронута и нарушена отсутствием реального отца, и когда подобный сбой имеет место, то возникает необходимость замены реального отца чем-то другим, что оказывается глубоко невротизирующим.
Мы будем исходить из предположения о фундаментальном характере связи между реальным отцом и кастрацией, чтобы попытаться обнаружить себя в сюжетах сложных драм, которые прописал для нас Фрейд. У нас часто возникает ощущение, что он изначально имеет некоторый заранее намеченный курс, с которым, как в случае маленького Ганса, он время от времени сверяется, и мы тоже чувствуем себя хорошо сориентированными, однако без всякого понимания тех мотивов, которые позволяют нам сделать верный выбор на каждом перекрёстке.
Итак, я прошу вас принять это положение, на основании которого мы постараемся понять значение и необходимость комплекса кастрации, продолжив сейчас работу со случаем маленького Ганса.

2
Маленький Ганс с возраста четырёх с половиной лет обладает тем, что называется фобией, то есть неврозом.
За работу с этой фобией принимается его отец, который является одним из учеников Фрейда. Этот мужественный человек делает всё лучшее, на что способен реальный отец, и маленький Ганс испытывает к нему самые тёплые чувства, он очень любит своего отца, он очень далёк от того, чтобы опасаться такого насильственного акта с его стороны, как кастрация.
В дополнение к этому нельзя сказать, что маленький Ганс каким-то образом фрустрирован. Как мы видим в начале наблюдения, маленький Ганс, будучи единственным ребёнком, окружён вниманием и счастлив. Он является как объектом заботы отца, который, чтобы проявить её, определённо не дожидался фобии, так и объектом самой нежной заботы матери, которую она целиком посвящает ему. Честно говоря, для того, чтобы оправдать поведение матери, требуется та высокая степень невозмутимости, которой обладал Фрейд, потому что в наши дни на неё посыпались бы всевозможные упрёки за то, что вопреки возражениям отца и мужа, она каждое утро позволяла Гансу занимать место третьего на их брачном ложе. Дело здесь не только в особой терпимости отца, мы можем предположить, что он совершенно не принимается в расчёт, поскольку, что бы он ни говорил, всё продолжается предрешённым образом, мы не видим ни единого момента, когда упомянутая мать хотя бы на мгновение обращает малейшее внимание на вежливое замечание.
Маленький Ганс никак не фрустрирован, он действительно ни в чём не знает отказа. Хотя в начале наблюдения мы видим, что мать накладывает запрет на мастурбацию и произносит роковые слова: «Если ты будешь мастурбировать, мы позовём доктора А., который тебе его отрежет». Но у нас нет впечатления, что это могло бы быть чем-то решающим. Это не становится определяющим моментом, и ребёнок, конечно, продолжает мастурбировать. Родители достаточно хорошо это понимают, что не мешает им вести себя так, словно они не в курсе. Если даже это вмешательство и было отмечено ввиду той скрупулёзности, с которой Фрейд готовил отчёт, сам он определённо не приписывал этому моменту какого-либо решающего значения в отношении возникновения фобии. Ребёнок услышал эту угрозу, так сказать, как ему было угодно. И вы увидите, в конце концов окажется, что ребёнку больше ничего говорить и не надо, и именно это послужит материалом для образования того, в чём есть необходимость, то есть комплекса кастрации. Но нужно понять, почему он ему необходим. Это тот вопрос, к которому мы подошли, и пока мы не готовы на него ответить.
Сейчас речь идёт не о кастрации, речь идёт о фобии и о том, что мы ни в коем случае не можем здесь полагаться на её прямую и простую связь с запретом на мастурбацию. Как это чётко обозначил Фрейд, сама по себе мастурбация в этот момент никак не потревожена, ребёнок продолжает мастурбировать. Конечно, впоследствии она будет интегрирована в конфликт, который проявится в виде фобии, но она совершенно точно не является тем травматическим воздействием, которое определит его возникновение. Этот ребёнок растёт в наилучших условиях, и образование фобии вызывает вопрос, который действительно заслуживает того, чтобы быть поставленным;

и тогда мы сможем найти проясняющие сопоставления, способствующие нашим теоретическим изысканиям.
Предварительно я хочу напомнить о фундаментальной ситуации, которая касается роли фаллоса в доэдипальных отношениях матери и ребёнка.
Мать здесь является объектом любви, объектом, присутствие которого желанно. Реакция, восприимчивость к материнскому присутствию проявляется в поведении ребёнка очень рано. Это присутствие очень быстро формирует пару присутствия-отсутствия, от образования которой мы отталкиваемся. Это наиболее простая форма отношений, которую мы можем предположить, и если в дальнейшем возникли трудности по поводу первого объектального мира ребёнка, то появились они в силу неудовлетворительной проработки самого понятия объект. Для ребёнка существует первичный объект, который мы в рамках нашего подхода ни в коем случае не можем рассматривать как сконструированный идеальным образом, то есть в мысли. Я был не первым, кто усомнился в том, что мир ребёнка определяется лишь полным, на грани растворения, примыканием к органу, который его питает. Например, работа Алисы Балинт и вся её артикуляция призваны совершенно иначе, хотя, как мне кажется, и менее чётко сформулировать то же самое, что говорю вам я, а именно, что факт существования матери ещё не означает, что уже произведено различение на я и не-я.
Мать существует как объект символический и как объект любви. Это подтверждается в опыте и отражается в позиции матери, которую она занимает в таблице. Изначально мать является матерью символической, и она начинает себя реализовывать как таковая только в условиях кризиса фрустрации вследствие определённых потрясений и особых обстоятельств, возникающих в её отношениях с ребёнком. Мать как объект любви может в любой момент стать матерью реальной, поскольку она фрустрирует эту любовь.
Отношения ребенка с матерью, отношения любви, открывают дверь тому, что обычно ошибочно формулируют как недифференцированные первые отношения. Что в действительности происходит на первом конкретном этапе отношений любви, которые создают основу для появления возможности удовлетворения ребёнка вместе с тем значением, которое оно несёт? Дело в том, что ребёнок сам вовлечён в отношения в качестве объекта любви матери. Дело в том, что он понимает, что приносит матери удовольствие. Это одно из базовых переживаний ребёнка, он знает, каким бы незначительным его присутствие ни было, обуславливает ли оно присутствие той, в которой он нуждается, является ли он сам причиной её присутствия и заботы, приносит ли он сам любовное удовлетворение. Короче говоря, основополагающим для ребёнка является быть любимым, geliebt werden, на этой почве развиваются отношения между ним и матерью.
Как я уже говорил, факты ставят перед нами вопрос: каким образом ребёнок постигает, что именно значит он для матери? Как вы знаете, наше основное предположение заключается в том, что он не одинок. Мало-помалу в опыте ребёнка формируется нечто, указывающее на то, что для матери он не единственный. Вокруг этого пункта сложится вся диалектика развития отношений матери и ребёнка.
Наиболее распространённой является ситуация, которая заключается в том, что он не один, потому что есть другие дети. Но наше основное предположение опирается на другое условие, которое является радикальным, постоянным и независящим от случайных исторических подробностей, то есть от присутствия или отсутствия других

детей. Дело в том, что в разной степени, которая зависит от обстоятельств, мать сохраняет Penis-neid, зависть к пенису. Ребёнок может её более или менее компенсировать, но в любом случае этот вопрос остается. Обнаружение фаллической матери со стороны ребёнка и выявление Penis-neid, зависти к пенису со стороны матери строго соположены проблеме, которой мы занимаемся.
Однако расположены они не на одном уровне. Если я выбрал отправиться из одного определённого пункта, чтобы достичь другого определённого пункта, оттолкнуться от доэдипальной стадии, чтобы прийти к Эдипу и комплексу кастрации, то именно потому, что мы должны причислить Penis-neid, зависть к пенису к фундаментальным величинам аналитического опыта и постоянно учитывать её участие в отношениях матери и ребёнка. Опыт подтверждает, что нет иного пути осмысления перверсий. Вопреки общепринятому мнению, они не объясняются целиком и полностью доэдипальной стадией, несмотря на то что обусловлены её опытом. Именно в отношениях с матерью ребёнок обнаруживает фаллос в фокусе её желания. И старается различными способами расположить себя в позиции приманки для этого материнского желания.
Именно об этом я говорил на встрече, на которую ссылался чуть выше. Ребёнок в различных вариациях предлагает себя матери, как если бы он сам представлял собой фаллос. Он может идентифицировать себя с матерью, идентифицировать себя с фаллосом, идентифицировать себя с матерью как обладательницей фаллоса или представить себя обладателем фаллоса. Здесь достигается высокая степень не абстракции, но генерализации воображаемых отношений, которую я называю заманивающей (leurrante), так ребёнок заверяет мать, что может дополнить её не только в качестве ребёнка, но и в том, что касается её желания, то есть в том, что касается её нехватки. Эта ситуация определённо является структурообразующей, поскольку именно вокруг неё формулируется отношение фетишиста с его объектом и распределяются все промежуточные вариации, в которых он может войти в такие сложные и многообразные отношения, где только анализ смог расставить акценты касательно трансвестизма. Что касается гомосексуальности, то это отдельный случай, поскольку она предполагает потребность в объекте, в реальном пенисе, принадлежащем другому.
В какой момент нечто кладёт конец таким образом поддерживаемым отношениям? Что положило им конец в случае маленького Ганса?
3
В начале наблюдения нас настигает вспышка озарения, чудесное ощущение, которое всегда сопровождает случившееся внезапно открытие, и мы видим ребёнка, полностью вовлечённого в такие отношения, где фаллос играет наиболее очевидную роль.
Заметки отца о развитии ребёнка до часа N, когда начинается фобия, подтверждают это. Мы узнаём, что ребёнок постоянно размышляет о фаллосе, он подробно изучает вопрос наличия фаллоса у матери, потом у отца, потом у животных. Речь ведётся только о фаллосе. Если мы прислушаемся, то фаллос действительно является принципиально значимым, центральным объектом организации его мира. Постараемся осмыслить текст Фрейда.

Так что же изменилось, несмотря на то что в жизни маленького Ганса ничего критичного не происходит? Меняется то, что его пенис становится чем-то по-настоящему реальным. Его пенис начинает возбуждаться, и ребёнок начинает мастурбировать. Важным элементом становится не столько вмешательство матери в этот момент, сколько то, что пенис становится реальным. Это основополагающий факт наблюдения. В свете чего нам стоит задаться вопросом, нет ли здесь связи между сим фактом и тем, что появляется после, то есть тревогой.
В этом семинаре я ещё не подходил к вопросу тревоги, потому что нужно делать всё по порядку. Как осмыслить тревогу, которая, как вы знаете, является постоянным вопросом, которым Фрейд занимается на всём протяжении своей работы? Я не буду пытаться сформулировать в одной фразе весь путь, проделанный Фрейдом, ограничусь только тем, что тревога как механизм представлена на каждом этапе его мысли, тогда как её концептуализация появится позже.
Как мы должны подойти к осмыслению тревоги, о которой в данном случае идёт речь? Как можно ближе к её проявлениям. Я прошу вас на мгновение прибегнуть к способу, в котором нужно немного подключить воображение, и вы увидите, что тревога, проявляющая себя в этих исключительно мимолётных отношениях, возникает каждый раз, когда субъект, как бы незаметно это ни происходило, отрывается (décollé) от своего существования и обнаруживает себя в плену того, что вы в зависимости от обстоятельств называете образом другого, искушением и т.д. В общем, тревога коррелирует с моментом выпадения из временной последовательности, когда субъект оказывается подвешенным между мгновением утраты представления о себе и следующим мгновением, когда он станет чем-то другим и больше никогда не сможет себя найти. Вот это и есть тревога.
Не замечаете ли вы, что она появляется здесь в момент, когда у маленького Ганса в форме влечения в прямом его смысле, в котором оно связано со словом импульс, возникает возбуждение реального пениса? В тот момент, когда то, что долгое время было для него раем, начинает проявлять себя как ловушка, игра, в которой он не является тем, кто он есть, но старается быть для матери всем тем, чего желает мать.
Конечно, я не могу рассказать обо всём за один раз, сейчас мне достаточно показать вам, что здесь всё изначально зависит от того, чем реально является ребёнок для матери. И мы постараемся сразу произвести некоторое различение и постараемся подойти поближе к пониманию того, что представлял собой Ганс для своей матери. Мы останемся пока на этом пункте, который имеет решающее значение и позволяет взглянуть на общее положение вещей.
До некоторых пор ребёнок находится в раю отношений, основанных на игре в приманку. Разве это не приносит ему удовлетворение? Ничто не мешает ему получать удовлетворение и очень долго вести эту игру. Ребёнку для счастья нужно мало, даже очень мало, и когда он старается заслужить любовь матери, ему это удаётся, поскольку достаточно одного намёка, каким бы тонким он ни был, чтобы поддержать эти столь трепетные отношения. Но как только вмешивается его влечение, заявляет о себе реальный пенис, тотчас случается то выпадение (décollement), о котором я только что говорил. Одураченный в своей собственной игре, он попадает в собой же поставленную ловушку, сталкиваясь с огромной разницей между воображаемым удовлетворением и чем-то реальным, представленным в своей наличности, cash, если можно так сказать. Так не может не произойти не только потому, что ребёнок в своих попытках соблазнения

по тем или иным причинам терпит неудачу или мать, например, ему отказывает. Решающую роль играет тот факт, что то, что он в конечном счёте может матери предъявить - этому есть тысячи подтверждений в аналитическом опыте - оказывается крайне жалким. Ребёнок оказывается перед перспективой стать пленником, жертвой, пассивным участником игры, в которой он становится жертвой подаваемых Другим знаков. В этом заключается дилемма.
Я говорил об этом в прошлом году - именно к этому положению я подверстал происхождение паранойи. Как только игра начинается всерьёз и в то же время остаётся лишь игрой в приманку, ребёнок становится полностью обусловленным тем, на что указывает ему партнёр. Любые проявления со стороны партнера становятся знаками, подтверждающими его состоятельность или несостоятельность. Когда ситуация развивается в этом направлении, то есть, когда в силу Verwerfung, отбрасывания, не происходит вмешательство фигуры символического отца, в необходимости которой мы на конкретном материале убедимся в дальнейшем, ребёнок располагается в совершенно особой, открытой глазу и взгляду Другого позиции. Но оставим вопрос паранойи на будущее. Для субъекта иной структуры ситуация буквально безвыходная, или же выходом из неё становится то, что мы называем комплексом кастрации. Я подошёл к тому, чтобы показать вам, в чём он состоит.
Комплекс кастрации на чисто воображаемом уровне вбирает в себя всё, что имеет дело с фаллосом, и именно поэтому реальный пенис следует вывести из игры. Вмешательство отца вводит символический порядок с его защитными мерами и главенством закона, то есть ситуация выходит из-под контроля ребёнка и регулируется вне его. С отцом единственным шансом на выигрыш будет принять существующее распределение ставок. Символический порядок вторгается в план воображаемого. Не случайно объектом кастрации является воображаемый фаллос, находящийся в каком-то смысле вне реальной пары. Тем самым устанавливается порядок, внутри которого ребёнок сможет ожидать дальнейшего развития событий.
Это может показаться вам несколько упрощённым решением проблемы. Это не решение, но краткое замечание, переброшенный мостик. Если бы это не было настолько простым, если бы это не было лишь переброшенным мостиком, то его и не было бы нужды перебрасывать. Тот пункт, в котором мы расположились сейчас,интересен нам именно потому, что, когда его достиг маленький Ганс, с ним ничего подобного не произошло.
С чем сталкивается маленький Ганс? Он оказывается в точке встречи реального влечения с воображаемой игрой в измерении фаллической приманки, и происходит это в отношениях с матерью. Учитывая, что это невроз, что возникает в этот момент? Вы не удивитесь, если услышите, что возникает регрессия.
Я всё же предпочел бы, чтобы вас это удивило, поскольку на последней перед каникулами нашей встрече, когда мы говорили о фрустрации, я придал этому термину строгое значение. Я говорил тогда, что, испытывая недостаток присутствия матери, ребёнок компенсирует это удовлетворением от пищи. Точно так же регрессия происходит в момент, когда ребёнок испытывает смятение, обнаружив, что давать то, чем он располагает, оказывается недостаточно. Происходит то же самое короткое замыкание, которым удовлетворяется первичная фрустрация, когда ребёнок, прильнув к груди, пытаясь избежать всех проблем, решает проблему разверзающегося перед ним зияния, то есть участи быть поглощённым матерью.

Одновременно это и то первое обличье, которое принимает в случае нашего маленького приятеля фобия. Хотя объектом фобии и становится лошадь, это лошадь, которая кусает. Так или иначе тема поглощения всегда обнаруживается в структуре фобии.
И всё на этом? Конечно, нет, поскольку имеет значение, кто кусает и кто пожирает. Мы не можем объяснить всё сразу. Каждый раз, когда мы имеем дело с рядом фундаментальных отношений, необходимо оставить некоторые вещи за скобками, чтобы что-то, напротив, сформулировать более ясно. Определённо можно сказать, что объекты фобии, в частности животные, даже при самом поверхностном наблюдении обнаруживают метку исконной принадлежности порядку символического. Например, не только опасность, но и сама возможность встречи со львом в стране, в которой живёт ребёнок, не является обычным делом. Волк и жираф тоже представляют собой объекты довольно специфические, среди которых лошадь исключительно точно представляет категорию означающих, по самой своей природе однородных тем, что встречаются на гербах. Именно на это опирается аналогия, проведённая в Тотеме и табу между отцом и тотемом. На самом деле эти объекты выполняют особую функцию, призванную заместить собой означающее символического отца.
Мы не понимаем до конца, что из себя представляет это означающее, но стоит задаться вопросом, почему оно возникает в той или иной форме. В том, с чем мы сталкиваемся, обязательно остается нечто, данное просто как факт, как несводимый к чему-то иному положительный опыт. Я предлагаю вам не окончательные выводы, но аппарат, необходимый для осмысления нашего опыта. Также мы здесь не для того, чтобы заниматься вопросом, почему объект фобии принимает форму такого животного. Дело не в этом.
4
Я попрошу вас в следующий раз принести с собой текст случая маленького Ганса. У вас не останется сомнений в том, что это фобия, но, если можно так выразиться, фобия в разработке. Родители обратили на неё внимание, как только она появилась, и отец не прерывал наблюдение до момента её прекращения.
Я бы хотел, чтобы вы прочитали этот текст. Вы получите массу разнообразных впечатлений, и у вас будет множество возможностей испытать ощущение полной растерянности. Тем не менее я бы хотел, чтобы те из вас, кто решится подвергнуть себя этому испытанию, сказали мне в следующий раз, не показался ли им поразительным один контраст.
На начальном этапе мы видим, как маленький Ганс пребывает в разнообразных, весьма романтических фантазиях по поводу отношений с теми, кого он принимает в качестве своих детей. В развитии этой воображаемой темы он проявляет большую раскованность. Это является продолжением игры в приманку с матерью. Здесь он совершенно свободно чувствует себя, потому что занимает позицию, в которой замешана идентификация с матерью, поскольку речь идёт об усыновлении детей и различных формах любовных отношений, которые он фиктивно разыгрывает с необыкновенной лёгкостью. Он действительно воспроизводит полную гамму возможных связей: от более близких ухаживаний за маленькой девочкой, дочерью

хозяев дома, где остановилась его семья на каникулах, до любви на расстоянии к другой маленькой девочке.
Этот эпизод контрастирует с тем, что происходит после вмешательства отца. Под действием более или менее направленного аналитического расследования отца ребёнок переносит себя в действие фантастического романа, в котором на много лет раньше своего рождения, в коляске, в экипаже, на лошадях присутствует его младшая сестра. Короче говоря, отчётливо проступает соответствие между тем, что я назвал бы оргией воображения в процессе анализа, и вмешательством реального отца.
Если фобия получает наиболее удовлетворительное лечение - и мы увидим, что означает это наиболее удовлетворительное лечение в случае фобии - то происходит это за счёт вмешательства реального отца, который так мало вмешивался до сих пор, и тем не менее смог это сделать лишь потому, что был поддержан Фрейдом как отцом символическим. Но по мере вмешательства отца всё то, что стремилось кристаллизоваться в качестве своего рода преждевременного реального, возвращается в радикальное воображаемое, радикальное настолько, что мы уже не вполне отдаём себе отчёт, где находимся. Мы постоянно спрашиваем себя, не высмеивает ли маленький Ганс всех вокруг. Он, безусловно, располагает тонким чувством юмора, поскольку речь идёт о воображаемом, которое ведёт игру, чтобы реорганизовать мир символического.
Ясно одно: исцеление наступает в момент, когда в самой отчетливой форме, в форме артикулированной истории, даёт о себе знать кастрация как таковая. Я говорю об истории о так называемом водопроводчике, который приходит, отвинчивает ему один предмет и привинчивает другой. Именно на этом заканчивается отчёт о наблюдении. Из этого можно заключить, что разрешение фобии связано с констелляцией триады: воображаемая оргия, вмешательство реального отца, символическая кастрация.
Реальный отец, к которому мы в следующий раз вернемся, появляется в весьма жалком облике, хотя ему всячески помогает и подставляет плечо отец символический. Фрейд вынужден повторять всё время: «Это лучше, чем ничего, надо было дать ему говорить». Но главное - вы найдёте это внизу одной из страниц - «не спешите понимать слишком быстро». Отец, досаждая ребенку вопросами, идёт по ложному пути. Но это неважно. Результат его вмешательства складывается из следующих двух пунктов: воображаемая оргия Ганса и осуществление полностью артикулированной кастрации в форме замены реального на что-то более красивое и большое. Осуществление кастрации кладёт фобии конец и выявляет если не цель её, то нечто такое, что фобия призвана была восполнить.
Как вы понимаете, это лишь промежуточный пункт моего изложения, я хотел только показать вам, как расширяется спектр вопросов. В следующий раз мы вернёмся к диалектике отношений матери и ребёнка и займёмся выявлением значения, истинного смысла комплекса кастрации.
13 марта 1957

глава 14 Означающее в реальном
Сеть в Украденном письме
Совсем один с Мариель Метонимический ребёнок Чернота у рта Фобия структурирует мир
Я хотел бы начать с уточнений касательно моей статьи под названием Семинар об Украденном письме, опубликованной во втором номере журнала La Psychanalyse, и особенно вступления к ней.
У некоторых из вас нашлось время её прочитать и изучить более пристально. Я благодарен тем, кто посвятил себя этой работе, за их внимание. Надо думать, однако, что вспомнить о контексте воспроизведённых в этом вступлении рассуждений будет для многих непросто, поскольку, пытаясь их понять, они могут впасть в ту же ошибку, что и некоторые из тех, кто слушал меня тогда. Иные решили, к примеру, что я отрицаю случайность. Я затронул этот вопрос в самом тексте и не стану больше к нему возвращаться.
Сейчас я хочу прояснить, в чём тут дело.
1
Будет нелишним напомнить вам исходные положения.
Случайным образом мы выбираем знаки + и - и располагаем их тройками во временной последовательности. Мы обозначаем эти тройки цифрами 1, 2 и 3, в зависимости от того, образованы ли они одинаковыми знаками +++, - - - (1), или с чередованием + - +, - + - (3), или в какой-то другой последовательности, ++ - или - - + (2), которая в первом приближении отличается от предыдущих отсутствием симметрии. Я назвал этот последний порядок непереводимым на французский язык термином odd, как то, что сразу же бросается в глаза своей нечётностью, нескладностью. Это лишь вопрос обозначения - достаточно их вот так, условно, обозначить, чтобы возник символ. Несмотря на то, что, возможно, это прописано в моём тексте в настолько сжатой форме, что у некоторых возникли трудности в понимании, тем не менее контекст не оставляет места для двусмысленности и для возможности понять это определение как-то иначе, нежели в качестве изначально принятой договорённости.
Далее мы задаём значения а, в, Y, 5. Это новая серия символов, которые выводятся из предыдущей. Эта операция основана на том, что, если известны два крайних термина второй серии, средний термин определяется однозначно. Таким образом мы вводим знак, который охарактеризует последовательность пяти знаков первого порядка + -. Переход от симметричного к симметричному, то есть от 1 к 1, от 1 к 3, и от 3 к 1, обозначим а. От odd к odd будет y. От симметричного к odd обозначим в и от odd к симметричному будет 5. Таковы наши условные обозначения.
Таким образом, мы можем построить сеть в виде параллелепипеда, организованного векторами. Кое-кто из наиболее тщательно и компетентно изучивших вопрос смог до этого дойти.

| СЕТЬ |
|---|
 |
Нужно, чтобы сеть была ориентирована векторами именно так, как показано на рисунке. а может бесконечно себя воспроизводить, что невозможно в других пунктах, если только это не обозначено специальной петлёй. В общем, эта сеть исчерпывающим образом представляет все последовательности, которые только возможны. Нет серии, которая бы не укладывалась в эту сеть.
Почему я не включил это в свой текст? Прежде всего потому, что я не говорил о нём здесь. Это простой вычислительный контрольный аппарат для того, чтобы иметь дело с проблемой целиком и быть уверенным, что все возможные решения приняты в расчёт. Смысл в том, чтобы под рукой всегда был надёжный инструмент, с помощью которого при любом возникающем в этой серии затруднении можно было бы проверить, не упустили ли вы одно из возможных решений и не совершаете ли ошибку.
Я подошёл к спорному моменту. Вы видите, что в сети есть два вида в и два вида 5. Если вы посмотрите на таким образом обозначенные вершины, вы заметите дихотомическое разделение векторов в каждой из них. Из 5 есть два исходящих вектора - от одного вида 5 к другому 5 или к Y, в то время как от другого вида 5 мы приходим к в или к а. Второй пример - от одного типа y движение возможно к а или в, от другого y к y или 5.
По поводу такого обозначения функциональной вариативности некоторые приводят следующее возражение. По их мнению, было бы лучше обозначить вершины с помощью восьми разных букв вместо того, чтобы применить две одинаковые четвёрки, или ввести а и а с индексом 2. Меня упрекнули в том, что символ недостаточно ясно и чётко задан, и своим изложением я только усложняю понимание механизма. В этом случае игра символов, провоцирующая появление из себя самой внутреннего закона, который всегда предполагается введением символа, вышла бы за пределы первоначального условия, то есть утратила бы характер чистой случайности. Именно здесь у некоторых возникает недопонимание. Полагаю, мне нужно это место разъяснить.
В некотором смысле всё именно так. Можно сказать, что выбор символов действительно изначально вводит определённую двусмысленность, задача которой попросту указать на странность, oddity, то есть асимметрию, хотя в силу наличия временной последовательности ориентация задана и не одно и то же, следует ли 1 за 2

или наоборот. Смешение их ввело бы в сам символ двусмысленность, тогда как, различая их, можно выразиться яснее.
Теперь дело в том, чтобы понять, что упомянутая ясность значит. Имейте в виду: то, что вы зовёте двусмысленностью, и надо как раз почувствовать. Символ, будучи плюсом, подразумевает минус. Символ, будучи минусом, подразумевает плюс. По мере нашего продвижения двусмысленность возникает всегда, и я делаю минимально возможный шаг, группируя символы по тройкам. Если я не разъяснил это по ходу статьи, то произошло это по той причине, что я собирался лишь напомнить вам контекст, в котором было представлено украденное письмо. Попробуйте осмыслить этот минимальный шаг, потому что именно в измерении сокрытой в символе двусмысленности проявляется то, что я называю законом.
Что бы в самом деле произошло, если бы мы пренебрегли этим шагом и обозначили четыре вершины иначе, например: £, Z, П, 0? Мы получили бы другие, чрезвычайно сложные последовательности, поскольку имели бы дело с восьмью терминами, каждый из которых составлял бы пару с двумя другими в соответствии с далеко не очевидным сразу порядком. Вот почему были выбраны неоднозначные символы, которые ставят в пару одну вершину а с другой вершиной, обозначенной также а, хотя она действительно исполняет другие функции. Группируя их таким образом, можно увидеть простую закономерность, которую я представил вам в одной из схем текста.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
а, б а, б
--» а, б, у, Р ----» ----
V, Р V, Р
1-ыйтакт 2-ой такт 3-ий такт
Эта схема позволяет сказать, что если в первом и втором такте символы могут быть любыми, то в третьем возникает дихотомия: из а или 5 в первом такте нельзя получить Y или 5 в третьем, а из y или в нельзя, соответственно, получить а или в.
В моём тексте я указал на определённые последовательности, которые интересны тем, что делают очевидными другие комбинации этой же формы, свойства и синтаксические закономерности, которые выводятся из этой предельно простой формулы. Я постарался сделать их более метафоричными, чтобы они помогли осмыслить означающее в качестве истинного организатора самой сути человеческой памяти. Эта последняя, всегда включающая в свою ткань некоторые элементы означающего, структурирована принципиально иначе, нежели витальная память, целиком опирающаяся на хранение или стирание какого-либо впечатления. Как только мы внедряем означающее в реальное, что происходит сразу же, как только мы начинаем говорить или просто считать, всё, что оказывается зафиксировано в памяти, структурируется принципиально иначе, чем предполагает теория памяти, опирающаяся исключительно на витальные впечатления.
Это то, что я пытаюсь показать, в данном случае метафорически, когда говорю о будущем в прошедшем (futur antérieur) и располагаю после третьего такта четвёртый. Примите этот четвёртый такт в качестве пункта назначения. В этом месте может оказаться любой из четырёх символов, поскольку четвёртый такт исполняет ту же

функцию, что и второй. Выбор одного из четырёх символов в этом пункте приведёт к определённым исключениям во втором и третьем тактах, что помогает представить себе конкретное значение ближайшего будущего времени (futur immédiat) в тот момент, когда оно становится по отношению к цели, окончательному плану, предшествующим будущим (futur antérieur). Тем фактом, что некоторые означающие элементы становятся поэтому заведомо невозможными, я могу метафорически проиллюстрировать функцию, которую можно приписать тому, что я назвал бы в данном случае невозможным означающим, caput mortuum означающего.
Поверьте, я предпринял этот своего рода математический экскурс не для того, чтобы обнаружить полную свою некомпетентность. Вы ошибаетесь, полагая, что это так. Прежде всего, я об этом не только вчера задумался. Затем я попросил проверить моё построение математика. Не думайте, что эти уточнения содержат хоть малейший хрупкий и ненадёжный элемент.
На этом я прервал своё изложение. Но поскольку некоторые могут придраться ко мне, указывая на обманчивость впечатления, будто тайна полностью исчезает, если в расположении вершин представленной мной параллелепипедной конструкции можно выявить закономерности, и притом при детальном рассмотрении довольно простые, мне хочется подчеркнуть, что дело не в этом. Вот почему я предлагаю вам на мгновение сосредоточиться на понятии, которое легко вам покажет, что как только появляется графическое, возникает орфографическое.
Я собираюсь тотчас продемонстрировать это другим способом, который может быть для вас более доказательным и никак не будет противоречить тому, что я уже сказал.
Я отталкиваюсь от той же гипотезы, которая, в отличие от обыденного словоупотребления, оперирует упрощёнными определениями и предпосылками, которые из неё следуют. Я вновь буду исходить из последовательности типа odd, не делая поначалу - как я действительно, на что мне указывали, мог поступить - различия между odd с двумя безударными стопами в начале и odd с двумя безударными стопами в конце, между, иными словами, анапестом и дактилем, ибо суть как раз в том, чтобы исходить в своих выводах из действительно рудиментарных определений, исключающих всяческие интуитивные элементы, и прежде всего тот особенно поразительный из них, что основан на ритмическом членении и в каком-то смысле задействует тело. Мы не вступаем здесь в область поэзии, мы лишь вводим понятие симметрии и асимметрии. Я вам объясню, почему идея ограничить происхождение первого означающего этим строго заданным элементом кажется мне интересной.
Возвращаясь к своей таблице, я предлагаю вам рассмотреть, что происходит в шестом такте.
В него могут вписаться а, в, Y, 5. Вы видите чрезмерное количество возможных вариантов. Мы действительно располагаем всеми возможными символами на двух уровнях. Но что обнаруживается в первом же приближении? Если в качестве конечного пункта вы выбираете некоторую букву в пятом такте, например, букву в, и принимаете в качестве отправной точки другую букву, например, букву а, то есть собираетесь получить такую серию, в которой в первом такте было бы а, а в пятом такте было бы в, вы тотчас обнаружите, что в третьем такте точно не может быть ни y, ни другого элемента этой же строки, поскольку, коль скоро вы начинаете с а, то на третьем такте вам остаётся только то, что выше линии разделения, то есть а или в. В четвёртом такте вы можете получить

а, в, Y, 5. Но что У вас должно быть в третьем такте, чтобы вы могли получить в пятом такте в? Нужно, чтобы у вас в третьем такте была буква а.
Из этого следует, что если вы намечаете серию, в пятом такте которой должны появиться две определённые буквы, то промежуточная буква в третьем такте однозначно определена.
Я бы мог продемонстрировать и другие поразительные свойства, но пока остановлюсь на этом в надежде, что оно прояснит для вашего осмысления то измерение, о котором идёт речь. Результатом этого свойства является то, что если вы возьмёте любое звено в цепи, то вы сразу же можете удостовериться со всей очевидностью -такую же проверку осуществляет типограф - есть ли ошибка, сверившись с элементом, расположенным в последовательности двумя тактами до и двумя тактами после. В центре, между ними, может оказаться только одна возможная буква. Другими словами, возникновение буквенной графики, возможности написания в тот же момент порождает орфографа, то есть возникает возможность проконтролировать правописание.
Вот для чего сконструирован этот пример. Он показывает вам, что с момента появления означающего уже на его наиболее элементарном уровне, вне зависимости от любого реального элемента, заявляет о себе закон. Это совершенно не означает упорядочивания случайности, но говорит о том, что вместе с означающим, независимо от любого опыта, появляется и закон. Вот что были призваны продемонстрировать вам все эти операции с буквами а, в, Y, 5.
Похоже, в некоторых умах эти положения вызывают большое сопротивление. Тем не менее они кажутся мне более простым способом дать почувствовать определённое измерение, чем, к примеру, рекомендовать работы Месье Фреге, учёного, жившего в нашем веке, который посвятил себя изучению, казалось бы, самых простых основ математики, то есть арифметики. Он посчитал необходимым сделать существенные и убедительные обращения к таким вещам, которые тем более трудны для понимания, чем более просты, чтобы показать, что нет никакой возможности вывести число три, опираясь только на опыт. Это, конечно, приводит к необходимости ряда философских и математических операций, испытанию которыми я не чувствовал нужды вас подвергать.
Тем не менее это очень важно для нас, поскольку если вопреки тому, в чём мог бы быть убеждён Месье Юнг, никакой опыт переживания не может предоставить нам доступа к числу три, то из этого определённо следует, что символический порядок, будучи отличным от реального, врезается в реальное, как плуг, и вводит в него особое измерение. И поскольку мы, другие аналитики, работаем в этом измерении речи, мы должны принимать в расчёт оригинальность его происхождения. Вот о чём идёт здесь речь.
Честно говоря, я боюсь вас утомить и попробую объяснить по-другому. Я расскажу вам об идее, посетившей меня. Она более понятна интуитивно, хотя менее точна в своём выражении.
Эта мысль возникла у меня, когда я был в замечательном зоопарке в шестидесяти километрах к северу от Лондона. Звери живут там в наиболее свободных условиях, ограждения скрыты в глубине специальных рвов. Я наблюдал за львом в окружении трёх великолепных львиц, они хорошо ладили и пребывали в самом умиротворённом настроении. И я спросил себя, в чём причина такого взаимопонимания между этими животными, ведь, судя по тому, что нам о них известно, следовало бы ожидать других проявлений в виде вспышек соперничества и конфликтов. Мне не показалось, что я

слишком далеко отклонился от линии своего размышления, когда ответил себе: «Ну просто лев не умеет считать до трёх».
Да-да, именно потому, что лев не умеет считать до трёх, львицы не испытывают друг к другу ни малейшего чувства ревности, по крайней мере, заметных его проявлений. Оставлю вас над этим поразмыслить. Другими словами, мы ни в коем случае не должны пренебрегать участием означающего, чтобы понять нечто, возникающее всякий раз, когда мы оказываемся перед проявлением нашего главного объекта в анализе, а именно когда мы встречаем реальность конфликта в отношениях между людьми.
Мы можем пойти ещё дальше и сказать, что в конечном итоге конфликт возникает именно потому, что люди научились считать ненамного лучше львов, именно потому, что они лишь сформулировали цифру три, но так и не смогли её полностью усвоить. Основополагающие для животного мира двойственные отношения продолжают превалировать в определённой области, в воображаемом, и именно в той мере, в какой человек всё же умеет считать, в конечном счете происходит то, что мы называем конфликтом. Если бы не было так сложно артикулировать число три, не было бы этого дар между доэдипальным и эдипальным, который мы пытаемся преодолеть как только можем, используя всевозможные маленькие верёвочные лестницы и другие ухищрения. В действительности речь идёт лишь о том, чтобы понять, что любая попытка этот разрыв преодолеть приведёт нас лишь к изобретению новых ухищрений. Нет никакой возможности на действительном опыте преодолеть дар между двумя и тремя.
Именно в этом пункте мы с вами остановились в случае маленького Ганса.
2
Мы оставили маленького Ганса, когда он собирался совершить переход, называемый комплексом кастрации.
Очевидно, что изначально он от него далёк, поскольку играет с Wiwimacher, который находится то здесь, то там - то у его матери, то у большой лошади, то у маленькой лошади, то у его папы, то у него самого. Мы видим, что Wiwimacher для маленького Ганса представляет собой не что иное, как замечательный предмет для игры в прятки, который к тому же доставляет удовольствие.
Надеюсь, что некоторые из вас обратятся к тексту и смогут убедиться в том, что именно об этом идёт речь. Конечно, не без участия родителей этот ребёнок оказывается поначалу перед проблематикой воображаемого фаллоса, который везде и нигде. Такой фаллос является принципиальным элементом отношений ребёнка с тем, кого Фрейд называет в этот момент другой персоной, а именно с матерью.
Вот где оказывается Ганс, и кажется, что всё идёт прекрасно, Фрейд это подчёркивает как заслугу мягкого, либерального подхода к воспитанию, характерного для педагогики, которая на первых порах существования психоанализа выглядела такой естественной.
Ребёнок растёт свободно и счастливо. Так вот, в таких прекрасных обстоятельствах и ко всеобщему удивлению возникает то, что мы без излишней драматизации называем небольшим недоразумением, - фобия. В какой-то момент этот ребёнок начинает испытывать страх перед особого рода объектом - лошадью, которая уже появлялась в тексте метафорически, когда ребёнок говорил своей матери: «Если у тебя есть

вивимахер, то он должен быть таким же большим, как у лошади». Факт того, что образ лошади появился на горизонте, уже указывает на предварительную стадию фобии у ребёнка.
Чтобы уловить метафорический смысл случая маленького Ганса, нам нужно понять, каким образом ребёнок переходит от таких простых, таких счастливых, так ясно выстроенных отношений к фобии.
Где бессознательное? Где вытеснение? Похоже, что нигде. Ведь он совершенно свободно задаёт вопросы отцу и матери о присутствии или отсутствии вивимахера, он задаёт их в зоопарке, где видит льва с большим вивимахером. Вивимахер играет роль, актуальную по многим не обозначенным в самом начале наблюдения, но очевидным впоследствии причинам. Некоторые из его игр хорошо показывают, что ребёнок получает большое удовольствие от обнажения и демонстрации себя. Символическая сущность вивимахера даёт о себе знать, когда маленький Ганс обнажает его в темноте -показывает его, но как скрытый объект. Также он использует вивимахер как промежуточный элемент в отношениях с объектами своего интереса, то есть маленькими девочками, когда просит их о помощи и выставляет его напоказ. В тексте случая подчёркнуто, что помощь, которую оказывают в этой связи мать и отец, играет наиболее важную роль в появлении интереса ребёнка к своим половым органам, откуда возникает игра для привлечения внимания и даже ласки со стороны некоторых людей из его окружения.
Чтобы составить представление о гармонии, которая предшествует фобии, отметим, что в воображаемом плане маленький Ганс проявляет все наиболее типичные установки того, что, грубо говоря, называется мужская агрессия. Это проявляется в играх с маленькими девочками во дворе, которые бывают двух видов: есть маленькие девочки, которых он зажимает и притесняет, и есть другие, в отношениях с которыми он соблюдает дистанцию, Liebe per distanz. Это два очень разных вида отношений, уже очень замысловатых, я бы сказал, очень цивилизованных, упорядоченных, культурных. Фрейд использует этот последний термин, когда описывает, каким образом маленький Ганс проводит различие между своими объектами - он не обращается с маленькими девочками, дочерями домовладельца, так же как с культурными дамами его мира. Короче говоря, здесь наблюдается удачный выход к тому, что можно назвать переносом - к перенаправлению чувств к матери на другие женские объекты - развитие, облегчённое, объясняют нам, открытыми, диалогическими отношениями, не воспрещающими никакие формы выражения чувств в отношениях между матерью и ребёнком.
Что происходит в этих обстоятельствах? До настоящего момента я перескакивал от одного эпизода к другому, займёмся теперь вопросом последовательно, критически рассматривая материал наблюдения шаг за шагом.
Я полагаю, что не искажаю текст, подчёркивая для вас деталь, которая никогда не была прокомментирована и которая уже сама по себе является знаком структуризации, сокрытой в глубине отношений матери и ребёнка, где возникает кризис, когда в ситуацию вмешивается реальный пенис. Ребёнку снится, что он с Мариель, одной из своих маленьких подруг, с которой он виделся летом на станции Атриш в Гмундене, и он рассказывает своё сновидение. Когда отец в присутствии Ганса пересказывает этот сон матери и говорит о том, что он был с маленькой девочкой, Ганс делает прекрасное уточнение - не с Мариель, а совсем один с Мариель, ganz allein mit der Mariedl. Как и

многие другие элементы наблюдений, от которых попросту отмахиваются на основании того, что это всего лишь детские истории, эта реплика имеет важное значение. Фрейд чётко говорит о том, что всё имеет значение. Эта реплика может быть осмыслена только в воображаемой диалектике, которая, как я вам показал, изначально присутствует в отношениях ребёнка и матери. Это случается, когда Гансу три года и девять месяцев, за три месяца до рождения младшей сестры. Не просто с Мариель, но совсем один с Мариель, то есть он может быть с ней совершенно один, без опасности материнского вторжения. Нет сомнения, что Гансу понадобилось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к присутствию сестренки.
Одна только эта очевидная ремарка, причём наиболее классического типа, могла бы вас удовлетворить. Тем не менее вы знаете, что я придерживаюсь иного мнения. Хотя реальное вторжение другого ребенка в отношения с матерью действительно способно ускорить критический момент, спровоцировать решающий приступ тревоги, я без колебаний делаю акцент на этом совершенно один с, потому что какой бы ни была реальная ситуация, ребёнок никогда не остаётся наедине с матерью. Опыт анализа женщин подтверждает наличие совершенно принципиального элемента, которым отмечено всё развитие дуальных (duelle) отношений ребёнка и матери. Фрейд твёрдо придерживается этого положения вплоть до последней концептуализации женской сексуальности, когда настаивает на том, что ребёнок фигурирует лишь в качестве восполняющей замены, компенсации того, что связано с сущностной нехваткой женщины. Именно это никогда не позволяет ребёнку оставаться, ganz allein, совершенно наедине с матерью. Ребёнок постепенно понимает, что мать отмечена фундаментальной нехваткой, которую она сама пытается восполнить, в связи с которой ребёнок может доставить ей лишь, скажем так, суррогатное удовлетворение.
Именно на этой основе выстраивается пространство нового зияния, перестраивается вся ситуация, особенно в связи с вопросом реального генитального созревания у мальчика, когда он начинает мастурбировать, испытывая реальное наслаждение реального пениса. Невозможно что-либо понять, не опираясь на фундамент этого исходного положения, только из которого и могут быть выведены значимые элементы, образующие эдипов комплекс в его нормальном исходе. Комплекс Эдипа совершенно не является причиной невроза или перверсии, как вам обычно об этом говорят, представляя его как нечто более или менее негативное.
Итак, вернёмся к нашему изложению и сделаем небольшую ремарку.
В отношениях с матерью ребёнок обнаруживает измерение того, чего желает мать помимо него самого, то есть помимо того объекта, приносящего удовольствие, которым он изначально полагал для своей матери себя самого и которым он стремился быть. Эту ситуацию, как и любую другую ситуацию в анализе, следует рассматривать, как я вас этому учу, с учетом интерсубъективности (intersubjective). Исконное измерение каждого субъекта всегда соотносится с реальностью интерсубъективной перспективы, которая встроена в структуру каждого субъекта. Однако в любой интерсубъективной ситуации между матерью и ребёнком перед нами заведомо встаёт вопрос, который, возможно, прояснится только в самом конце.
Если речь и идёт о некотором пункте, завуалированном с самого начала, и мы можем прояснить его лишь в конце, то вы уже достаточно хорошо знаете случай, чтобы как минимум сформулировать для себя этот вопрос. Он связан с двумя терминами, которые я когда-то, с большим или меньшим успехом, применил, в которых

артикулировано принципиальное различие в подходе субъекта к любой реальности, когда подход этот обусловлен означающим: это метафора и метонимия. Вот вполне подходящий случай применить это различение, по крайней мере для того, чтобы расставить знаки вопроса.
На самом деле то, что выступает в функции восполняющей замены как образ, само по себе ни о чём не говорит. Легко сказать заменить, но попробуйте положить в хобот слона камешек вместо кусочка хлеба, и он гораздо меньше, чем вы ожидаете, будет этому рад. Дело не в реальной замене, а в означающей и в понимании того, что она значит. В конечном итоге речь идёт о том, чтобы понять, какую функцию исполняет ребёнок для матери и по отношению к фаллосу, который является объектом её желания. Вопрос изначально сводится к тому, метафора ли это или метонимия. Совершенно не одно и то же, когда ребёнок представляет метафору любви матери к отцу или метонимию её желания фаллоса, которого у неё нет и никогда не будет.
Кто он в данном случае? Всё в обращении матери с маленьким Гансом, которого она буквально таскает с собой повсюду, от своей кровати и до туалета, указывает на то, что ребёнок является неотделимым от неё придатком. Мать Ганса, обожаемая Фрейдом, так хороша, настолько прекрасна в своих заботах, sehr besorgte, о малыше, что даже не стесняется переодевать перед своим ребёнком панталоны. Это как-никак о чём-то говорит. Случай маленького Ганса и множество других хорошо иллюстрируют сказанное мной о принципиальном измерении того, что скрыто за вуалью. Не видим ли мы уже здесь, что ребёнок для неё есть метонимия фаллоса?
Это не значит, что её как-то особенно заботит фаллос ребенка. Как мы видим, эту персону, такую свободную в области обучения и воспитания, когда дело доходит до того, чтобы прикоснуться к краешку прибора, который ребёнок вытаскивает и просит потрогать, её охватывает жуткий страх - Das ein Schweinerei ist (это свинство). Именно в такой живой манере она реагирует. Чтобы случай маленького Ганса засверкал новыми смыслами, его стоит немного отшлифовать.
Итак, как вы видите, сказать, что ребёнок представляет собой метонимию материнского желания фаллоса, не означает, что он метонимичен в силу своей фаллоносности, но, напротив, предполагает, что ребёнок метонимичен в своей целокупности. В этом состоит драматичность ситуации. Всё было бы прекрасно, если бы речь шла о его Wiwimacher, но дело касается его целиком, вот почему серьёзным образом обостряется эта существенная разница в момент, когда даёт о себе знать реальный Wiwimacher, который становится для маленького Ганса объектом удовлетворения. Тревога возникает и нарастает с того момента, когда он может оценить разницу между тем, за что он любим, и тем, что он может дать.
Что он может предпринять в его положении, в его первоначальной позиции по отношению к матери? Он представляет собой объект удовольствия, следовательно, находится в таких отношениях, где является принципиально воображаемым и пребывает в совершенно пассивном состоянии. Если мы не увидим здесь этого раннего закрепления пассивности, то ничего не сможем понять в случае человека-волка. Лучшее, что может ребёнок сделать, оказавшись в плену воображаемого, в той ловушке, куда он попадает, пытаясь стать объектом своей матери, это выбираться из этой ловушки на другую сторону, понимая мало-помалу, если можно так сказать, кто он есть на самом деле. Он воображаемый, так что лучшее, что он может сделать, это вообразить себя самого в соответствии с тем, как его воображают, то есть, если так можно выразиться,

вступить на средний путь. Но с того момента, когда обнаруживается его реальное существование, большого количества вариантов не остаётся. Именно тогда он оказывается способным представить себя совершенно иначе, чем того желает мать, и выбирается из поля воображаемого, где мать могла получить удовлетворение в силу занимаемого им места.
Фрейд подчёркивает, что вначале возникает тревога, но тревога относительно чего? Нас может навести на след сновидение, от которого маленький Ганс просыпается, рыдая из-за того, что его мать собиралась уйти. И в другой момент он говорит отцу: «Если бы ты ушёл». В любом случае речь идёт о расставании. Мы могли бы дополнить этот термин тысячей других черт. Именно когда он расстаётся со своей матерью и находится с кем-то другим, тревога даёт о себе знать. Фрейд подчёркивает, что сначала появляется эта тревога и что чувство тревоги отличается от фобии. Но что такое фобия? Её не так просто понять.
Попытаемся это прояснить.
3
Здесь, конечно, можно, радостно подскочив, сказать, что фобия является типичным проявлением тревоги. Я не спорю, но что это нам даёт? Почему это проявление в каждом случае настолько уникально? Какую оно играет роль?
Другая ловушка заключается в словах, что имеет место направленность на некий результат, что фобия должна чему-то послужить. А нужно ли ей чему-то служить? Разве нет таких вещей, которые ничему не служат? Зачем заранее решать, что фобия чему-то служит? Зачем, забегая вперёд, говорить, что фобия чему-то служит? Может, она вообще ничему не служит? Ведь как было бы хорошо, если бы её не было. Зачем в таком случае нужны предвзятые представления о целесообразности?
Мы постараемся приблизиться к пониманию функции фобии. Что представляет собой фобия в этом случае? В чём особенность структуры фобии маленького Ганса? Возможно, это поможет нам сформулировать несколько положений об общей структуре фобии.
Как бы то ни было, сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на то, что разница между тревогой и фобией в этом случае становится вполне ощутимой.
Я не знаю, можно ли назвать фобию такой уж репрезентативной, поскольку очень сложно узнать, чего именно боится ребёнок. Маленький Ганс тысячей способов это формулирует, но всегда остаётся некоторый исключённый, никак не выраженный остаток.
Если вы прочитали текст, то знаете, что коричневая, белая, черная, зеленая лошадь - эти цвета по-своему небезынтересны - остаётся загадкой до самого конца наблюдения, и она несёт на своей морде непонятное чёрное пятно, которое превращает её в животное доисторических времён. Отец спрашивает ребёнка:
- Это железка у неё во рту?
- Вовсе нет, - говорит ребёнок.
- Это упряжь?
- Нет.
- У лошади, которую ты видел, есть пятно?
- Нет, нет, - говорит ребёнок.

Однажды, устав, Ганс говорит: «Да, у неё есть пятно, не будем больше об этом говорить». В чём тут есть определённость, так это в том, что мы не знаем, что представляет собой чёрное пятно на морде лошади.
В общем, фобия не так проста, поскольку несёт в себе малоочевидные, ничего не говорящие элементы. Если есть нечто, дающее представление о подобного рода негативном галлюциногенном элементе, о котором в анализе не перестают возникать всё новые теоретические изыскания, то это тот самый неясный элемент, проступающий наиболее отчётливо в виде головы лошади, напоминающей ту, что видна над головами Венеры и Вулкана на полотне Тициана.
Одно можно сказать наверняка: существует радикальная разница между чувством страха и чувством тревоги, которое возникает с того момента, когда ребёнок внезапно обнаруживает, что может оказаться вне игры. Конечно, маленькая сестра максимально подготавливает ситуацию, но я повторяю, что кризис имеет гораздо более глубокие основания. Почва уходит из-под ног ребёнка, когда он осознаёт, что никак более не способен выполнять свою функцию, состоящую в том, чтобы не быть больше ничем, кроме того, что лишь кажется чем-то, хотя на самом деле ничто - кроме того, что называется метонимией.
Я говорю о том, что мы уже проходили. Метонимия - это основа реалистического романа. Если реалистический роман, который всегда остаётся лишь набором клише, может нас заинтересовать, то происходит это вовсе не по причине передаваемых им проблесков реального. Наборы клише интересуют нас потому, что помимо этого эффекта они преследуют другую цель. Они ориентированы чем-то, что кажется совершенно противоположным, то есть нехваткой. По другую сторону всех предоставляемых нам и отшлифованных до блеска деталей, есть то, что нас притягивает. Чем более роман метонимичен, тем более он ориентирован тем, что расположено по другую сторону.
Наш дорогой маленький Ганс внезапно обнаруживает себя лишённым - или, по крайней мере, готовым лишиться - своей метонимической функции. Говоря повседневным, а не теоретическим языком, он воображает себя ничем.
Что происходит, начиная с того момента, когда фобия появляется в его жизни? Точно можно сказать, что перед порождающими тревогу лошадьми, Angstpferde, несмотря на смысл этого слова, появляется не тревога, о которой он говорит, а страх. Ребёнок боится, что произойдёт нечто реальное, он говорит о двух вещах: лошади кусают, лошади падают. Фобия совершенно не является тревогой. Тревога - я лишь повторяю чётко сформулированную Фрейдом мысль - это то, что не имеет объекта. Порождённые тревогой лошади внушают страх. Страх всегда предполагает нечто артикулируемое, именуемое, реальное - эти лошади могут укусить, могут упасть, у них много других свойств.
Возможно даже, что они сохраняют на себе след тревоги. Возможно, непонятное чёрное пятно как-то с ней связано: лошади словно прикрыли этой расползающейся чернотой нечто проступающее, просвечивающее из-под неё. Но то, что появляется в переживаниях маленького Ганса, — это страх. Страх чего? Не страх лошади, но страх лошадей, поскольку с момента возникновения фобии его мир представляется ему размеченным целым рядом опасных, тревожных мест - мест, которые структурируют этот мир по-новому.

В соответствии с указанием Фрейда, который после того, как поставил вопросы о функции фобии, советует сопоставить её с другими случаями; обратимся, прежде чем рассмотреть является ли фобия патологией (morbide) или синдромом (syndrome), к одной из её наиболее типичных и распространённых форм, а именно агорафобии, которая, безусловно, имеет своё самостоятельное значение и в которой мир предстаёт размеченным тревожными знаками, маркирующими определённое поле, область, зону. Нам нужноточно указать, в каком направлении мы будем продвигаться в изучении фобии, и чтобы не забегать вперёд, я бы не говорил о её функции, но скорее о её смысле, который заключается в том, что фобия вводит в мир ребёнка структуру, именно она выводит на передний план функцию внутреннего и внешнего. Ребёнок, пребывающий внутри мира матери, в определённый момент оказывается выброшенным оттуда наружу, он испытывает тревогу, и здесь-то с помощью фобии и устанавливается новый порядок внутреннего и внешнего, появляется ряд порогов, которые структурируют мир.
Очень поучительными здесь могли бы быть этнографические исследования на тему способов организации пространства деревни. В ранних цивилизациях деревни строились не абы как. Какие-то поля возделывались, другие оставались нетронутыми, внутри были границы, означающие фундаментальные вещи, много говорящие о тех ориентирах, которыми эти люди, готовые вот-вот выйти из природного порядка, располагали. Из этого можно многое извлечь, возможно, попозже я вам скажу на эту тему несколько слов.
Здесь также есть порог и есть образ того, что предстаёт как охраняющее этот порог - Schutzbau, Vorbau, ограждающая конструкция, защитное сооружение. Таким же образом это понятие чётко обозначено Фрейдом - фобия сформирована как форпост, защищающий от тревоги.
Вырисовываются контуры чего-то такого, что позволяет артикулировать себя и обнаруживает свою функцию. Просто я не хочу слишком торопиться и прошу вас не настаивать на этом. Обычно мы довольствуемся малым. Мы так замечательно трансформировали тревогу в страх, ведь страх явно лучше переносится, чем тревога. Но и это ещё не факт.
Сегодня мы собирались лишь подчеркнуть, что никоим образом нельзя принимать страх в качестве исходного, раннего (primitif, primordial) элемента формирования Я, как это было формально заявлено и положено в основу целого учения человеком, которого я никогда не называю по имени и который занимает позицию leadership в определённой школе, с большими или меньшими основаниями называющей себя «парижской». Ни в коем случае нельзя принимать страх за исходный, первичный (primitif, premier) элемент структуры невроза. В невротическом конфликте страх задействован как упреждающий элемент, который защищает от чего-то совершенно иного, от того, что по самой своей природе безобъектно, а именно от тревоги. Вот что позволяет нам артикулировать фобия.
Я остановлюсь сегодня на этом Vorbau моих рассуждений, доведя их до определённого пункта, где возникает вопрос о фобии и о том, на что она призвана отвечать. Слово отвечать я прошу вас принять в самом глубоком смысле. В следующий раз мы посмотрим, куда это может нас привести.
20 марта 1957

глава 15 Для чего нужен миф
Функции и структура мифов
Krawall и детский оргазм
Фантазия о двух жирафах
Укоренённое, продырявленное, сменное Символическое преобразование воображаемого
Вернёмся к нашей прогулке по материалам случая маленького Ганса.
Вообще, прогулка по окрестностям это неплохой способ сориентироваться в пространстве. Но для меня речь идёт о том, чтобы научить вас распознавать топографию этой местности за пределами уже проторённых дорог. Например, бывает, что вы, не понимая того, возвращаетесь в исходный пункт, двигаясь по кругу. Или, находясь в отдельном, хорошо знакомом вам помещении, типа ванной комнаты, вы не задумываетесь о том, что если пройти сквозь стену, то можно оказаться на втором этаже книжного магазина по соседству, и там, на расстоянии вытянутой руки, каждый день, пока вы принимаете ванну, продолжается работа. Тогда вы скажете: «Какой же он всё-таки метафизик, этот чёртов Лакан!»
Речь идёт о том, чтобы показать вам определённые взаимосвязи, а также элементы общего плана, чтобы вы не ограничивали себя тем, что я намеренно назову здесь церемониалом хоженых дорог.
1
Итак, в случае маленького Ганса мы достигли пункта, где в ситуации, когда всё идет не так уж плохо, появляются тревога и фобия. Я напомню вам, что отделил одно от другого, и это строго соответствует тому, что вы можете найти в тексте Фрейда.
Речь идёт о топографии, и мы не двигаемся наугад, пусть даже и выбрали необычный маршрут, на котором я надеюсь вам эту топографию представить. Тем не менее каким бы необычным предлагаемый мной маршрут ни был, в случае маленького Ганса он уже проложен.
Я лишь хочу показать вам вещи, которые может обнаружить и последний дурак, но не аналитик, поскольку этот - как раз дурак далеко не последний. Нашим ориентиром будет таблица, представленная мной на нашей предпоследней встрече.
Воображаемый объект кастрации - это, конечно, фаллос. Символическая мать становится реальной, как только отказывает в любви. Объект удовлетворения, грудь, например, сам по себе становится символическим объектом фрустрации как отказа в объекте любви. Реальная дыра лишения является ровно тем, чего не существует. Для того, чтобы произвести в реальном, которое по своей природе полное, дыру, необходимо ввести в него символический объект.
О чём идёт речь? В процессе, называемом доэдипальным, мы приходим к следующему пункту. Чтобы стать объектом любви этой матери, которая для ребёнка важнее всего, он постепенно приходит к осознанию того, что должен занять своё место в тройке, должен как-то втиснуться между желанием матери, которое он постигает в опыте, и тем воображаемым объектом, которым является фаллос.
Мы должны признать такое положение дел, потому что подобная репрезентация позволяет обобщить понимание последовательности происшествий, которые возможно

осмыслить только в качестве производных эффектов структуры отношений символического и воображаемого в доэдипальный период. Она прямо сформулирована в Трёх очерках по теории сексуальности, Die infantile Sexualforschung, а именно в разделе под названием Исследования ребёнка или Инфантильные сексуальные теории, где вы можете обнаружить, как я вам об этом и говорил, что то, что называется перверсиями, в своей совокупности разработано и изложено в связи с инфантильной теорией фаллической матери и необходимостью преодоления комплекса кастрации.
До сих пор есть люди, считающие перверсию чем-то глубоко обусловленным, инстинктивным, своего рода коротким замыканием в плане непосредственного удовлетворения, которое даёт ей настоящую плотность и равновесие. Они таким образом интерпретируют положение Фрейда о том, что перверсия является негативом невроза, как если бы перверсия была тем самым удовлетворением, которое подвергается вытеснению в неврозе, который в таком случае представляет собой позитив. Фрейд говорит совершенно противоположное. Негатив отрицания совершенно не обязательно приводит к его позитивному утверждению, это подтверждает тот факт, что Фрейд ясно указывает на то, что перверсия выстраивается по отношению к тому, что располагается вокруг отсутствия и присутствия фаллоса. Перверсия всегда как-то соотносится, пусть только на горизонте, с комплексом кастрации. Следовательно, с точки зрения своего происхождения она располагается на том же уровне, что и невроз. Она может быть структурирована как его негатив или, скорее, как его изнанка, но она структурирована в такой же степени и посредством той же самой диалектики, если прибегнуть к понятиям, которыми я здесь пользуюсь.
Теория инфантильной сексуальности, учитывая и то значение, которое Фрейд сразу же ей придаёт, и её важную роль в экономике развития ребёнка, бесспорно заслуживает нашего пристального внимания. При этом полноценно разработанная концепция, а именно тот раздел Трёх очерков, на который я сослался, появляется в гораздо более позднем варианте текста - полагаю, что в 1915 году, поскольку немецкое издание имеет своим недостатком отсутствие указания на дату, в которую каждая глава была добавлена в композицию книги.
Важное значение, которое имеют инфантильные теории сексуальности для либидинального развития, само по себе должно было привести аналитика к такому общеизвестному понятию как интеллектуализация, которое с лёгким оттенком уничижения применяется повсюду. Некоторые вещи, представленные, на первый взгляд, в интеллектуальной сфере, могут обладать значением, которое простое и массовое противопоставление интеллектуального и аффективного объяснить никак не способно. Необходимость так называемых инфантильных теорий, то есть исследовательской деятельности ребёнка, касающейся сексуальной реальности, обусловлена совершенно не тем, что мы, впрочем, необоснованно, понимаем под термином интеллектуальной деятельности, о котором имеем смутное представление и сверхструктурный характер которого более-менее имплицитно встроен в основу верований, организующих массовое сознание.
В этой деятельности речь идёт о чём-то совершенно ином. Она происходит на гораздо более глубоком уровне, если такие термины здесь уместны. Она касается всего тела. Она покрывает всю деятельность субъекта и мотивирует то, что мы определяем в терминах аффектов, то есть приводит аффекты или привязанности субъекта в соответствие с очертаниями главенствующих образов. В целом она коррелирует со всей

последовательностью достижений в наиболее широком смысле, проявляя себя в совершенно несводимых к реализации каких-либо интересов действиях. Определим эту совокупность действий термином, который в данном случае может быть и не лучший, и не самый всеобъемлющий, но который я принимаю за его выразительную ценность, назовём эти действия не только церемониальными, но и церемонными.
Вы хорошо знаете всё, что может осуществляться в этом регистре как в коллективном, так и в индивидуальном опыте. Нет примера человеческой деятельности, которая бы его устранила. Даже в наиболее прагматичных и функциональных цивилизациях эти церемониальные действия оказываются весьма заметными и дают о себе знать в самых неожиданных формах. На то должна быть какая-то причина. Короче говоря, чтобы определить точное значение того, что мы называем инфантильными сексуальными теориями, а также всей активности ребёнка, организованной и структурированной ими, мы должны обратиться к понятию мифа.
Не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы это понять, я имею в виду, чтобы получить углублённое представление о понятии мифа. В общем-то, это я и намерен сейчас продемонстрировать. Я постараюсь продвигаться постепенно и поступательно, поскольку мне кажется важным наилучшим образом подчеркнуть согласованность между нашими понятиями и элементами, с которыми мне следует, как я полагаю, их сверить. Я ни в коем случае не претендую, как некоторые об этом говорят, ни на создание общей метафизической доктрины, ни на полное описание реальности. Я лишь хочу поговорить с вами о нашем, наиболее близком и непосредственно с нами связанном. Здесь совершенно недопустимо проецировать, как это часто делается, нашу область неудовлетворительным и непродуктивным образом на целый ряд регистров и областей реальности, ссылаясь на их предположительную аналогичность тому, чем в целом занимаемся мы, поскольку в малом всегда, мол, обнаруживается великое. Совершенно очевидно, что подобная модель описания никоим образом не может исчерпать ни реальность, ни человеческие проблемы. С другой стороны, было бы опрометчивым полностью изолировать нашу область и отказываться видеть то, что в ней не аналогично, но непосредственно связано, сцеплено с реальностью, которая открывается для нас с помощью других дисциплин, других гуманитарных наук. Я считаю необходимым установить эти связи, чтобы лучше определить нашу область и просто получше сориентироваться.
Обратиться к понятию мифа удобно именно сейчас, когда мы подошли естественным образом к понятию инфантильных теорий. С тех пор, как я говорю с вами о Гансе, вы могли уловить, что если этот случай похож на лабиринт, поначалу даже кажется, что беспорядочный, то выглядит всё так по причине многочисленных разглагольствований маленького Ганса, определённо очень насыщенных, производящих впечатление чрезмерного теоретического избытка и изобилия. От вашего внимания не может ускользнуть, как точно они соответствуют классу теоретических разработок, которые играют такую важную роль.
Мы подойдём к мифу просто-напросто как к непосредственной данности.
То, что мы называем мифом в религии или народных преданиях, на любом этапе своего развития представлено как повествование. Мы многое можем сказать о такого рода повествовании и рассмотреть его в различных структурных аспектах. Например, мы можем сказать, что в нём присутствует нечто вневременное. Можно также попытаться определить его структуру с точки зрения тех мест, которые в нём описаны. Можно

принять во внимание литературную форму мифа, которая поражает нас своим родством с поэтическим произведением, хотя очень от него отличается в том смысле, что заключает в себе определённые константы, совершенно не поддающиеся субъективному изобретению.
Я указал бы также на проблему, которая возникает в связи с тем фактом, что в целом миф имеет характер вымысла. Но этот вымысел демонстрирует устойчивость, которая делает его совершенно неподатливым к тому или иному вносимому изменению, а точнее, изменения следуют одно за другим, неизменно подкрепляя структуру. С другой стороны, этот вымысел поддерживает особую связь с тем, что за ним подразумевается и чьё послание, определённо в нём обозначенное, он несёт, то есть с истиной. Эта сторона мифа от него неотделима.
В одном месте Семинара об Украденном письме, где я рассматриваю вымысел, я написал, что он является, по крайней мере в некотором смысле, абсолютно легитимной операцией, поскольку во всяком правильно построенном вымысле можно легко увидеть структуру, которая в самой истине оказывается той же самой, что и в вымысле. Структура, необходимая любому выражению истины, является той же самой структурой, что и структура вымысла. Истина имеет, если можно так выразиться, структуру вымысла.
Миф, преследуя свою цель, предстаёт также в характере неисчерпаемости. Прибегнув к старому понятию, скажем, что он обладает характером схемы в кантовском понимании. Миф гораздо ближе к структуре, чем к любому содержанию, он приспосабливается и заново прикладывается, в наиболее материальном смысле слова, к любому типу данных вместе с этим присущим его характеру неоднозначным эффектом. Наиболее точным будет сказать, что разновидность литейной формы, которую предлагает мифологическая категория, является определённым типом истины, в отношении которой, ограничив себя пределами нашей области и нашего опыта, мы не можем не увидеть, что речь идёт об отношениях человека, но с чем?
Не будем гадать и упрощать, не будем отвечать на это с чем? слишком быстро. Ответ с природой будет неудовлетворительным после сделанных мной замечаний о том, что природа в том виде, в котором она представляется человеку, в том, как они друг к другу прилажены, является всегда глубоко денатурализованной. Ответ с бытием будет не таким уж неточным, но идущим, возможно, слишком далеко и приводящим нас к философии, и совсем недавней, нашего друга Хайдеггера, хотя обращение к ней, в принципе, вполне уместно. В нашем распоряжении есть, однако, концепции более близкие и термины более точные, к которым мы можем непосредственно обратиться в нашем опыте.
Нужно лишь уловить, что речь идёт о вопросах жизни и смерти, существования и несуществования, и особенно рождения, то есть появления того, чего ещё не существует. Речь идёт, с одной стороны, о вопросах существования самого субъекта и о горизонтах, которые открываются в его опыте, и, с другой стороны, о том факте, что он является субъектом пола, своего обусловленного природой пола. Вот на что указывает нам опыт в проявлениях детской мифотворческой активности. В своём содержании и своей направленности она полностью согласована, не покрывая его целиком, с тем, что подразумевается под понятием мифа в этнографических исследованиях.
Мифы как вымыслы, представленные в этих исследованиях, всегда в большей или меньшей степени ориентированы не темой происхождения индивидуальности человека, а спецификой его бытия, взращиванием его фундаментальных отношений,

появлением его великих изобретений, укрощением огня, ведением сельского хозяйства, приручением животных. Также в мифах мы всегда находим сюжет отношения человека с доброй или злой тайной силой, сущностный характер которой заключается в том, что она священна.
В мифологических повествованиях по-разному представлено это священное могущество и по-разному объясняется, каким образом человек входит с ним в отношения, которые со всей очевидностью для нас оказываются тождественными отношениям человека с властью смысла и значения, а особенно с её главным орудием - означающим. Это могущество делает человека способным ввести в природу нечто, позволяющее ему приблизиться к такой далёкой от него вселенной, делает его способным ввести в порядок природы не столько свои потребности и влияющие на них факторы, но и по другую их сторону всегда остающееся незамеченным понятие глубинной идентичности между, с одной стороны, его способностью пользоваться означающим или использоваться им, в него вписываясь, и, с другой стороны, способностью воплощать собой инстанцию этого означающего в серии вмешательств, изначально не имеющих характера естественной (gratuite) деятельности, то есть непосредственно вводить означающий инструмент в естественный порядок вещей.
Отношения смежности мифов и детской мифотворческой деятельности в достаточной степени обозначены теми положениями, которые я только что вам привёл. Откуда и возникает наш интерес к изучению научной или сравнительной мифологии, которая с какого-то времени и чем дальше, тем больше разрабатывается, следуя методу, характер формализации которого указывает на некоторые успешно предпринятые в этом направлении шаги. Плодотворность, которую несёт в себе такая формализация, позволяет заключить, что она способна принести нечто гораздо большее, чем метод культурологических и натуралистических аналогий, применяемых для анализа мифов до сих пор.
Эта формализация выделяет в мифах функционально-структурные элементы или единицы, структурное функционирование которых на их уровне сопоставимо, оставаясь ему, однако, не идентичным, с тем, которое обнаруживают лингвистические исследования, разработки различных современных таксиоматических элементов. Теперь стало возможным изолировать и эффективно применять такие элементы. Они представляют собой единицы мифологической конструкции, которые мы называем мифемами.
Исследуя ряд мифов, подвергшихся разложению на элементы с последующей пересборкой в новую комбинацию и при условии отказа от проведения поверхностных аналогий, можно обнаружить удивительное сходство между мифами, которые кажутся очень друг от друга далёкими. Например, поначалу не приходит в голову назвать инцест эквивалентом убийства, но сопоставление двух мифов или двух уровней одного мифа делает это очевидным. На разных вершинах констелляции, напоминающей те маленькие кубы, которые я нарисовал для вас в прошлый раз на доске, вы располагаете, например, термины отца и матери, матери, о которой субъект не знает. В первом поколении имеет место инцест. Когда вы, переписывая пункт за пунктом, переходите ко второму поколению и следуете правилам, необходимым лишь для соблюдения однозначной формализации, вы видите, что братья-близнецы - это трансформировавшаяся пара, бывшая в первом поколении отцом и матерью, и что убийство, например, Полиника располагается на том же месте, что и инцест. Всё

основано на операции трансформации, уже отрегулированной определённым рядом структурных предположений о том, с каких позиций нам следует рассматривать миф.
Это даёт нам идею о весомости, наличности (présence), настоятельности (instance) означающего как такового, о его чистом воздействии. То, что здесь проявляется в изолированном виде, всегда является чем-то наиболее скрытым, поскольку речь идёт о том, что само по себе ничего не значит, но, безусловно, заключает в себе весь порядок значений. Если что-либо подобного рода и существует, то нигде не является настолько ощутимым, как в мифе.
Это преамбула должна показать вам, с каких позиций мы подвергнем исследованию то изобилие сюжетов, которые в случае маленького Ганса на первый взгляд кажутся откровенными выдумками.
2
В чём состоит аутентичность воображаемых сюжетов маленького Ганса? По предположению самого Фрейда, весьма вероятно, что они были ему внушены.
Но можно ли здесь принять это внушение в наиболее простом смысле слова? А именно: как то, что, будучи сформулированным одним субъектом, переходит к другому в виде установленной истины, по крайней мере в форме допущения с определённым элементом уверенности, становится своего рода облачением реальности? Сам термин внушения предполагает сомнение относительно аутентичности, которая не выдерживает вполне обоснованной в этом случае критики, поскольку обсуждаемые конструкции оказываются привнесёнными. Но не стоит ли принять в расчёт нечто, заслуживающее гораздо большего внимания? Не нам ли больше, чем кому бы то ни было, следует понимать, что символическая организация мира со всеми культурными элементами, которые её поддерживают, по своей природе не может кому-то принадлежать и должна быть усвоена каждым субъектом? Не это ли представляет собой незыблемую основу понятия внушение?
В случае маленького Ганса внушение не просто существует, оно видно ясно, как божий день. Расспросы отца в по-настоящему инквизиторской, настойчивой манере определённо задают направление ответам ребёнка. Как множество раз подчёркивает Фрейд, вмешательство отца носит грубый, приблизительный и откровенно неумелый характер. В том, как он регистрирует ответы ребёнка, полно недоразумений; по словам Фрейда, он слишком старается их понять и слишком торопится. При чтении случая совершенно очевидно, что конструкции маленького Ганса далеки от того, чтобы быть независимыми от вмешательства отца со всеми его недостатками, ощутимо влияющими на ребёнка и его поведение, на что постоянно обращает внимание Фрейд. С определённого момента мы видим, как это ускоряется, выходит из-под контроля, и фобия принимает очевидно гипертрофированную форму.
Тем не менее чрезвычайно интересно проследить, с чем именно, при всей изобретательности маленького Ганса, подразумевающей, казалось бы, в нашем употреблении этого слова абсолютную произвольность, различные эпизоды его мифотворчества связаны. Недавно на одной из моих презентаций больных некто сказал мне о воображаемом характере некоторых конструкций моего пациента, что указывало, по его мысли, я уж не знаю почему, на след истерического внушения или последствий внушения, хотя нетрудно было убедиться, что это не так. Пусть даже и

спровоцированная, простимулированная вопросом, околобредовая фантазия пациента развивалась в соответствии со своими собственными структурами и несла на себе собственную печать.
В случае Ганса у нас ни на мгновение не возникает впечатления бредообразования. Более того, есть полное впечатление игры. Это настолько увлекательная игра, что порой сам Ганс теряет нить повествования, забывая, с чего начал, как, например, в большом замечательном рассказе, по своему жанру граничащим с фарсом, об участии аиста в рождении его младшей сестры Анны. Он доходит до того, чтобы заявить: «И потом, в конце концов, не верьте тому, что я сказал». Тем не менее в самой этой игре заявляют о себе не столько постоянные понятия, сколько определённая конфигурация, порой ускользающая, а иногда поразительно чётко уловимая.
Вот то, к чему я хотел вас подвести, к необходимости иметь дело со структурой, которая определяет не только то, что мы, приняв меры предосторожности, называем маленькими мифами Ганса, но также и их развитие, и их трансформации. Особенно я бы хотел обратить ваше внимание на то, что важно зачастую вовсе не их содержание, то есть не более или менее упорядоченное оживление внутренних переживаний вроде так называемого анального комплекса.
Анальный комплекс фигурирует в наблюдении, но его роль исчерпывается тем, что Ганс говорит о lumpf. Его появление было совершенно неожиданным для отца. Фрейд намеренно оставил его в неведении относительно двух тем, с которыми тот с большой вероятностью мог встретиться и которые, как это и предвидел Фрейд, действительно возникли в процессе работы отца с ребёнком. Одной из этих тем был анальный комплекс, а другой - ни больше ни меньше - комплекс кастрации.
Не будем забывать, что в то время, в 1906-1908 годах, комплекс кастрации уже являлся для Фрейда своего рода ключом, но ключом, ещё не разработанным в полной мере, далеко не основным. Тогда этот почти ничего не означающий маленький ключик болтался на связке среди других. В конечном счёте, Фрейд имел в виду, что у отца не было никакого представления о том, что комплекс кастрации является главным пунктом, через который происходит установление и разрешение субъективной констелляции, фазы восхождения и нисхождения Эдипа.
Таким образом, на протяжении всего наблюдения мы видим, как маленький Ганс реагирует на интервенции реального отца. В теплице, хорошо прогретой лучами перекрёстных вопросов отца, складываются наиболее благоприятные условия для созревания культуры фобии. Ничто не позволяет нам предположить, что фобия могла бы иметь такую продолжительность и такие последствия, если бы не вмешательство отца, без которого вряд ли были бы возможными и такое её развитие, и насыщенность, и в определённый момент такая требовательная её настоятельность. Фрейд сам допускает и учитывает, что фобия могла вспыхнуть, ускориться, усилиться в результате действий отца.
Это прописные истины, и всё же их нужно было озвучить. Вернёмся теперь к тому пункту, на котором мы остановились. Чтобы не бросать вас в неопределённости, я предложу вам основную схему, вокруг которой подходящим для нас способом организовывается всё то, что мы постараемся понять о феномене анализа Ганса, о его начале и о его результатах.
Итак, Ганс находится в определённых отношениях со своей матерью, где его прямая потребность в её любви смешалась с тем, что мы назвали интерсубъективной

игрой в приманку. С самого начала наблюдения эта игра повсюду, и наиболее ясным образом она даёт о себе знать в высказываниях ребёнка. Ему необходимо, чтобы у его матери был фаллос, и это вовсе не означает, что фаллос для него нечто реальное. Напротив, в его высказываниях постоянно проскальзывает двусмысленность отношений с фаллосом в перспективе игры. В конце концов, ребёнок хорошо знает некоторые вещи, по крайней мере указывает на них, когда говорит: «Я только подумал ...» - и он осекается. Тем, о чём он подумал, было: он у неё есть или его у неё нет? Он её спрашивает и заставляет её сказать, что у неё есть Wiwimacher, и кто знает, удовлетворил ли его этот ответ и в какой степени? Macher не имеет точного перевода, но поскольку есть смысл рабочего, действующего агента, как в Uhrmacher (часовщик) - это делатель пипи. Делатель мужского рода, как подсказывают другие слова с приставкой wiwi.
Хотя отношения ребёнка со своей матерью исполнены близости, и мы видим, что он состоит с ней в сговоре воображаемой игры, внезапно возникает определённая декомпенсация, которая проявляется в тревоге, затрагивающей именно эти отношения с матерью.
В прошлый раз мы пытались разобраться, на что отвечает эта тревога. Как было отмечено, она связана с различными элементами реального, которые своим появлением усложнили ситуацию. Эти элементы реального не являются равнозначными. В ряду материнских объектов происходит изменение, а именно: на свет появляется младшая сестра, что вызывает у Ганса реакции, которые, однако, проявляются не сразу, поскольку вспышка фобии последует лишь пятнадцать месяцев спустя. Ситуацию осложняет вмешательство реального пениса, но он задействован уже в течение как минимум года, это известно, поскольку благодаря хорошим отношениям с родителями ребёнок говорит о мастурбации.
Каким образом эти элементы декомпенсации вступают в игру? В прошлый раз мы это отметили.
С одной стороны, Ганс подвергается исключению, он выброшен из ситуации из-за появления младшей сестры. С другой стороны, имеет место вмешательство фаллоса в иной форме - я имею в виду мастурбацию. Это всё тот же объект, но представленный в совершенно другой форме из-за нового ощущения, связанного с набуханием, которое, вполне вероятно, мы можем определить как оргазм, но, конечно, без эякуляции. Понятно, что вопрос оргазма при детской мастурбации является сложной проблемой. Фрейд не разрешает её, потому что на тот момент не располагает достаточным количеством данных, и я тоже к ней сразу подходить не стану. Я только обозначаю, что эта проблема лежит на горизонте нашего исследования.
Вызывает удивление, что Фрейд не задаётся вопросом, не имеет ли гвалт и гам, Krawall, который провоцирует один из страхов ребёнка перед лошадьми, связи с оргазмом, причём не с его собственным. На вопрос, не мог ли он наблюдать такого характера сцену между родителями, Фрейд легко принимает заверение, что ребёнок ничего не мог видеть. Это маленькая загадка, на которую мы найдём ответ.
Весь наш опыт подтверждает, что в прошлом детей, в их переживаниях, в их развитии присутствует элемент, который им очень сложно усвоить. Я долгое время настаивал - и в моей диссертации, и в почти одновременном с ней тексте - на разрушительном характере, особенно у параноика, первого полного оргастического ощущения. Почему особенно у параноика? Попутно мы постараемся ответить и на этот вопрос. Но у некоторых субъектов мы постоянно встречаем свидетельства характера

жестокого вторжения, ошеломляющего разрушительного эффекта этого опыта. Это указывает нам на то, что появление реального пениса как элемента, который сложно усвоить, должно сыграть свою роль как раз в тот самый, обсуждаемый нами сейчас поворотный момент.
Тем не менее, поскольку уже прошло некоторое время после того, как реальный пенис включился в игру, в момент вспышки тревоги на первом плане оказывается что-то другое. Почему фобия возникает именно в этот момент и ни в какой другой? Очевидно, что этот вопрос пока остаётся без ответа.
3
Итак, наш маленький Ганс достигает пункта появления фобии.
Текст наблюдения не оставляет сомнений, что не Фрейд, а именно отец изначально имеет представление о том, что это как-то связано с напряжённостью в отношениях с матерью. По поводу того, что вызывает фобию, что именно стало причиной расстройства, отец не скрывает своего замешательства, и в первых же строках своего письма Фрейду он откровенно признаётся: «Я этого не знаю», и начинает описание фобии.
О чём идёт речь? Оставим пока дальнейшее в стороне и на некоторое время остановимся здесь.
Мы сосредоточили всё внимание на матери и на символически-воображаемых отношениях ребёнка с ней. Мы говорим, что ребёнок видит нужду матери в том, чего ей не хватает, а именно в фаллосе, которого у неё нет. Мы сказали, что этот фаллос является воображаемым. Воображаемым для кого? Он воображаемый для ребёнка. Почему мы говорим об этом именно так? Потому что Фрейд сказал нам, что для матери это имеет значение. Почему? Вы мне скажете: «Потому что в этом состоит суть его открытия». А если он это открыл, значит, действительно так оно и есть, и это правда. Почему же это правда?
Речь идёт о том, чтобы понять, в каком смысле это правда. Аналитики, в особенности аналитики женского пола, регулярно возражают, не понимая, почему именно женщина более, чем кто-либо другой, обречена желать того, чем не обладает, или же уверовать в то, что она всё-таки этим наделена. Так происходит по тем причинам, ограничимся только ими, которые принадлежат порядку существования и настоятельности означающего. Именно потому, что фаллос обладает символическим значением в означающей системе и получает распространение во всех текстах человеческой речи, он более, чем какой-либо другой образ, вызывает у женщины желание.
Разве проблема состоит не в том, что именно на этом повороте, в этот момент декомпенсации ребёнок совершает тот шаг, который невозможно сделать в одиночку? Что это за шаг? Ранее он играл с фаллосом, желаемым матерью, с фаллосом, ставшим для него элементом желания матери, без которого ему не обойтись, чтобы завлечь мать. Этот фаллос представляет собой воображаемый элемент. Теперь же ребёнок обнаруживает, что этот воображаемый элемент обладает символическим значением. И именно это является для него непреодолимым.
Другими словами, ребёнок изначально входит в систему означающего или языка, если определить её синхронически, или систему речи, если определить её

диахронически, но он входит в неё не в полной мере, его включение ограничено измерением отношений с присутствующей и отсутствующей матерью. Однако этот первый символический опыт является совершенно недостаточным условием. Невозможно выстроить систему взаимосвязей означающего во всей её полноте, располагая лишь фактом присутствия и отсутствия того, кто любим. Мы не можем довольствоваться двумя терминами, нужны другие.
Для функционирования системы символического есть необходимый минимум. Нужно прояснить: это три или четыре. Конечно, трёх недостаточно. Безусловно, Эдип даёт нам три, но определённо подразумевается четвёртый, поскольку ребёнку нужно Эдип перейти. Поэтому кое-кто должен вмешаться, и этот кое-кто - отец.
Нам рассказывают милую историю о том, как вмешивается отец, о соперничестве с ним, о запретном желании матери. Так, когда мы продвигаемся шаг за шагом, мы отчётливо замечаем, что оказываемся в совершенно особенной ситуации. Мы уже обсуждали своеобразную манеру проявлений отца Ганса. Может, степень отцовской несостоятельности играет свою роль? Можем ли мы положиться на те якобы реальные и конкретные характеристики, окончательный смысл которых так трудно уяснить? Поскольку что именно большая или меньшая несостоятельность реального отца может значить?
В этом вопросе каждый довольствуется приблизительным пониманием, и в конце концов нам заявляют, не заостряя на этом внимания и исходя неясно из какой логики, что здесь всё очень противоречиво. Мы же, напротив, увидим, что всё упорядочивается тем обстоятельством, что для ребёнка определённые образы функционируют символически.
Что это значит? Образы, которые в этот момент реальность предлагает маленькому Гансу, будучи, возможно, слишком изобильными, насыщенными, избыточными, находятся в совершенно усвоенном состоянии. Поскольку для него речь идёт о том, как согласовать с миром материнских отношений, в котором он до настоящего момента гармонично пребывал, тот элемент воображаемого начала или нехватки, который делает его для матери таким забавным и даже возбуждающим. Где-то упоминается, что она слегка раздражается, когда отец просит выдворить ребёнка из постели, и она протестует, заигрывает, кокетничает. Это выражение wohl gereizt, переведённое как довольно раздражена, скорее соответствует здесь смыслу весьма возбуждена. Конечно, он не просто так оказался в кровати у матери. Мы выясним, почему именно он оказался там, это одно из основных направлений наблюдения.
Я приведу вам пример того, что я имею в виду, когда говорю, что эти образы возникают прежде всего в отношениях с матерью, но ведь есть ещё и другие, новые, с которыми ребёнок также успешно имеет дело. С тех пор, как у него появляется младшая сестра и в мире, где он находится с матерью, уже не всё так хорошо клеится, возникают представления, образующие антиномичные пары вроде большого и малого или того, что здесь, и того, чего нет здесь, а только кажется, и т.д. Однако в реальности он с этими представлениями вполне справляется и делает это, как мы видим, исключительно хорошо. Так, говоря о младшей сестре, он отмечает, что «у неё ещё нет зубов», то есть прекрасно понимает, что они должны появиться.
Иронизируя, Фрейд делает это косвенно. Не нужно полагать, что этот ребёнок метафизик. Он выражается абсолютно трезво и нормально, он очень быстро осваивает три понятия, каждое из которых не существует само по себе. Во-первых, возникновение,

появление чего-то нового. Во-вторых, рост - она вырастет или вырастет то, чего она не имеет, и здесь нет повода для иронии. Наконец, пропорция или размер, как кажется, наиболее простой термин, но который даётся не сразу.
Всё это с ребёнком обсуждается, и может показаться, что ещё слишком рано для того, чтобы он понял разъяснения, которые ему дают. «Есть те, у которых этого нет - у женщин нет фаллоса», - вот что говорит ему отец. Так вот, этот ребёнок, уже доказавший свою способность умело и правильно обращаться с такими понятиями, не удовлетворяется этим и предпринимает ряд обходных манёвров, которые на первый взгляд кажутся ошеломляющими, пугающими, ненормальными. Решение у проблемы, в конце концов, есть, но, чтобы достичь его, ему приходится проследовать путями, сильно отклоняющимися от привычного ему восприятия форм, способных объективировать реальное удовлетворительным образом. Мы постоянно будем свидетелями исчерпания и преодоления воображаемого на пути к символическому, и вы увидите, что оно не может происходить без структуризации в тех, как минимум троичных циклах, различные следствия из которых я вам в следующий раз покажу.
Сразу же приведу вам сегодня один пример.
По инструкциям Фрейда - в следующий раз вы поймёте, что они могут значить, эти инструкции Фрейда - отец вбивает в голову Ганса, что у женщин нет фаллоса и напрасно он его ищет. Утверждать, будто Фрейд действительно предложил отцу сделать такую интерпретацию, было бы слишком, но оставим это пока в стороне.
Как ребёнок реагирует на эту интервенцию отца? Появляется фантазия о двух жирафах.
Глубокой ночью ребёнок в страхе приходит в комнату родителей, сначала он ни о чём не рассказывает и засыпает в их кровати. Ганса переносят обратно в его комнату и на следующий день снова спрашивают о том, что случилось. Он рассказывает о своей фантазии. Там большой жираф, а вот здесь маленький жираф, zerwutzelte, что было переведено как смятый, тогда как это означает скомканный, скатанный в шар, в ком. На вопрос, что это означает, ребёнок делает из листа бумаги комок.
Как это было проинтерпретировано? У отца сразу же не осталось никаких сомнений по поводу этих двух жирафов. Большой символизирует отца. Маленький, которым завладел ребёнок, усевшись на него верхом под громкие крики большого, связан с реакцией на материнский фаллос и отсылает к тоске по матери и её нехватке. Это сразу же обозначено, воспринято, распознано, найдено отцом в качестве значения маленького жирафа, что, впрочем, не мешает ему, не без того, чтобы он уловил противоречие, всё-таки сопоставить жирафов с парой отец-мать. Всё это поднимает наиболее интересные вопросы. Мы можем бесконечно обсуждать, был ли большой жираф отцом, а маленький жираф матерью. На самом деле ребёнок претендует на обладание матерью для того, чтобы спровоцировать раздражение и даже гнев отца. Однако такой гнев никогда не имел места в реальности, отец никогда не позволял себе проявлять гнев, и маленький Ганс пальцем указывает ему на это: «Ты должен гневаться, ты должен ревновать». Он разъясняет ему смысл Эдипа. К сожалению, отец никогда не был Громовержцем.
Задержимся ненадолго на том, что здесь настолько очевидно. Большой и маленький жирафы подобны, один представляет собой двойника другого. Есть сторона большого и маленького, но также всегда есть сторона просто жирафа. Другими словами, мы обнаруживаем здесь нечто совершенно аналогичное тому, о чём я говорил вам в

прошлый раз о ребёнке, который оказывается метонимически задействованным в фаллическом желании матери. Ребёнок в целом - это фаллос. Таким образом, когда дело доходит до возвращения матери её фаллоса, мальчик наделяет фаллическим значением всю мать целиком в качестве двойника. Он производит метонимию матери. Нечто, бывшее до сего момента лишь загадочным и желанным фаллосом, в обработанном и необработанном виде, погружённым в двусмысленность, принятым на веру, задействованным в соблазняющей игре с матерью, с которой мы всё соотносим, начинает артикулироваться как метонимия. И словно этого было мало, чтобы лучше увидеть включение образа в чисто символическую игру, чтобы лучше показать, как совершили мы переход от воображаемого к символическому, и нужен оказался этот маленький жираф, так никем и не понятый, хоть и у всех на виду. Ганс сам демонстрирует нам, что этот жираф не более чем символ, что он лишь рисунок на бумажном листе, который можно смять.
Переход от воображаемого к символическому не может быть представлен лучше, чем в таких, казалось бы, противоречивых и немыслимых деталях. Из того, о чём рассказывают дети, вы всегда делаете нечто, существующее в трех измерениях, хотя есть в них и что-то от символической игры, которая происходит в двух. В Украденном письме я указывал вам на момент, когда в руках королевы письмо становится не более чем скомканным листом бумаги. С помощью того же самого жеста Ганс пытается понять, что означает маленький жираф. Маленький смятый жираф означает нечто, принадлежащее тому же порядку, что и рисунок жирафа, сделанный как-то отцом для Ганса, который я вам здесь представляю, с вивимахером, добавленным самим ребёнком. Этот рисунок уже близок к символу, несмотря на то что он является весьма правдоподобным наброском, и все части расположены на своих местах, однако вивимахер, добавленный жирафу, имеет по-настоящему графический характер: это черта, а в придачу, чтобы мы не смогли это никак проигнорировать, ещё и отделённая от тела жирафа.
| ЖИРАФ С ВИВИМАХЕРОМ |
|---|
 |
Так мы вовлекаемся в большую игру означающего, которой я посвятил Семинар об Украденном письме. Маленький жираф - это двойник матери, сведённый к необходимому для передачи означающего состоянию, а именно нечто такое, что можно удержать, что можно смять и на что можно сесть. Это свидетельство. У маленького влюблённого оказывается всё же в руках нечто вроде черты, метки.

Заметьте,что это не единственный пункт, в котором мы можем уловить переход от воображаемого к символическому, есть множество других. Мало-помалу мы обнаруживаем параллель между случаем человека-волка и случаем маленького Ганса и можем сравнить пути, на которых в одном и другом случаях возникает фобический образ. Мы ещё не выявили его значения, и для того, чтобы это сделать, необходимо прежде всего обратиться к опыту ребёнка. У человека-волка это, без сомнения, чистый образ, но образ из книги с картинками, объект фобии - это волк, сошедший со страниц книги. Совсем как у Ганса. В его книге с картинками на той же странице, которую мы обсуждали, где аист приносит детей в красной коробке, то есть там, где изображено гнездо аистов на вершине дымоходной трубы, как будто случайно нарисована лошадь, которую подковывают.
Что нам здесь всё время предстоит наблюдать? Нам предстоит наблюдать, коль скоро мы ищем именно их, структуры, включённые в круговую игру дополняющих друг друга логических инструментов и формирующие своего рода круг, в котором маленький Ганс ищет решение. Решение чего? Дело в том, что в этой серии, образованной тремя элементами или инструментами, называемыми мать, ребёнок и фаллос, фаллос перестал быть только тем, с чем играют, но проявил норов, обрёл свои фантазии, свои нужды и претензии, повсюду учинил беспорядок. Речь идёт о том, чтобы понять, как можно навести порядок, то есть как можно исправить положение дел в этом изначально сложившемся трио.
Здесь мы видим появление триады.
Мой пенис закрепился, angewachsen, прирос, глубоко укоренился. Вот форма гарантии. К сожалению, сразу же вслед за уверенностью в его надёжной укоренённости происходит вспышка фобии. Его укоренённость несёт в себе, надо полагать, опасность.
Тогда мы видим появление другого термина - продырявленный. Научившись различать этот термин в соответствующей анализу мифических представлений форме, мы найдём его множество раз. Прежде всего, Ганс в сновидении продырявлен, затем продырявлена кукла, и есть вещи, продырявленные снаружи внутрь и изнутри наружу.
Третий термин, который он находит, является особенно выразительным из-за того, что его невозможно вывести из естественных форм. Этот логический инструмент, введенный им в свой мифический переход, образует, наряду с укоренённостью и зияющей своей пустотой дырой, третью вершину треугольника. Если пенис не укоренён, то больше ничего не остаётся, и нужно что-то посредствующее, позволяющее его устанавливать, снимать и заново устанавливать. Короче говоря, нужно, чтобы он был съёмным. Что для этого приспосабливает ребёнок? Ему подходит винт, который можно прикрутить и открутить. Приходит водопроводчик или сантехник и откручивает ему пенис, чтобы установить другой, размером побольше.
Применение этого логического инструмента, этого мифического элемента, позаимствованного из небогатого опыта ребёнка, приведёт к реальному разрешению проблемы через понимание, что фаллос также является задействованным в символической игре, он может комбинироваться с другими элементами, может быть закреплённым и в то же время остаётся мобильным, циркулирующим, исполняющим функцию посредника. Именно благодаря этому моменту ребёнок сможет получить возможность для первой передышки в этом безумном поиске никогда до конца не удовлетворяющих примирительных мифов и дойти до окончательного найденного им решения, которое, как вы увидите, является близким к разрешению комплекса Эдипа.

Это указывает вам на то, в каком ключе нужно анализировать и применять термины в случае этого ребёнка. Другая проблема касается означающих элементов, которые он заимствует среди символизированных элементов и внедряет в их организацию. Например, лошадь, которую подковывают, представляет собой одну из форм завуалированного решения проблемы закрепления недостающего элемента, который как таковой может быть представлен чем угодно, любым достаточно твёрдым объектом. В конечном итоге окажется, что в этой мифической конструкции объектом, наиболее прямо символизирующим фаллос, является камень. Мы встречаем его повсюду в главной сцене диалога с отцом, в которой, как мы увидим, происходит действительно решающий разговор. Такой же камень представляет собой подкова, которую прибивают к ноге лошади со звуком, становящимся одной из причин паники ребёнка. Особенно его пугает, когда лошадь бьёт землю копытом, к которому прикреплено нечто такое, что не должно быть полностью закреплённым, проблему чего ребёнок в итоге решает с помощью винта.
Короче говоря, это продвижение от воображаемого к символическому представляет собой организацию воображаемого в миф или по меньшей мере ведёт к созданию настоящего, то есть коллективного мифа, напоминая об этом повсюду, приводя на мысль даже системы родства. До этих систем оно, разумеется, не дотягивает, поскольку речь идёт об индивидуальной конструкции, но именно по этому пути к ним всё и движется. Для того, чтобы решение было найдено, нужно осуществить минимально необходимое количество обходных манёвров. Вы можете найти описание остова или, если угодно, метонимии этой модели в моих историях об а, в, Y, 5. Это напоминает сюжет, как если бы для того, чтобы достичь гармонии и покоя, ребёнку в определённом пункте своего пути необходимо было преодолеть несостоятельность или пустоту. Возможно, всем комплексам Эдипа нет надобности проходить через подобное мифическое построение, но им обязательно требуется реализовать символическое преобразование в такой же полноте. Это возможно в другой, более эффективной форме, это возможно в действии. Присутствие отца может, его бытием или небытием, придать ситуации символическое измерение.
В анализе маленького Ганса как раз и происходит преодоление чего-то подобного, и в следующий раз я постараюсь показать вам это в деталях.
27 марта 1957

глава 16 Как анализируется миф
Дать увидеть и быть застигнутым врасплох
Профессор Бог
Метод Клода Леви-Стросса
Голая и в рубашке
Ловушка перестановочного механизма
| Агент | Нехватка объекта | Объект |
| Реальный отец | Символическая кастрация | Воображаемый фаллос |
| Символическая мать | Воображаемая фрустрация | Реальная грудь |
| Воображаемый отец | Реальное лишение | Символический фаллос |
Чем мы занимаемся в этом году?
Мы стараемся придать выразительность и точность, присущие фрейдовским понятиям, формулировке пресловутых объектных отношений, которые на поверку оказываются не такими простыми и никогда простыми не были. Иначе зачем было бы Фрейду изучать роль двух, возможно, ещё более загадочных измерений, называемых комплексом кастрации и фаллической матерью? Чтобы сделать это, нам пришлось сосредоточить внимание на случае маленького Ганса, где мы попытались разобраться с помощью психоанализа в основополагающих отношениях субъекта с его так называемым окружением, выделяя типы взаимосвязей, которые могут послужить аналитическим целям.
Вчера вечером мы могли ещё раз убедиться, насколько этот инструмент оставляет желать лучшего. Когда мы обращаемся к фундаментальной для нас теме отношений ребёнка и матери, мы говорим о дуальных отношениях, фиксированных на фаллической матери, о том, поддерживает ли их мать или нет и так далее. Короче говоря, возможно, что мы придерживаемся категорий слишком обобщённых, как выразился на вчерашнем заседании Общества Месье Прот, чтобы позволить нам определить действительные эффекты этих отношений. Удивительно, на самом деле, что введённые Фрейдом столь гибкие категории не позволяют в привычной манере отличить, например, внутри отношений определённого рода черту характера от симптома. Мало установить аналогию между ними - ведь если они исполняют различные функции, в них должны быть задействованы отношения, различные по своей структуре.
Именно это мы и пытаемся нащупать в тех выдающихся примерах наблюдений, которые оставил нам Фрейд. Как вы знаете, за эти годы мы наделили смыслом три принципиально отличающихся друг от друга режима отношений и назвали их символическим, воображаемым и реальным. Мы утверждаем, что в случае отсутствия их различения невозможно сориентироваться даже в самом повседневном опыте. Мы

стараемся уточнить смысл этого различения опытным путём, поскольку нет лучшего способа проверить концепт, чем применить его на практике.
1
Итак, в прошлый раз мы пришли к выводу, что маленький Ганс в определённый момент своей биографии состоит со своей матерью в определённого рода отношениях, фундаментальные условия которых заданы явным присутствием фаллического объекта между ними.
Это нас не удивило. С начала этого года в материале других наблюдений мы уже видели, насколько фаллос как воображаемый материнский объект имеет по-настоящему решающее значение в отношениях мать-ребёнок. Первый этап можно обозначить как усвоение ребёнком своего положения в присутствии матери, требующее с его стороны признания и принятия на себя принципиальной роли этого воображаемого объекта, фаллического объекта, который входит в первичную структуру отношений мать-ребёнок в качестве изначального составляющего элемента.
В этом смысле никакое другое наблюдение не может быть лучше, чем случай маленького Ганса, в котором всё действительно начинается с игры между ним и его матерью - видеть, не видеть, подстерегать фаллос, выслеживать его. Подчеркнём, что здесь мы оказываемся в совершенном недоумении относительно того, что можно назвать верованием Ганса. У нас есть полное впечатление, что к моменту начала наблюдения он уже долгое время имеет, как говорится, своё собственное мнение о том, что происходит в реальности. «Я уже думал обо всем этом», «ich hab’ gedacht», -говорит он, когда родители, оказавшись перед внезапным вопросом ребёнка, вынуждены поспешно отвечать так, чтобы увести его в сторону от обсуждения темы.
Хотя воображаемые отношения преимущественно происходят в реакциях измерения видеть и быть видимым, я хочу ещё раз подчеркнуть, насколько важной уже на этом уровне является интерсубъективная артикуляция, которая, как вы увидите, далека от того, чтобы быть дуальной. Отношения, называемые скоптофилическими, заслуживают нашего внимания по той причине, что две противоположные позиции -показывать и показываться - уже отличают их от первичных воображаемых отношений в режиме захваченности, которые мы могли бы обозначить как взаимное противостояние в зрительном поле.
Я продолжительное время настаивал на этом, когда приводил в пример характерные для мира животных дуэли между соперниками в визуальном измерении, в которых мы видим, как животное, будь то ящерица или рыба, оказывается захваченным определённой типичной реакцией, называемой парадом. Между двумя противниками или партнёрами воздвигается некий ансамбль панцирей, знаков, приспособлений визуального захвата одного и другого - и далее, на одном только этом плане визуального противостояния, один другому уступает, он самоустраняется, снижает подвижность и блёкнет в цвете, он сворачивает себя в поле зрения того, кто занял доминантную позицию. Опыт показывает нам, что речь не всегда идёт о доминировании мужской особи над женской, иногда в подобного рода действиях участвуют два самца. То, что возникает в поле визуальной коммуникации, подготавливает и непосредственно продолжается в акте объятия, даже удушения — это захват одного субъекта, в который попадает другой, что позволяет одному субъекту взять верх над другим.

Если здесь есть некоторая биологическая или этологическая отсылка, позволяющая нам отметить роль, которую в воображаемых отношениях играет процесс не парада (parade), но спаривания (pariade), то сделана она мной для того, чтобы отчётливо подчеркнуть, насколько эти вещи изначально отличаются от того, что я назвал здесь восприятием ребёнком материнского воображаемого мира. Речь идёт не столько о том, чтобы видеть и быть захваченным чем-то увиденным, но о том, чтобы искать возможность увидеть, выслеживать то, что одновременно и есть, и нет. Такие отношения сориентированы на то, что, присутствуя, остаётся завуалированным, на то, чтобы с помощью уловки обеспечить присутствие вещи, которая и есть, и нет. Воображаемая драма приобретает ещё более сложный смысл, склоняясь к основополагающей ситуации, характер которой мы не можем не признать решающим, - ситуации внезапности (surprise).
Не упускайте двусмысленность этого термина во французском языке. Внезапность (surprise) связана с неожиданностью, например, в смысле: они были застигнуты врасплох (par surprise), когда говорят, например, о внезапных действия вражеских войск. Так же говорится о застигнутой врасплох Диане в кульминационной точке этого мифа, о котором, как вы понимаете, я вспомнил не просто так, поскольку все актеонические отношения, к которым я обращаюсь в конце своего текста Фрейдовская Вещь, La Chose freudienne, основаны на этом принципиальном моменте. Но есть и другой смысл этого слова. Диана застигнута врасплох, но тем не менее она не удивлена (surprise), тогда как удивление, напротив, не обходится без неожиданно сделанного открытия. Те, кто посещает мою презентацию больных, могут вспомнить, как один из наших пациентов, транссексуал, описал нам по-настоящему мучительный характер того болезненного удивления, которое он испытал в тот день, когда, по его словам, он в первый раз увидел сестру обнажённой.
Таким образом, на высшем градусе видеть и быть увиденным воображаемая диалектика достигает степени дать увидеть и удивиться открытию, когда сброшена вуаль. Только эта диалектика позволяет нам понять фундаментальный смысл акта видения. Она имеет принципиальное значение для образования перверсии и является совершенно очевидной в эксгибиционизме. Техника эксгибиционистского акта заключается в том, что субъект показывает, что он обладает именно тем, чего у другого нет. Заявления эксгибициониста позволяют заключить, что с помощью этого разоблачения он не просто старается поймать другого в ловушку визуальной зачарованности, а получает удовольствие от демонстрации другому того, чего тот предположительно не имеет, и одновременно провоцирует у него стыд за эту нехватку.
Именно на этом фоне разыгрываются все отношения Ганса с его матерью. Мать полностью в это вовлечена и с большим благоволением потакает интересу ребёнка к своему телу. Тем не менее она лишается самообладания, проявляет строгость, возражает, даже осуждает эксгибиционизм, когда маленький Ганс требует с её стороны участия в нём. Если воображаемый объект играет здесь принципиально важную роль, то происходит это по той причине, что он уже задействован в диалектике сокрытого и раскрытого (voilement et dévoilement).
Именно на этом повороте мы встречаем маленького Ганса и задаёмся вопросом, почему он формирует свою фобию примерно год спустя после того, как произошли важнейшие в его жизни вещи, а именно: родилась его младшая сестра и случилось

открытие того, что она, и она тоже, является принципиально значимым элементом в отношениях с матерью.
Мы уже отметили, что эта фобия появляется у ребёнка в процессе глубинных изменений всех его отношений с миром, и она нужна, чтобы признать то, что в конце концов должно быть усвоено, к чему порой субъект идёт всю свою жизнь. Речь идёт о признании того, что в привилегированной области мира, в мире ему подобных существуют субъекты, действительно лишённые этих пресловутых воображаемых фаллосов.
Было бы неправильно полагать, что достаточно иметь наукообразное и чётко сформулированное понятие, чтобы субъект принял нечто на веру. Глубинная сложность отношений между мужчиной и женщиной проистекает именно из того, что мы могли бы назвать на своём грубом языке сопротивлением субъектов мужского пола признанию того, что субъекты женского пола действительно кое-чем обделены и тем более того, что они наделены кое-чем другим.
Вот что должно быть чётко сформулировано и на что нам следует опираться в аналитическом опыте. Зачастую именно на этом уровне коренится устойчивое недопонимание, оказывающее влияние на всю концепцию мира субъекта, особенно в части социальных отношений. У субъектов, которые с улыбкой полагают себя прекрасно принимающими реальность, оно порой просто зашкаливает. Затушёвывание этого факта в нашем опыте показывает, насколько мы не способны извлечь пользу даже из самых элементарных терминов фрейдовского учения. Почему это так трудно признать? Возможно, мы доберёмся до ответа к концу нашего семинара в этом году.
Пока же вернёмся к наблюдению за маленьким Гансом и сформулируем, каким образом возникает проблема подобного признания у этого ребёнка. Почему она становится вдруг насущной, хотя до этого момента гораздо важнее было разыгрывать, что это не так? Для нас лишь задним числом проясняется, почему ему было так важно разыгрывать, что это не так.
Рассмотрим также, почему принятие реального лишения - необходимого для создания пригодных для жизни субъекта условий и возможности его интеграции в сексуальную диалектику способом, позволяющим человеческому существу не просто уживаться с ней, но и проживать - происходит лишь через усвоение данности того факта, что мать уже взрослая, что она уже включена в систему символических отношений, куда вписаны сексуальные отношения между людьми. Нужно, чтобы ребёнок сам пошёл по этому пути и испытал кризис Эдипа, в котором принципиальным моментом является кастрация. Именно это показывает пример маленького Ганса, но, может быть, не полностью и не лучшим образом. Возможно, именно в этой неполноте и проявится отчётливее всего принципиальный ход наблюдения.
Если этот анализ имеет особое значение, то потому, что мы непосредственно наблюдаем, как ребёнок совершает переход от воображаемой диалектики интерсубъективной игры с матерью вокруг фаллоса к игре кастрации в отношениях с отцом. Переход осуществляется последовательностью шагов, которые и представляют собой то, что я назвал сфабрикованными маленьким Гансом мифами.
Почему мы настолько отчётливо это видим? Я уже начинал это формулировать и возвращаюсь сейчас к пункту, на котором мы остановились.

2
В прошлый раз мы закончили на захватывающей фантазии маленького Ганса о двух жирафах, которая для нашего семинара может стать иллюстрацией перехода от воображаемого к символическому.
Маленький Ганс, прямо как фокусник, буквально показывает нам, что продублированный образ матери, её метонимия - это всего лишь кусок бумаги, смятый жираф, на которого он садится.
Здесь намечается контур основной схемы и находит своё подтверждение то, что мы на правильном пути. Если бы я специально хотел изобрести метафору перехода от воображаемого к символическому, я бы никогда не смог выдумать такую историю о двух жирафах во всех её подробностях, как это сделал маленький Ганс. Речь идёт о трансформации нарисованного образа в скомканный бумажный шарик, представляющий собой чистый символ, элемент, с которым можно обращаться как с таковым. И он усаживается на мать, которая, наконец, сводится к символу, к клочку бумаги - только он Гансу и остаётся, как Ля Шатру его расписка. Конечно, этого недостаточно, иначе бы он полностью исцелился, однако с помощью этого жеста он показывает нам, от чего он отделывается.
Как здесь не заметить, что спонтанные поступки ребёнка являются чем-то гораздо более прямым и жизненным, нежели умственные потуги взрослого существа после долгих лет усиленной кретинизации в процессе получения так называемого образования.
Посмотрим, что происходит, используя нашу таблицу, как если бы мы уже утвердились в своих представлениях. Что означает признать воображаемого отца в качестве того, кто окончательно устанавливает порядок всего мира, то есть определяет, что никто не обладает фаллосом? Это легко понять. Воображаемый отец - это отец всемогущий, основа миропорядка в общепринятой концепции Бога, гарантия универсального порядка в его наиболее массивных и жёстких элементах реальности, именно он - тот, кто всё создал.
Чтобы убедиться, что я сейчас не фабрикую некий смысл, только чтобы оправдать свою таблицу, вам нужно лишь обратиться к случаю маленького Ганса. Маленький Ганс дважды говорит о Боге и делает это очень забавно. Его отец начинает давать ему разъяснения и добивается некоторого улучшения, впрочем, непродолжительного. 15 марта, когда ребёнок выходит из дома и обнаруживает, что на улице чуть меньше, чем обычно, экипажей и лошадей, он говорит: «Как это мило и умно со стороны Бога, что сегодня меньше лошадей».
Что это значит? Мы об этом ничего не знаем. Значит ли это, что сегодня лошади нам не так нужны? Может быть и так, но gescheit в прямом смысле означает не мило, а хитро. Мы склоняемся к предположению, что Бог избавил его от трудностей, однако, поскольку лошадь представляет собой не только трудность, но и существенный элемент, это означает, что он, Ганс, меньше нуждается сегодня в лошадях. Как бы то ни было, Бог является важным пунктом.
Поразительно, что после встречи с Фрейдом - которая произошла 30 марта, сразу же после того, как он скатал из матери бумажный шарик, от чего не получил полного удовлетворения, но всё-таки встал на верный путь - маленький Ганс ещё раз упоминает Бога. Профессор должен был пообщаться с Богом, чтобы узнать у него то, что сказал

Гансу. Фрейд не упустил случая пощекотать своё самолюбие - его это одновременно позабавило и порадовало. Впрочем, он замечает, что, вероятно, сам в чём-то виноват, потому что из-за собственного бахвальства не преминул занять архиважное положение, с высоты которого изрёк: «Задолго до того, как ты родился, я предвидел, что однажды маленький мальчик будет слишком сильно любить свою мать, и из-за этого у него возникнут трудности с отцом».
Поразительно видеть Фрейда в этой позиции, впрочем, мы совершенно не собираемся его в этом упрекать. Долгое время я обращаю ваше внимание на то, что оригинальное, исключительное измерение, характерное для всех анализов Фрейда, основано на его способности предоставить субъекту толкование, которое не является созданной им формулировкой, но чем-то таким, что действительно обнаружено самим субъектом, будучи изречённым его собственными устами, в том измерении подлинной речи, принципиальной важности которого я вас постоянно учу. Нельзя не заметить, насколько интерпретации Фрейда отличаются от всех, на которые мы оказываемся способны после него. Множество раз мы могли убедиться в том, что Фрейд не пользуется заранее установленными правилами, и в данном случае он действительно занял позицию, которую я бы назвал божественной - он обращается к маленькому Гансу с горы Синай, и тот не преминул его в этом упрекнуть.
Хорошо усвойте, что позиция символического отца в том виде, в котором я обозначил её для вас в символической артикуляции, остаётся завуалированной. Занимая позицию абсолютного господина, Фрейд предстаёт не символическим, но воображаемым отцом, именно так Фрейд подходит к ситуации.
Очень важно иметь в виду особенности отношений Ганса с его аналитиком. Если мы хотим понять этот случай, мы должны отчётливо увидеть некоторую исключительную черту, которая выделяет его из всей массы других детских анализов. Ситуация сложилась таким образом, что элемент символического отца чётко отличим от отца реального и, как вы видите, от отца воображаемого. Вот чему - мы удостоверимся в этом позднее - мы обязаны отсутствием феноменов, например, переноса, так же как феноменов повторения; вот почему перед нами здесь чистая топографическая схема функционирования фантазмов.
Интерес этого наблюдения состоит также в том, чтобы показать нам, что Durcharbeitung, в противоположность общепринятым представлениям, не является простой переработкой, в результате которой то, что усвоено только на интеллектуальном уровне, отпечатывается на коже субъекта, пропитывает её. Durcharbeitung становится необходимой, потому что необходимо, чтобы определённое количество циклов, во многих смыслах этого слова, было пройдено, чтобы символизация воображаемого произошла надлежащим образом. Вот почему мы видим маленького Ганса блуждающим в лабиринте, и мы не можем полностью воссоздать траекторию его движения, поскольку отец постоянно сбивает его с пути своими интервенциями. Как подчёркивает Фрейд, отец даёт свои интерпретации не лучшим и не самым внимательным образом. Тем не менее мы видим, что производится и перерабатывается серия мифологических конструкций, в которых следует выделить их действующие составные элементы. И вместо того, чтобы сделать это, прикрываясь уже известными всем терминами, - комплекс этого, комплекс того, анальные отношения, привязанность к матери - попробуем лучше увидеть, какие функции, показательные и

образные элементы они заключают в себе, будучи при этом строго артикулированными так же, как и древние мифы.
По сложившимся правилам игры мы привыкли постоянно уравнивать: это представляет отца, это представляет мать, это представляет пенис. Тогда как каждый элемент - например, лошадь - можно осмыслить только в его отношении с определённым количеством других таких же означающих элементов. Невозможно соотнести лошадь, равно как и любой другой элемент фрейдовской мифологии, с одним единственным значением. Сначала лошадь - это мать, в итоге лошадь - это отец, промежуточно она может становиться и маленьким Гансом, который действительно время от времени играет в лошадь, и пенисом, который в этой истории тоже много раз был представлен лошадью.
То, что наиболее очевидно проявляется на примере лошади, также справедливо для любого существенного элемента, встречаемого в различных способах того изобильного мифотворчества, которому посвящает себя маленький Ганс. Ванна в какой-то момент была матерью, но в итоге становится задом маленького Ганса - это хорошо понимает как Фрейд, так и отец, да и сам маленький Ганс. Вы можете проделать такую же операцию с каждым элементом случая, с укусом, например, или наготой.
Чтобы вы распознали эти вещи, нужно приложить усилия к тому, чтобы на каждом этапе, в каждый момент наблюдения не пытаться что-то сразу понять. Это принципиальный момент метода. Вам следует придерживаться чёткой рекомендации Фрейда, которая дважды прозвучала в этом наблюдении: не понимать сразу. Лучший способ не понимать заключается в том, чтобы делать маленькие карточки и день за днём записывать на листе бумаги элементы, с которыми имеет дело Ганс, которые нужно принимать как таковые, как означающие. Я настоял на важности, например, совсем один с Мариэль. Если вы ничего не понимаете в нём, вы сохраните этот означающий элемент, и когда, скажем, во время еды, к вам вернётся соображение, вы обнаружите, как напрямую этот элемент сочетается с каким-то другим, который вы могли записать на этом же листке. Что означает не просто быть с кем-то, но быть совсем одному с кем-то? Это означает, что там мог быть ещё кто-то другой.
Метод анализа мифов, о котором идёт речь, предоставил нам Месье Клод Леви-Стросс в статье, опубликованной в Journal of American Folklore за октябрь-ноябрь 1955 года под названием Структура мифов. И теперь становится возможным на практике упорядочить все элементы мифа. Мы можем выстроить их в ряд таким образом, чтобы прочитанные в определённом порядке они смогли образовать последовательность. Однако возврат одних и тех же элементов - не простой возврат, но превращённый -требует их организовать, не просто последовательно выстроить в одну линию, но учесть суперпозицию их линий, как в партитуре, и тогда можно увидеть определённую серию последовательностей, читаемых скорее горизонтально, чем вертикально. Миф прочитывается в определённом направлении, но его смысл или его понимание обнаруживается в суперпозиции аналогичных элементов, которые возвращаются в различных формах, каждый раз преображаясь, безусловно, для того, чтобы проделать определённый путь, как говорил Месье де Ля Палис, из пункта отправления в пункт назначения, интегрируя тем самым в единую систему вещи, которые поначалу казались несовместимыми.
Также в истории маленького Ганса мы исходим из того, что в игру матери и ребёнка вторгается реальный пенис, это является нашим отправным пунктом, и в итоге

реальный пенис удаётся удовлетворительным образом разместить, и маленький Ганс может жить дальше без тревоги. Я сказал удовлетворительным, но не должным образом, поскольку может быть найдено ещё более полное решение, и мы ещё в этом убедимся. Комплекс Эдипа у маленького Ганса, по всей видимости, не достигает наиболее полного разрешения. Пройденного пути оказывается достаточно лишь для того, чтобы освободить от вмешательства фобического элемента, сделать необязательным сопряжение воображаемого с тревогой, называемой фобией, и уменьшить её.
На самом деле, если сразу перейти к эпилогу, заметьте, что в момент, когда Фрейд встречает Ганса в возрасте девятнадцати лет, тот ничего не помнит. Ему дают прочитать его историю, которая полностью им забыта. Фрейд замечательно сравнивает это забвение с тем, что происходит, когда субъект просыпается ночью, вспоминает сновидение и даже начинает анализировать его, - нам это знакомо - остаток ночи проводит за этим занятием, а на утро не помнит ничего: ни сновидения, ни анализа. Это весьма заманчивое сравнение, и оно позволяет нам вместе с Фрейдом увидеть, что в случае маленького Ганса - мы можем это ощутимо уловить - нет ничего сопоставимого с интеграцией или реинтеграцией субъектом своей истории, которая воссоздаётся посредством устранения амнезии с сохранением восстановленных элементов. Речь, напротив, идёт о совершенно особой деятельности на рубеже воображаемого и символического, принадлежащей тому же порядку, что и сновидение. В этой мифологизации, о которой говорится на протяжении всего наблюдения, сновидения играют важную экономическую роль, совпадающую по всем пунктам с ролью фантазий, и даже простых игр, и выдумок Ганса.
Не будем забывать, как Фрейд говорит нам мимоходом о том, что, когда Ганс читал свою историю, он всё-таки вспомнил некоторые моменты, по поводу которых сказал: «Действительно, это может иметь ко мне какое-то отношение». Речь шла о том, что касалось младшей сестры, и фантазиях, связанных с отношениями с ней. Родители Ганса на тот момент развелись, что можно было предвидеть ещё по ходу наблюдения, и Ганс не стал от этого более несчастным. Его единственной раной была младшая сестра, с которой он с тех пор был разлучён. Младшей сестре было уготовано судьбой представлять для него удалённый пункт, расположенный по другую сторону того, что доступно в любви, идеализированный объект любви, который в начале нашего анализа нашёл своё выражение в формуле girl = phallus, который в виде характерной черты (у нас нет сомнений на этот счёт, хотя это только прогноз) отметит своим стилем всю любовную жизнь маленького Ганса.
Несмотря на то, что анализ был проведён довольно умело, он не был, похоже, доведён до конца, установившиеся в результате объектные отношения полностью удовлетворительными назвать нельзя.
3
Но вернемся к исходной точке, к Фрейду, к отцу ребёнка, который является его учеником, и к инструкциям Фрейда, который, как мы видели, берёт здесь на себя свою собственную роль. Как он посоветует своему представителю вести себя? Он даст ему две рекомендации.

Первая рекомендация состоит из двух частей. Однажды, проинформированный о состоянии маленького Ганса, о его болезненных и тревожных переживаниях, Фрейд советует отцу объяснить ребёнку, что его фобия - это глупость, eine Dummheit, и что эта глупость связана с его желанием сблизиться со своей матерью. Вдобавок Ганса в течение некоторого времени очень занимает Wiwimacher, нужно убедить его, что, по его же собственным представлениям, это не очень правильно, unrecht, и именно из-за этого лошадь такая злая и хочет его укусить.
Это имеет далеко идущие последствия, поскольку прямо выводит на чувство вины. Этот прямой ход, с одной стороны, снижает чувство вины, поскольку ребёнку говорится о том, что это совершенно естественные и нормальные вещи, просто нужно навести в них порядок и немного контролировать, но, с другой стороны, акцентирует элемент запрета, по крайней мере относительного запрета, на мастурбационное удовлетворение. Мы увидим, каким будет результат.
Вторая рекомендация ещё более характерна для языка, который использует Фрейд. Поскольку удовлетворение маленького Ганса очевидно связано с обнаружением - именно по этой причине я принялся за диалектику открытия и внезапного появления -скрытого объекта, то есть пениса или фаллоса матери, то мы отнимем у него это желание, отняв у него предмет удовлетворения: «Вы скажете ему, что этого желанного фаллоса не существует». Буквально так это сформулировано Фрейдом в тексте случая на страницах 263 и 264 в томе Gesammelte Werke. Трудно найти лучший пример вмешательства воображаемого отца. Тот, кто в этом мире распоряжается, сам говорит, что искать здесь нечего.
Здесь же мы видим, насколько реальный отец не способен исполнить подобную функцию. Когда он пытается это сделать, Ганс реагирует совершенно иначе, чем предполагается, так же неожиданно, как это произошло в истории о двух жирафах. Сразу после подтверждения своего согласия с отсутствием фаллоса он придумывает следующую историю, которая просто прекрасна - он рассказывает, что видел, как мать, в рубашке и совсем голая, показала ему свой Wiwimacher, и он сделал то же самое, и свидетелем тому, что сделала мать, была няня, та самая Грета.
Великолепный ответ, идеально соответствующий тому, что я только что постарался для вас сформулировать. Дело именно в том, чтобы увидеть то, что сокрыто как сокрытое. Мать одновременно голая и в рубашке, точно как в истории про Альфонса Алле, который воскликнул, воздев руки к небу: «Посмотрите на эту женщину, она ведь под одеждой голая!» Мысль, чьё значение и влияние на метафизическую подоплёку вашего социального поведения вы, возможно, всё время недооцениваете, хотя для понимания человеческих отношений она принципиально важна.
В этой связи отец маленького Ганса, который не отличается способностью к восприятию чересчур замысловатых идей, говорит ему: «Но возможно либо одно, либо другое - она или голая, или в рубашке». В этом-то и вся проблема, что для Ганса она и голая, и в рубашке, как и для всех вас, здесь находящихся. Отсюда происходит невозможность утвердить порядок мира посредством авторитарного вмешательства. Очевидно, что воображаемый отец существует давно, существовал всегда, это некая форма боженьки, что, однако, не даёт нам способов решить свои проблемы, в чём мы непрерывно на собственном опыте убеждаемся.
Перед этой попыткой отец сделал предварительный подход, постаравшись по совету Фрейда снизить вину маленького Ганса. Он дал разъяснение по поводу связи

лошади с тем, что запретно - с прикосновением руками к пенису. Мы, через двадцать или тридцать лет, будучи уже другими аналитиками, благодаря полученному опыту хорошо знаем, что эта интерпретация, которая, в общем, имеет своей целью облегчить тревогу от чувства вины, всегда ведёт к неудаче, мы никогда не подходим к вопросу вины напрямую, не подвергая её предварительно метаболическим преобразованиям. Именно это не преминуло произойти с маленьким Гансом. Когда отец говорит ему, что лошадь - лишь пугающая замена того, на что ему не стоит обращать так много внимания, ребёнок, который до этого момента боялся лошадей, теперь обязан на них смотреть.
Задержимся на мгновение, чтобы рассмотреть этот механизм, заслуживающий нашего внимания. Что означает сказанное? То, что ему можно смотреть на лошадей. Как в тоталитарных системах, определяющихся тем, что всё разрешённое является обязательным, он воспринимает это разрешение как приказ. Маленькому Гансу разрешают подходить к лошадям, но в итоге возникает другая проблема: он чувствует себя обязанным на них смотреть.
Что может означать этот механизм, который я свёл к формуле «то, что разрешено, становится обязательным»? Мы имеем некоторый переход - нечто прежде запрещённое становится разрешённым и обязательным. Получается нечто наподобие механизма, сохраняющего в другой форме право на то, что было запрещено. Другими словами, то, на что сейчас следует смотреть, и есть то самое, на что прежде смотреть не следовало.
Что касается лошади, то мы уже знаем, что она кое-что защищает, поскольку фобия представляет собой форпост, защиту от тревоги. Лошадь отмечает собой предел, порог - это суть её функции. С другой стороны, возникает новый элемент, который путает субъекту карты, а именно реальный пенис. Говорит ли это о том, что лошадь является реальным пенисом? Определённо, нет. В дальнейшем большое количество примеров подтвердит вам, что лошадь очень далека от того, чтобы быть реальным пенисом, поскольку в преобразованиях мифологии Ганса она становится также и матерью, и отцом, и самим маленьким Гансом при случае. Обратимся здесь к важному понятию, обладающему символической функцией, которое я развивал на семинаре в позапрошлом году, опираясь на игру слов Ангелуса Силезиуса Ort - Wort, и скажем, что речь идёт о том месте, где, рискуя спровоцировать страх и тревогу, и должен расположиться реальный пенис.
Вместе с этим первым вкладом отца, пока ещё мало обнадёживающим, мы всё-таки замечаем у ребёнка появление означающей структуры. Она противостоит императивным вмешательствам отца, но будет тем не менее реагировать на интерпретации, пусть даже такие неуклюжие и путанные, порождая в ответ серию мифических образований, которые посредством ряда трансформаций мало-помалу интегрируют в систему Ганса новый элемент, выталкивающий его за пределы интерсубъективных уловок, в ходе которых Ганс застаёт врасплох, даёт застать врасплох себя самого, представляет отсутствующим и в то же время, по правилам этой игры, всегда присутствующим первый элемент своих отношений с матерью - тот третий, фаллический, объект, который в конечном итоге должен быть сам по себе интегрирован. Этот новый и неудобный элемент, с некоторого времени вступивший в игру, представляет собой, как вы знаете, его собственный пенис, его реальный пенис с его собственными реакциями, которые грозят разрушить всё в целом. Это явно и есть тот элемент, что привносит в серию воображаемых созданий Ганса беспорядок и смуту.

Поскольку сегодня 3 апреля, перейдём сразу же к событиям 3 апреля 1908 года, когда отец и ребёнок обсуждают, глядя в окно, происходящее во дворе напротив. Во дворе напротив уже задействованы означающие элементы, которые первыми поддержат Ганса в его проблеме и с помощью которых он создаст свою первую мифическую конструкцию «под знаком средства передвижения», как говорит нам Фрейд.
Вы помните, что он постоянно видит лошадей и движение экипажей, из которых разгружают вещи, видит детей, забирающихся на тюки, и так далее. Чему всё это послужит? Можете ли вы представить, что имело место загодя обеспеченное вековечным воображаемым отцом соответствие между средствами передвижения в эпоху правления императора Франца-Иосифа в Вене в период до 1914 года и влечениями, природными тенденциями, возникающими в установленном в процессе инстинктивного развития порядке? Дело обстоит совершенно противоположным образом. Эти элементы уже располагают своим местом в порядке реальности, но ребёнок пользуется ими как элементами, необходимыми для того, чтобы разыграть свои перестановки.
Я всегда возвращаюсь к тому, что использование означающего можно осмыслить, только если исходить из этого - только если принять в качестве основополагающей игры означающего перестановку. Какими бы цивилизованными и образованными вы ни были, ваша неуклюжесть в обыденной жизни, многообразие возможных перестановок ставит вас неизменно в тупик. Знаете, у меня есть галстук, у которого одна сторона немного светлее другой, и чтобы завязать его так, чтобы более светлая сторона оказалась лицевой, а более тёмная - обратной, мне необходимо мысленно просчитать перестановку, и я всегда ошибаюсь.
Порядок перестановок - вот что Ганс задействует в своих построениях. Не пытайтесь сразу понять, что означает лошадь, и экипаж, и маленький Ганс верхом, и разгрузка. Маленький Ганс хочет подняться в экипаж, но он боится. Чего он боится? Что экипаж тронется до того, как он сойдет на перрон. Не стоит поспешно отвечать: «Мы знаем, что он боится разлучиться с матерью», - маленький Ганс вас сразу разубедит. Он говорит: «Если я не успею сойти, я возьму извозчика и вернусь». Он прекрасно ориентируется в реальности. Соответственно, дело в другом. Важнее тот факт, что в экипаже он находится перед лицом чего-то, от чего тот может отделиться, по отношению к чему тот может переместиться.
Когда вы распознаете этот элемент, вы сможете его обнаружить в массе эпизодов случая маленького Ганса, например в его гораздо более поздней фантазии о поездке в Гмунден, где он с отцом также поднимается в поезд, а потом они не успевают одеться, чтобы с него сойти. Будет и много других, таких как одна из последних фантазий маленького Ганса, датированная 22-ым апреля, в которой он в совершенно голом виде торжественно посажен ямщиком в экипаж, не запряжённый лошадьми, проводит в нём ночь, чтобы наутро продолжить своё путешествие на том же самом экипаже, заплатив пятьдесят тысяч флоринов ямщику. Вы не можете пройти мимо очевидного сходства между этими моментами из разных фантазий маленького Ганса.
В этом же ключе вы можете рассмотреть фантазию о смелой и прекрасной маленькой Анне, где Ганс путешествует в экипаже, очень похожем на все предыдущие, поскольку он также запряжён вызывающими тревогу лошадьми. В рамках этого первого

мифа, который мы можем назвать мифом об экипаже, Анна поедет верхом на одной из лошадей.
Вы пытаетесь понять, как это связано, - именно об этом идёт речь, мы постоянно говорим о лошади, но она может быть с экипажем или без - каким образом различные означающие элементы, и ямщики, и оказавшийся закреплённым в некотором плане экипаж, получают разные значения по ходу развития сюжета. Вы пытаетесь понять, что в этом является наиболее важным и что влияет на продвижение Ганса. Играет ли свою рольозначающее, как я показал это в своём Семинаре «Об украденном письме», или дело в чём-то другом? Или это перемещение означающего элемента на различных персон, которые оказываются в его тени и в его распоряжении? Не связан ли прогресс с кружением означающего вокруг различных персон, к которым субъект испытывает интерес, и которые вовлечены в перестановочный механизм? Или прогресс состоит в чём-то противоположном? В данном случае для нас не ясно, в чём может заключаться прогресс, если только это не прогресс в порядке означающего.
Можно сказать, что в окружающей Ганса реальности нет ни одного элемента, с которым он был бы не в силах справиться; в этом наблюдении нет и следа того, что можно было бы назвать регрессией, и если вы полагаете, что регрессия имеет место, когда Ганс создаёт невообразимую фантасмагорию lumpf, то вы глубоко заблуждаетесь - это потрясающий мифический розыгрыш, не имеющий никакого отношения к регрессии. От начала и до конца наблюдения маленький Ганс непоколебимо защищает, если можно так выразиться, своё право на мастурбацию. Если есть нечто, в целом характеризующее прогресс маленького Ганса, то это именно его неуклонность - Фрейд также это подчёркивает. Как раз потому, что генитальный элемент у такого субъекта действительно прочный, настоящий, укоренённый, очень сильный, и возникает у него не истерия, а фобия. Это очень чётко сформулировано в наблюдении.
Мы постараемся разобрать это в следующий раз. Мы увидим, что маленький Ганс использует лишь один миф как единственный элемент алфавита, чтобы решить свои проблемы, то есть чтобы перейти от фаллического восприятия отношений со своей матерью к кастрированному восприятию взаимосвязей с родительской четой в целом. В наблюдении описана история с ванной и гаечным ключом, которая целиком вращается вокруг того, что я назвал логической функцией сфабрикованных деталей. Нельзя не отметить манеру, в которой этот ребёнок применяет в качестве логических инструментов элементы, сгруппированные вокруг изощрённых способов человеческой адаптации. Среди таких противопоставляемых друг другу элементов находятся, например, то, что укоренилось или принадлежит по природе, то продырявленное, тот страшный полюс, перед которым замирает охваченный страхом ребёнок, с одной стороны, и то, что прикручено, прижато, как в другом мифе о ванной и кране, с помощью плоскогубцев, с другой.
Весь прогресс, достигнутый Гансом в процессе наблюдения, прослеживается во всех подробностях в этой мифологической структуризации, то есть в использовании воображаемых элементов для исчерпания определённого количества операций символического обмена. Именно это сделает ненужным тот подающий сигнал о пределе пороговый элемент, ту первую символическую структуризацию реальности, которой и была фобия.
3 апреля 1957

глава 17 Означающее и острота
Золотое правило
Комбинаторное качество означающего
Ганс и Страна чудес Высмеивание и наивность То, что появляется из дыры
Функция мифа — вот что в ходе изучения случая маленького Ганса приобретает важное значение в том психологическом кризисе, который переживает ребёнок и который нельзя рассматривать отдельно от участия отца, направляемого советами Фрейда.
Мы не рассматриваем это общее понятие мифа метафорически. Мы придаём ему техническое значение, в соответствии с которым мы предполагаем возможным точно определить область его применения. В действительности, если даже творческая деятельность Ганса постоянно совершенствуется по мере поступления всё новых интерпретаций от отца, которые, будучи более или менее неумелыми, не пресекают её, но, наоборот, стимулируют в итоге производство серии мифов, тем не менее представляется затруднительным отделить эту творческую активность от его симптома, то есть от его фобии, с которой она каким-то образом связана.
1
В прошлый раз мы достигли торжественного дня, 3 апреля, когда прозвучали высказывания Ганса о содержании его фобии.
Вечером этого же дня отец резюмирует, что если его сын и стал в своём поведении более смелым благодаря интерпретации, сделанной 30 марта Фрейдом, то и фобия, в свою очередь, приобрела больший размах, обогатилась в совершенно неразличимой двусмысленности более тонкими и сложными деталями, поскольку Ганс лучше приспособился к режиму, в котором фобия подавляет и подчиняет его себе.
Как вы могли заметить, здесь я прилагаю усилия, чтобы перевернуть или скорее переустановить ваши представления об истинной функции как симптома, так и его разнообразно определяемых продуктов, которые в анализе обобщаются под именем переходных симптомов. Для того, чтобы вы могли ощутить область применения нашего подхода, я постараюсь обозначить некоторое количество терминов, определений и одновременно правил.
Как я говорил вам об этом в прошлый раз, если мы намерены действительно придерживаться фрейдовского пути, заниматься действительно аналитической работой, которая бы соответствовала тем показательным примерам, которые оставил нам Фрейд, мы должны усвоить факт, который обнаруживается только при условии различения означающего и означаемого - ни один из означающих элементов фобии не имеет единственного смысла, не является эквивалентом единственного означаемого.
Случай маленького Ганса предоставляет множество тому примеров. Прежде всего, конечно, лошадь. Никак нельзя расценивать эту лошадь в качестве единственно возможного эквивалента, например, функции отца. Было бы слишком лёгким решением воспользоваться классической формулой из Тотем и табу и сказать, что лошадь как
| текст по-русски:перевод Мощенко С.редакция и коррекцияКольцова И., Золотарёв В. |  |
206
некий новый элемент стала ответом на несостоятельность отца и была его заменой или эквивалентом, некоторым образом представляя или воплощая его. Сказать, что лошадь играет роль, определяемую тем, что, по-видимому, действительно является трудностью того момента, а именно трудностью перехода от доэдипального этапа к моменту - в физическом смысле слова - эдипальному, было бы, без сомнения, подтверждением того, чему я вас учу, но при этом оставалось бы совершенно недостаточным. Лошадь вполне может оказаться чем-то совсем другим, как в случае того гордо вышагивающего коня, увиденного Гансом на улице, который, напротив, ассоциируется с мужественностью отца.
Ближе к завершению лечения, в его кульминационный момент, происходит примечательный разговор с отцом, в котором звучат следующие слова: «Ты, должно быть, злишься на меня за то, что я занял это место, завладел вниманием моей мамы и занял твое место в её постели». И это несмотря на возражения отца, который уверял, что никогда не злился на Ганса. «Das muss wahr sein», - снова говорит Ганс, «должно быть, это правда». Так ребёнок, получающий в течение некоторого времени надлежащие наставления, воссоздаёт эдипов миф с совершенно особой императивностью, которая, кстати, не преминула поразить некоторых авторов, в частности Роберта Флисса, написавшего об этом статью для номера МПЖ, посвящённого столетию Фрейда в январе-феврале 1956 года.
Лошадь, прежде чем окончательно реализовать эту метафорическую функцию, сыграла множество других ролей. Упоминается, например, запряжённая лошадь. 3 апреля Ганс даёт нам по этому поводу все возможные объяснения. Запряжена ли эта лошадь? Запряжена ли она в экипаж для одной или для двух лошадей? Если в тот самый момент лошадь что-то и символизирует, так это мать, как это ещё лучше прояснится в дальнейшем. Также лошадь символизирует пенис. В любом случае она неразрывно связана с нагруженной телегой, как Ганс настаивает на этом во время сеанса 3 апреля, когда он объясняет, какого рода удовлетворение приносит ему наблюдение за движением всех этих прибывающих и уезжающих, разгружаемых и нагружаемых перед их домом телег. Постепенно в значении экипажа, а вместе с ним и лошади, намечается эквивалентность с беременностью матери, с детьми в её животе, которые оттуда выходят, рождаются. Таким образом, лошадь в этот момент исполняет совершенно иную функцию.
Другой элемент, долгое время занимавший внимание как отца, так и Фрейда, это памятный Krawall, то есть шум, гвалт, беспорядочный гам, значение которого в некотором более широком смысле может применяться вплоть до описания буйной сцены, скандала. В любом случае характерными чертами Krawall в восприятии маленького Ганса является беспокойство и тревога. Особенно, когда падает, umfallen, лошадь, запряжённая в омнибус, что, по словам Ганса, стало одним из событий, наделивших лошадь фобическим значением. Именно тогда его настигает Dummheit, глупость. Это однажды случившееся падение с тех пор всегда присутствует на фоне страха лошадей. Это то, что всегда может произойти с какими-то лошадьми, особенно с большими лошадьми, которые запряжены в нагруженные телеги. В расспросах маленького Ганса падение, сопровождающееся грохотом ударов копыт о землю, Krawall, возвращается в разных смыслах, и никогда, ни в один момент наблюдения, интерпретация не будет окончательной.

Впрочем, следует отметить, что по ходу наблюдения Фрейд, как и отец, пребывает в сомнениях, противоречивом понимании и даже в замешательстве по поводу интерпретации некоторых элементов. Взрослые, как оказывается, совершенно напрасно давят на ребёнка, предлагая ему разнообразные эквиваленты и всевозможные решения, и получают от него только уклончивые ответы, намёки и отговорки. Иногда возникает впечатление, что ребёнок в некотором смысле потешается над ними.
Вообще говоря, это не вызывает сомнений. Пародийный характер некоторых выдумок ребёнка налицо. В первую очередь мне приходит в голову всё то, что касается сочинённого Гансом настолько шикарного, настолько богатого, насыщенного юмористическими элементами мифа об аисте - он заходит, снимает свою шляпу, достаёт ключ из кармана и т.д. Эта настолько карикатурная пародия неизменно поражает наблюдателей.
Следует ли в таком случае поставить вопрос о недостаточности или даже незавершённости наблюдения? Совершенно наоборот, в нашей перспективе это приобретает значение, находит своё место и ведёт в самую сердцевину вопроса. Эти двусмысленности представляют собой характерную для наблюдения наглядную фазу, путь, следуя которому мы можем найти способ для осмысления того, о чём идёт речь в фобии, настолько же простой, насколько и насыщенной, с одной стороны, и с другой стороны, в самой по себе аналитической работе. Будучи фрейдовским, то есть вдумчивым, наблюдение этого случая наилучшим образом иллюстрирует тот факт, что означающее как таковое отличается от означаемого.
Строение симптоматического означающего по самой природе своей таково, что в процессе развития и эволюции оно покрывает множество самых разнообразных означаемых. В этом состоит не просто его природа, но его функция.
Означающий аппарат случая как совокупность означающих элементов, представленный нам в этом фрагменте наблюдения, таков, что, если мы не хотим, чтобы это наблюдение оставалось для нас загадкой, нам придется следовать ряду правил. Действительно, не понятно, почему путаным или даже провальным считается наблюдение именно этого случая, а не наблюдения того или иного автора, на которые мы привыкли ссылаться. Тем не менее нас не может не поражать произвольный, требовательный, систематический характер аналитических интерпретаций, особенно тех, которые получает ребёнок. Свидетельство этому здесь перед нами именно по причине поразительного богатства и сложности наблюдения и благодаря тому, что предоставленное нам в регистре произведённых образований отличается редкостным изобилием. Попав в это измерение, определённо ощущаешь, как легко в нём можно заблудиться. Вот почему я хотел бы предложить вам по этому поводу правила, которые могут быть сформулированы приблизительно в следующем виде.
Эти правила, будь то анализ ребёнка или взрослого, касаются всякого элемента, который мы можем рассматривать как означающее в том смысле, которого мы здесь придерживаемся, то есть речь может идти об объекте, отношении, симптоматическом акте независимо от того, насколько они просты или запутаны.
Подумайте о первом появлении лошади. Это происходит через некоторое время после того, как у ребёнка возникает тревога. Лошадь играет здесь роль, которую следует определить и которая уже весьма отчётливо отмечена диалектическим характером. Это достаточно ощутимо в следующих обстоятельствах. Тревога возникает, когда уходит мать, именно в тот момент ребёнок боится, что в комнату войдёт лошадь. Но с другой

стороны, кто входит в комнату? Он сам, маленький Ганс. То есть имеет место очень противоречивое двойственное отношение, которое посредством чувственной тональности тревоги связано с функцией матери, с одной стороны, но и с маленьким Гансом посредством его движения и его действия, с другой. Таким образом, лошадь с момента своего появления нагружена глубокой двусмысленностью. Это уже знак, который, как типичное означающее, годится на всё. В наблюдении случая маленького Ганса это обнаруживается на каждом шагу.
Итак, мы устанавливаем следующее правило: никакой означающий элемент, объект, отношение, симптоматический акт, например, в неврозе не может рассматриваться как имеющий одно единственное значение.
Это является следствием того, что касается темы текущего года. Означающий элемент не является эквивалентом какого бы то ни было объекта или отношения и даже действия из числа принадлежащих нашему регистру воображаемого, на который опирается понятие объектных отношений в том виде, в котором оно применяется сейчас, подразумевая нормирование, прогресс в жизни субъекта, генетическую предопределённость и целесообразность развития. Безусловно, это понятие, расположенное в регистре воображаемого, не лишено смысла, но оно преподносит неразрешимые противоречия, когда мы пытаемся его как-то артикулировать. Мне достаточно прочитать вам отрывки из двух сборников, вышедших в начале этого года, чтобы вам показалось, будто я их высмеиваю. Противоречия в заигрывании с этим понятием бросаются в глаза с тех пор, как, полагаясь на идею развития, его стараются вписать в порядок прегенитальных отношений, которые генетализируются.
Таким образом, если мы следуем нашему золотому правилу, опирающемуся на представление о структуре символической деятельности, означающие элементы изначально следует определять в их отношениях с другими означающими элементами. Именно это даёт основания для предпринятого нами сближения с недавно появившейся теорией мифа.
Той, которая чрезвычайно точно соответствует нашему способу иметь дело с фактами и артикулировать наблюдения. Чем руководствуется Месье Леви-Стросс в своей статье в Journal of American Folklore? С помощью чего раскрывается представление о структурном изучении мифа в его тексте? С помощью заимствованного у одного из его товарищей, Хокарта, замечания о том, что если и есть нечто такое, что необходимо пересмотреть в первую очередь, то это сама по себе позиция, которая сохраняется на протяжении многих лет в угоду соблюдению некоей антиинтеллектуальной гигиены, состоящей в отказе от психологических интерпретаций в предположительно интеллектуальной области в пользу их размещения в поле, определяемом как аффективное. «В этой позиции, - категорически заявляет этот автор, - к присущим психологической школе заблуждениям ... добавляется также ошибочное суждение о том, что запутанные эмоции могут порождать ясные идеи».
То, что здесь названо психологической школой, пытается найти источник мифологии в своеобразной общечеловеческой философской константе. Мало того, она совершает ошибку, пытаясь вывести из этого источника чётко определённые и ясно очерченные идеи, с которыми мы всегда имеем дело как в мифах, так и в симптоматических образованиях. Она возводит к смутному импульсу то, что чаще всего выражается пациентом в чётко артикулированной форме. В этой артикуляции и заключается парадокс феномена и представляет его нам в паразитарном виде. Нужно

лишь не путать его с игрой разума, с потоком дедуктивных умозаключений. Оценить его можно, таким образом, лишь в давно преодолённой перспективе бредовой рационализации, например, или симптома. Наша перспектива, напротив, даёт нам представление о том, что субъект вовлекается в игру означающего, которая уводит его далеко за пределы того, что он может постичь интеллектуально, но у игры этой есть тем не менее свои правила.
Я хотел бы показать вам это с помощью образа. Когда маленький Ганс мало-помалу выводит на наше обозрение свои фантазмы, что мы видим в нашей перспективе, стоит лишь нам открыть глаза? Когда мы приступаем к осмыслению истории развития невроза у субъекта, когда мы рассматриваем, каким способом субъект оказывается в него вовлечён и им захвачен, то, как правило, что мы видим? Субъект не входит в него прямиком, он входит в него, некоторым образом, пятясь назад. С момента, когда тень лошади нависает над маленьким Гансом, он постепенно входит в обстановку, которая упорядочена, организована, выстроена вокруг него, но которая захватывает его гораздо больше, чем развивает. Что поражает, так это артикуляция, в которой этот бред получает своё развитие.
Я сказал бред - и это почти оговорка, случайный ляп, поскольку то, о чём идёт речь, не имеет ничего общего с психозом, но сам термин не является здесь неуместным. Никоим образом нельзя полагаться на то, что может быть выведено из расплывчатого материала эмоций. У нас складывается противоположное впечатление, что умозрительное построение - если мы можем использовать это выражение в случае маленького Ганса - располагает своей собственной мотивацией, своим собственным планом, своей собственной требовательностью. Возможно, это соответствует той или иной потребности или функции, но точно не объясняется какими-то особенными побуждениями, порывами, эмоциональными всплесками, которые можно было бы как-то в этом построении учесть или даже просто выразить. Речь идёт о совершенно другом механизме, понимание которого требует структурного изучения мифа. Его первый шаг состоит в том, чтобы никогда не принимать во внимание какой бы то ни было означающий элемент независимо от возникающих в его окружении других, которые некоторым образом его раскрывают, я имею в виду, развивают его в ряд последовательных противоречий, расположенных, самое главное, в комбинаторном порядке.
То, возникновение чего мы видим у маленького Ганса, не является темами, более или менее соответствующими неким аффективным или психологическим эквивалентам, это группы означающих элементов, последовательно переходящих из одной системы в другую. Возьмём для иллюстрации один пример.
Первые попытки разъяснений отца, направляемые Фрейдом, высвобождают этот особенно болезненный элемент, связанный с лошадью, что вынуждает Ганса обязательно на неё смотреть. В дальнейшем ребёнок испытывает облегчение благодаря запрету, который отец налагает на мастурбацию. Мы вплотную подошли к первой попытке проанализировать озабоченность Ганса по поводу его писающего органа или, как он его называет, Wiwimacher. Путём Aufklarung, реального разъяснения, отец старается наиболее прямо присоединиться к тому единственному, на что, по его мнению, реально опирается тревога ребёнка: он рассказывает ребёнку - и это Фрейд побудил его сделать интерпретацию в таком смысле - что у маленьких девочек этого нет, а у него это есть. Ганс проявляет понимание и в манере, значение которой не

ускользает от Фрейда, подчёркивает, что его «делатель пипи» angewachsen, является вросшим, укоренённым и будет расти вместе с ним.
Не намечается ли здесь нечто такое, что отменяет надобность фобической поддержки? Так бы оно и было, если бы речь шла о реальном, если бы фобия была связана с восприятием реального, которое к этому моменту ещё не было полностью осознано. В этот момент мы и видим появление фантазма о большом жирафе и маленьком жирафе.
Я уже показывал вам, что эта фантазия переносит нас в поле творчества, стиль и символическая взыскательность которого являются совершенно поразительными. Повторю для тех, кто этого не слышал - я придаю большое значение, и так может быть только в нашей перспективе, тому факту, что Ганс не видит никакого противоречия или неоднозначности в том, что один из жирафов, маленький, может быть смятым. И смятый жираф - это жираф, которого можно смять, поскольку он сделан из листа бумаги; Ганс нам это демонстрирует. Это вмешательство подталкивает объект, который до этого момента обладал воображаемой функцией, к его радикальной символизации, осуществляемой самим субъектом, подчёркнутой последующим жестом овладения и захвата, если так можно выразиться, символической позиции - он усаживается на маленького смятого жирафа, невзирая на крики и протесты большого. Это приносит Гансу особое удовлетворение. Это не сновидение, это - фантазия, созданная им самим; Ганс приходит в комнату своих родителей, чтобы рассказать о ней, и развивает её.
В очередной раз мы остаёмся в недоумении относительно того, о чём идёт речь. Становится заметным колебание смысла самого наблюдения. Сначала, в понимании отца, большой и маленький жирафы - это отец и мать. Тем не менее он совершенно определённо говорит, что большой жираф - это мать, а маленький - её член, ihr Glied. Вот другая форма или значение взаимосвязи двух означающих. И это ещё не всё. Отец предпринимает новое вмешательство, говоря матери: «До свидания, большой жираф». Ребёнок, принимавший до сих пор другую интерпретацию, отвечает словами, во французском переводе утрачивающими своё значение - он не говорит: «не так ли?», как это переведено на французский, он говорит: «неправда, Nicht wahr». И добавляет: «Маленький жираф - это Анна?»
Что мы здесь наблюдаем? К чему здесь этот другой способ интерпретации? Действительно ли это Анна и её Krawall? Ведь мы увидим в дальнейшем, что маленькая Анна, похоже, сильно раздражает Ганса своими криками, которые мы, привыкнув быть внимательными к означающим элементам, не можем не идентифицировать с криком матери в этом фантазме.
Что в конечном итоге означает постоянная неоднозначность, в которой мы оказываемся в части интерпретации двух условий символических отношений? Шутка или даже насмешка, которая звучит в словах Ганса «неправда», сама по себе указывает нам на смехотворность усилий отца попарно сопоставить символические термины с воображаемыми или реальными элементами, которые они призваны представить. Отец выбирает ложный путь, и Ганс постоянно ему на это намекает, говорит: «Это не так и никогда так не будет».
Почему так никогда не будет? Потому что это связано с тем, с чем Ганс имеет дело, когда возникает фобия, с тем, с чем ему приходится разбираться в тот момент, о котором мы говорим. Речь идёт именно об образовании особых связей, которые до сих пор не

были им налажены и которые обладают подлинным значением символических отношений.
Человек, будучи человеком, стоит перед лицом проблем, которые как таковые являются проблемами означающих. Означающее, в действительности, вводится в реальное самим своим существованием в качестве означающего, потому что есть слова, которые произносятся, потому что есть фразы, которые формулируются и складываются с помощью переходных элементов, сочетаются связками порядка почему и потому что. Именно существование означающего создаёт в мире человека возможность привнесения нового смысла. Используя термины, которые я недавно применил в конце небольшого введения в первом выпуске Психоанализа, символ придаёт вещам диаметрально противоположный ход, чтобы придавать им другой смысл. Таким образом, это проблемы производства смыслов со всей присущей им свободой и неоднозначностью и всегда открытой возможностью произвольно свести всё на нет.
Острота всегда возникает совершенно произвольно, и Ганс ведёт себя как Шалтай-Болтай в Алисе в Стране Чудес. В любой момент он может сказать: «Всё так, потому что я так постановил, потому что я здесь хозяин». Это не мешает ему полностью посвятить себя решению проблемы, которая возникает у него в связи с необходимостью пересмотреть до сих пор имевший место способ отношений с материнским миром, организованным диалектикой игры в приманку между ним и его матерью, на важность которой я вам уже указывал. У кого из них двоих есть фаллос, а у кого нет? Чего желает мать, когда она желает чего-то, кроме меня, ребёнка? Вот до чего ребёнок дошел и чего он не может больше держаться.
Функция мифа вписывается именно сюда. Как нам показывает структурный анализ, который как раз и является корректным анализом, миф всегда представляет собой попытку сформулировать решение проблемы. Речь идёт о переходе от одного вышеупомянутого способа понимания субъектом взаимоотношений с миром или обществом к другому - трансформация обусловлена появлением новых элементов, вступающих в противоречие с первой формулировкой. Они, некоторым образом, требуют перехода, который как таковой невозможен, который является тупиком. Вот в чём заключается структура мифа.
Так же и Ганс сталкивается с элементами, требующими пересмотра первого наброска символической системы, которая структурировала его отношения с матерью. И это связано с возникновением фобии, но гораздо больше с развитием всего того, что она привносит в качестве означающих элементов. Вот с чем сталкивается Ганс. Вот почему все попытки фрагментарного прочтения, беспрерывно возобновляемые отцом, кажутся ему смехотворными.
2
По поводу стиля ответов Ганса я не могу удержаться, чтобы не обратить ваше внимание на эту невероятную, замечательную работу Фрейда под названием Witz, которая до сих пор незаслуженно мало применяется в нашем опыте.
Это произведение абсолютно не имеет аналогов в том, что можно назвать психологической философией. Я не знаю ни одного произведения, обладающего такой же новизной и чёткой ясностью. Все произведения о смехе, написанные Бергсоном или другими авторами, оказываются никудышно блёклыми по сравнению с этим.

Witz Фрейда прямо, без обиняков и умозаключений второстепенной важности указывает на суть природы феномена. Так же, как и с первой главы Толкования сновидений, на передний план выведено то, что сновидение - это ребус, но никто этого не усвоил, и данная формула так и остаётся непонятой; аналогичным образом, похоже, не усвоено и то, что анализ остроты начинается с зарисовки анализа феномена сгущения в образовании слова фамиллионерно, основанном на означающем, появившемся в результате взаимного наложения фамильярно и миллионер. Весь последующий ход мысли Фрейда состоит в демонстрации эффекта уничтожения, по-настоящему разрушительного, подрывного характера игры означающего по отношению к тому, что можно назвать реальным существованием. В игре с означающим человек ставит на карту весь свой мир до самого его основания. Суть остроты и то, в чём состоит её отличие от комического, - это её способность играть на заложенной в любом смысле подоплёке бессмыслицы.
Всегда есть возможность поставить под сомнение любой смысл, поскольку он опирается на использование означающего. На самом деле такое использование само по себе глубоко парадоксально по отношению к любому возможному значению, поскольку само такое использование и создаёт то, что оно предназначено поддержать.
Различие между остротой и комическим совершенно ясно, но в своей книге Фрейд касается его лишь во вторую очередь, чтобы по контрасту с остротой выявить суть комического. Сначала он вводит промежуточные понятия и обращает наше внимание на неоднозначное измерение наивного, почему я и делаю это отступление.
С одной стороны, совершенно очевидно, что в проявлениях наивного может возникать комический эффект, который, поскольку он существует, нужно обозначить. Но, с другой стороны, вы прекрасно видите, в какой степени наивное является интерсубъективным. Это мы предполагаем, что ребёнок наивен, но не без того, чтобы не испытывать по этому поводу некоторых сомнений. Почему?
Возьмём пример. Фрейд иллюстрирует наивность историей о детях, которые устраивают большое вечернее мероприятие для взрослых, где обещают показать им маленькую театральную постановку. В кукольном театре начинается действие. Юные авторы и актёры, говорит Фрейд, рассказывают историю о муже и жене, которые живут в полной нищете, они ищут выход из своего положения, и муж отправляется в дальние страны, он возвращается, совершив великие подвиги и очень разбогатев. Он сообщает о своём благосостоянии жене, которая, выслушав его, открывает занавес в глубине сцены и говорит: «Смотри, я тоже хорошо поработала, пока тебя не было». Зрители видят десять кукол, выстроенных в ряд.
Вот такой пример даёт Фрейд для иллюстрации наивного. Чтобы уловить в этом форму комического, можно сказать, что разрядка возникает из-за неожиданной экономии, случившейся благодаря упомянутому рассказу. В других обстоятельствах, прозвучав из менее наивных уст, он вызвал бы напряжение, порождающее, возможно, даже неловкость. Смех вызывает тот факт, что ребёнок, не испытывая по этому поводу ни малейшего неудобства, переступает границу дозволенного. Это становится очень забавным (drôle), принимая во внимание те странные ассоциации, которые могут в связи с этим словом возникать.
Здесь мы находимся в сопредельной комическому зоне. Экономия, о которой идёт речь, касается тонкого процесса преобразования, которому должна была бы подвергнуться эта конструкция для того, чтобы быть высказанной взрослым. Ребёнок

прямо переносит нас на вершину абсурда. Он производит своего рода наивную остроту. По поводу этой забавной истории, вызывающей смех, поскольку звучит она из уст ребёнка, взрослым остаётся лишь восторженно воскликнуть: «Какие эти детишки всё-таки уморительные!» При всей своей невинности они с первого взгляда находят то, что взрослый может обнаружить, лишь приложив гораздо больше усилий, и что потребует от него дополнительной тонкой обработки для того, чтобы оно могло быть представлено в качестве забавной шутки.
Но у взрослого остаётся сомнение в том, что невежество, которому дано здесь угодить в цель, является полным. Мы рассматриваем эти детские истории, вызывающие некоторый конфуз, провоцирующий наш смех, в перспективе наивного. Но мы хорошо знаем, что не всегда эту наивность следует понимать буквально. Можно быть наивным и можно притворяться наивным. Приписывая детской комедийной игре притворную наивность, мы тем самым наделяем её характером наиболее тенденциозной остроты, Witz, как говорит об этом Фрейд. Достаточно предположения, что эта наивность не полная, чтобы дети одержали верх и стали хозяевами игры.
Другими словами, Фрейд подчёркивает - я прошу вас обратиться к тексту - что острота всегда предполагает участие третьего лица. Некто высказывает остроту кому-то другому. Вне зависимости от того, присутствуют ли в действительности трое, эта троица необходима, чтобы острота вызвала смех, тогда как для комического довольно двоих. Комическое может возникнуть между двумя. Когда один видит, как другой падает, например, или каким-то нарочитым и неуклюжим образом пытается совершить простое действие, уже этого самого по себе может быть достаточно, говорит нам Фрейд. Наивность же, напротив, в большей или меньшей степени предполагает участие, хотя бы и виртуальное, третьего лица. Нет оснований полагать, что помимо этого ребёнка, которого мы считаем наивным, там нет Другого - и вообще-то, он там есть - мы так смеёмся только потому, что подразумеваем его присутствие. В конце концов, вполне может статься, что ребёнок напускает на себя наивный вид, то есть он притворяется.
Это измерение символического является именно тем, что так хорошо ощущается в постоянных розыгрышах и высмеивании отца, которое сопровождает все высказывания Ганса и задаёт им тон.
Отец спрашивает своего сына: «Что ты подумал, когда увидел, как лошадь упала?» Ганс говорит нам, что подхватил глупость именно в связи с этим падением. «Ты подумал, - ведя себя как слон в посудной лавке, говорит отец, - что лошадь умерла». Как позже отмечает отец, сначала Ганс с совершенно серьезным видом отвечает: «Да, я действительно так и подумал». А потом вдруг оживляется, смеётся - это записано - и говорит: «Ну нет, это неправда, это просто шутка, Spass, я её только что придумал».
Наблюдение испещрено маленькими штрихами такого рода. Это был только один пример. После того как Фрейд увлёкся на мгновение трагическим отзвуком падения лошади, - можно ли быть уверенным, что этот трагический отзвук, как и многое другое, имеет место в психологии маленького Ганса? - он переключается на другой, отцовский, образ: отец с усами и в очках, которого он видит на консультации рядом с Гансом. С одной стороны, очень нарядный, забавный маленький весельчак, а рядом с ним -полноватый, щеголеватый, сверкающий своими очками и исполненный добрыми намерениями его отец. Некоторое время Фрейд колеблется. Когда они задаются вопросом пресловутой черноты у лошадиного рта и думают, а что бы это могло значить, Фрейд говорит: «Ну вот, вытянутая голова, это ведь осёл». А когда я говорю осёл...

Всё-таки эта неуловимая чернота возле рта лошади представляет собой зияние реального, всегда скрытое за вуалью и за зеркалом, и оно всегда появляется на фоне в виде пятна. Откровенно говоря, возникает своего рода короткое замыкание между божественным характером профессорского превосходства, который не без юмора подчёркивает Фрейд, и тем суждением, которое, судя по признаниям современников, всегда было готово сорваться у Фрейда с губ и которое выражается во французском написании третьей буквой алфавита с последующим троеточием. Ну и м...к, думает Фрейд, говоря себе, что находящееся перед ним пересекается и сходится с интуитивным видением бездонности открывающейся перед ним глубины.
Нет никаких сомнений, что в таких условиях маленький Ганс проявляет себя в игре достаточно хорошо, когда приходит в себя, смеётся и неожиданно отменяет всю длинную тираду, которую сказал отцу. У нас создаётся впечатление, что он говорит ему: «Я вижу, к чему ты клонишь». Поначалу он допускает, что слово «умереть» означает то же, что и «упасть», но потом он говорит себе: «Ты повторяешь мне урок Профессора». Действительно, Профессор намекнул именно на то, что Ганс очень зол на отца и желает ему смерти.
Этот эпизод вносит свой вклад в наши правила. Прежде всего, необходимо воспринимать означающие в их принципиально комбинаторном качестве. Набор означающих вступает в игру, перестраивая реальное, внедряя в него новые комбинаторные отношения. Возвращаясь к нашей отсылке к первому номеру Психоанализа, стоит заметить, что символ функции означающего нашёл своё место на его обложке не просто так. Означающее представляет собой мост в область значений. Следовательно, ситуации не воспроизводятся им, а трансформируются, воссоздаются.
Вот о чём идёт речь, именно поэтому в своих вопросах мы всегда должны ориентироваться на означающее.
3
В разговоре о маленьком Гансе мы должны быть внимательны даже к тому, в какой последовательности он использует означающее, с чего начинает и к чему приходит.
Я имею в виду очерёдность этапов, которые он проходит за первые пять месяцев 1908 года. Мы видим, что маленький Ганс интересуется тем, что загружается и разгружается, или тем, что вдруг более или менее резко приходит в движение и может преждевременно тронуться и отойти от платформы. С этим связаны разнообразные фантазматические означающие элементы, которые вращаются вокруг темы движения, точнее, вокруг того, что в теме движения является модификацией, развитием, вообще-то говоря, мастурбации. Это сущностный элемент структуризации первых фантазмов, затем постепенно возникают другие, среди которых мы не можем не обратить особое внимание на панталоны матери: одни жёлтые, другие чёрные.
За пределами тех перспектив, которые я пытаюсь для вас открыть, этот отрывок необъясним. Отец, так сказать, расписывается в своём бессилии. Что касается Фрейда, то он, хотя и говорит, что отец напрочь затоптал все следы, тем не менее намечает для нас некоторые перспективы в примечании в конце текста. Отец, очевидно, упустил фундаментальную оппозицию, связанную с разницей звука мочеиспускания мужчины и женщины.
Кажется, что Ганс рассказывает об очень непонятных вещах. В процессе носки панталоны чернеют, говорит он, причём из прежних его слов следует, что когда они

жёлтые, они имеют для него одно значение, а когда чёрные - другое; когда они не на матери, ему хочется плеваться, а когда они на матери, ему не хочется плеваться. Короче говоря, Фрейд настаивает на том, что, без всяких сомнений, Ганс хочет здесь нам показать, что панталоны имеют для него совершенно разное значение в зависимости от того, надеты они на мать или нет.
Таким образом, мы имеем достаточно указаний на то, что сам Фрейд склоняется к полной диалектизации, если можно так выразиться, того, что означает эта пара жёлтых и чёрных панталон. Во время долгого и подробного разговора, в процессе которого маленький Ганс и его отец пытаются сообща разобраться в вопросе, эта пара может пригодиться только для того, чтобы выявить ряд противоположностей, которые следует искать в чертах, которые поначалу могут оказаться незамеченными, по крайней мере они совершенно точно останутся незамеченными, если грубо идентифицировать жёлтые панталоны с мочой, например, а чёрные панталоны - с калом, который в языке Ганса обозначен как loumf.
На самом деле ошибочно идентифицировать loumf с калом, тем самым недооценивая этот важный для Ганса элемент. Мы располагаем свидетельством самого отца о том, что loumf является модификацией слова Strumpf, что означает чёрный чулок, который в другом месте наблюдения ассоциируется маленьким Гансом с чёрной блузкой. Необходимо исходить из сущностной функции одежды, которая заключается в том, чтобы скрывать. Также одежда представляет собой экран, на который проецируется главный объект доэдипального исследования Ганса, а именно отсутствующий фаллос. То, что экскременты могут быть обозначены термином, связанным с символизацией нехватки объекта, достаточно хорошо демонстрирует, что инстинктивные отношения, анальность, задействованная в механизме дефекации, имеет меньшее значение по сравнению с символической функцией, которая здесь снова доминирует.
Символическая функция связана для маленького Ганса с сущностным для него вопрошанием: «Что утрачено? Что может появиться из дыры?» Это первые элементы того, что мы можем назвать символическим инструментарием, и в дальнейшем они будут интегрированы в развитие мифической конструкции маленького Ганса в форме ванны, которую в первом сновидении отвинчивает водопроводчик. Позднее и его зад тоже будет отвинчен, как и его пенис, к большой радости отца, и нужно сказать, что и Фрейда тоже.
Эти люди так торопятся навязать свое представление маленькому Гансу, что не дают ему договорить про отвинчивание своего маленького пениса и сообщают ему единственно возможное объяснение, которое состоит в том, что речь идёт о получении им большего пениса. Маленький Ганс вообще об этом не говорил, и мы не знаем, сказал бы он такое, будь у него возможность. Нет никаких подтверждений того, что он это говорил. Маленький Ганс говорил только о замене своего зада. Вот тот случай, где мы можем затронуть тему контрпереноса. Именно отец выдвигает идею о том, что замена осуществляется для того, чтобы он получил больший пенис. Вот пример ошибки, которую делают постоянно. Со времён Фрейда мы не упускаем возможность увековечить традицию искать в поисках интерпретации какую-то аффективную тенденцию, которая бы сказанное оправдывала и мотивировала, тогда как оно между тем имеет свои собственные законы, свою собственную структуру, свое собственное тяготение и должно быть изучено как таковое.

В заключение скажем, что в мифологическом развитии симптоматической системы означающих всегда нужно иметь в виду одновременно внутреннюю согласованность системы, имеющую место в каждый момент, и её диахронический, то есть прямой ход во времени. Развитие какой-либо мифической системы у невротика - то, что я как-то назвал индивидуальным мифом невротика - представляется как выход, как постепенное развитие ряда опосредований, связанных означающей цепочкой, фундаментальная организация которой представляет собой замкнутый круг. Исходный и конечный пункты тесно связаны, не совпадая, тем не менее, друг с другом. Тупик, всегда расположенный в начале, каким бы он ни был, обнаруживается в конце в обращённой форме, в качестве решения с противоположным знаком. Тупик, с которого мы начинаем, всегда оказывается в конце осуществлённого в означающей системе перемещения.
Я проиллюстрирую это для вас в процессе нашего дальнейшего движения после каникул, исходя из данности, которая предоставлена маленькому Гансу.
Она принята изначально в обманчивых отношениях, в которых поначалу разворачивается игра фаллоса. Этого достаточно, чтобы поддерживать между ним и матерью поступательное движение, целью, намерением, смыслом которого является совершенная идентификация с объектом материнской любви. Тогда и появляется новый элемент.
В этом я согласен с авторами, с отцом Ганса и Фрейдом. Есть проблема, важность которой в развитии ребенка невозможно переоценить, она основана на том, что в воображаемом порядке не предусмотрено, не установлено заранее и никак не организовано ничего такого, что помогло бы субъекту признать факт, с которым он в двух или трёх острых моментах своего детского развития сталкивается - с феноменом роста. Поскольку в плане воображаемого ничто заранее не предустановлено, один самостоятельный, хотя для ребенка тесно связанный в воображении с ростом, феномен привносит существенный элемент расстройства, привносит в тот самый момент, когда ребёнок впервые сталкивается с явлением роста - это феномен эрекции.
Когда во время первых мастурбаций или детских эрекций маленький пенис превращается в большой, это не что иное, как одна из основных тем воображаемых фантазий Алисы в Стране Чудес, что придаёт этому произведениюисключительную ценность для изучения детского воображения. Именно с такого рода проблемой сталкивается Ганс, а именно с необходимостью признания факта существования реального пениса, факта отдельного существования не только пениса, который сам по себе может становиться больше или меньше, но также и пениса, принадлежащего как маленьким, так и большим и взрослым.
Прямо говоря, проблема развития Ганса связана с отсутствием пениса у самого большого и взрослого, то есть у отца. Фобия возникает именно в силу того, что Ганс должен столкнуться со своим Эдиповым комплексом в ситуации, которая требует особенно трудной символизации.
Но то, что фобия развивается так, как это происходит, и анализ производит такое изобилие мифической продукции, указывает нам, самой патологичностью своей обнаруживая норму, на сложность явления, возникающего, когда у ребёнка появляется необходимость интегрировать реальное своей генитальности, а также подчёркивает принципиально символический характер этого переходного момента.
10 апреля 1957

глава 18 Круговые контуры
Почему лошадь?
От лошади к железной дороге Поездки и возвращение Ганса Wegen и Wägen
Если бы мне понадобилось напомнить вам об основополагающем характере воздействия символического на человеческое желание, то кажется, что, при отсутствии точного соответствия в измерении обыденного опыта, ярким примером может послужить выражение, от непосредственного и вездесущего влияния которого не удаётся уйти никому. Речь идёт об определении для такого желания, которое, возможно, является наиболее глубинным в числе всех человеческих желаний, во всяком случае, наиболее постоянным, это желание трудно не заметить в тот или иной поворотный момент жизни каждого из нас, особенно в жизни тех, кому мы уделяем больше всего внимания, тех, кого терзает мучение субъективного толка. Скажем, наконец, что это желание называется желанием чего-то другого.
Можно ли говорить о желании чего-то другого в терминах инстинктивной коаптации (coaptation)? Что это может значить в регистре объектных отношений, если понимать их как поступательно продвигающуюся в изначально заданном направлении имманентную себе самой эволюцию психического развития, которой остается лишь всячески благоприятствовать? Если в объектных отношениях задействован типичный, предуготованный для них объект, то каким образом может возникнуть желание чего-то другого?
Это предварительное замечание имеет своей целью познакомить вас, как выразился Фрейд в каком-то письме по поводу египетских богов, с (...).
Всё, что я только что произнёс, сказано не без отношения к моей теме, а именно к случаю маленького Ганса.
1
Что именно мы пытаемся обнаружить в этом возбуждении мифотворческой активности, которая является главной особенностью случая маленького Ганса?
То, что я назвал возбуждением мифотворческой активности, касается различных означающих элементов. Относительно каждого из них я показал вам, насколько они неоднозначны и служат тому, чтобы покрыть практически любое означаемое и в то же время не все означаемые сразу. Одно из означающих покрывает тот или иной означаемый элемент, тогда как прочие задействованные означающие элементы покрывают другие. Иначе говоря, совокупную означающую констелляцию приводит в действие то, что мы можем назвать системой преобразований, то есть превращательных движений, которые при более пристальном наблюдении каждый раз по-разному покрывают означаемое, в процессе чего, похоже, оказывают на него глубоко модифицирующее воздействие.
Почему происходит именно так? Как понимать динамическую функцию этого волшебства, в котором в качестве инструмента применяется означающее, а целью или

результатом является переориентация означаемого, его новая поляризация или воссоздание вновь после кризиса?
Мы так ставим вопрос, поскольку уверены, что он сам напрашивается быть поставленным именно таким образом. Действительно, если мы обращаем внимание на возбуждение мифотворческой активности у ребёнка или, употребив равнозначный, более распространённый, но менее подходящий термин, на инфантильные сексуальные теории, то именно потому, что и то и другое является не просто разновидностью пустых, бесполезных грёз, но несёт в себе динамический элемент. Вот о чём идёт речь в истории маленького Ганса, без чего это наблюдение не имеет никакого смысла.
В случае маленького Ганса мы должны подойти к этой функции означающего без предвзятых представлений, поскольку это наблюдение в числе прочих является наиболее показательным. Потому что оно осуществляется в чудесный период появления нового, когда, если я могу так выразиться, дух изобретателя и тех, кто за ним следует, ещё не успел обремениться разнообразными табу, ещё не прибегает к ссылкам на реальное с опорой на предрассудки, которые каким-то образом находят поддержку в теоретических положениях минувших дней, поставленных под сомнение и потерявших свою ценность в свете совершившегося открытия. Случай маленького Ганса в своей свежести по-прежнему сохраняет всю свою разоблачающую, я бы даже сказал, взрывную мощь.
В ходе этой сложной эволюции диалог Ганса с отцом неотделим от вышеупомянутого возбуждения мифотворческой активности. Каждое вмешательство отца её стимулирует, подстёгивает, она постоянно возобновляется, вновь разгорается. Но, как недвусмысленно отмечает Фрейд, у неё есть свои законы и свои собственные интересы. Ганс далеко не всегда выдаёт то, и даже всегда далеко не то, чего мы ожидаем. Он высказывает удивительные вещи, которые, хотя Фрейд и говорит нам, что предвидел их достаточно хорошо, во всяком случае, для отца были неожиданностью. Но, кроме этого, Ганс говорит и нечто такое, чего не мог предугадать и сам Фрейд, который не скрывает, что множество элементов так и остаются для него необъяснимыми, не поддающимися интерпретации.
Обязательно ли нам все их интерпретировать? Порой мы оказываемся способны продвинуться чуть дальше в интерпретации, выработанной отцом Ганса вместе с Фрейдом. Но сейчас мы постараемся воссоздать собственные законы притяжения или внутренней связности означающего, сгруппированного вокруг лошади.
Фрейд прямо говорит нам об этом, и мы могли бы поддаться соблазну определить фобию посредством её объекта, в данном случае лошади, если бы не заметили, что лошадь выходит далеко за рамки того, чем является сама по себе. В гораздо большей степени она является чем-то вроде геральдической фигуры, которая обладает преимущественным, центральным положением в целом поле, нагруженном всевозможными импликациями, означающими импликациями прежде всего.
Сейчас нам потребуются некоторые ориентиры, чтобы наметить маршрут предстоящего нам пути.
Мы не изобретаем ничего нового, поскольку Фрейд сам прямо это сформулировал. Этот отрывок идёт следом после первого диалога с отцом, в котором Ганс выводит из фобии то, что я назвал означающими импликациями. Ганс сумел сконструировать фантазию, изрядно наделённую мифическим или даже романтическим аспектом, ибо касалась она не только прошлого, но и того, что он хотел бы с этой лошадью или в связи

с этой лошадью сделать. Без всяких сомнений, эта фантазия сопровождает и регулирует его тревогу, но также обладает своей собственной конструктивной силой. После разговора Ганса с отцом, к которому мы подошли сейчас, Фрейд обращает внимание на то, что фобия здесь набирает ход, она развивается и обнаруживает различные фазы. Он пишет об этом: «Так мы видим, насколько сильно распространилась эта фобия. Она переходит на лошадь, а также и на экипаж, а также и на то, что лошади падают, и на то, что лошади кусаются, и на лошадей определённой породы, и на телеги, нагруженные или нет», - и так далее и тому подобное, таков тон Фрейда. «Скажем так, все эти особенности, по сути, касаются того, что изначально тревога не имела ничего общего с лошадьми, но была транспонирована на них вторично и закрепилась теперь - не на лошади, но, более точно, на комплексе лошади - на элементах комплекса лошади, которые оказались пригодными для определённых переносов».
Таким образом, Фрейд чётко формулирует, что мы располагаем двумя полюсами. Первым является полюс означающего, он будет служить опорой для всей серии переносов, то есть для переработки означаемого во всевозможных перестановках означающего. В принципе, - мы можем принимать это в качестве рабочей гипотезы до тех пор, пока это будет соответствовать всем условиям нашего опыта, - в итоге означаемое будет отличаться от того, каким было в начале. В означаемом произойдут некоторые перемены. В результате воздействия означающего поле означаемого будет либо реорганизовано, либо некоторым образом расширится.
Почему лошадь? К ней можно многое подверстать. Образ лошади распространён скорее в мифологии, легендах, волшебных сказках, там, где мотивы грёз наиболее устойчивы и непрозрачны. Кошмар на английском звучит как nightmare, что может означать ночная кобыла. Вся книга Месье Джонса о кошмарах основана на этом. Он показывает нам, что неслучайно ночная кобыла является не только устрашающим знаком появления ночной ведьмы, но что ночная кобыла, mare, приходит, чтобы заменить её. Конечно, Джонс по старой доброй привычке рыщет на стороне означаемого, из-за чего приходит к выводу, что всё есть во всём. Нет такого бога ни в античной, ни в современной мифологии, который избежал бы участи в некотором смысле оказаться лошадью. Минерва и Гиппий, Марс, Один, Гермес, Зевс - все имели лошадей, все были лошадьми, каждый был лошадью в этой книге. Исходя из этого, не сложно прийти к тому, что корень MR, от которого во французском языке образованы такие слова, как mère, mara, mer, уже самом по себе включает это значение, найти которое тем более просто, что оно есть повсюду.
Совершенно очевидно, что мы не следуем этим путём. Понятно, что лошадь располагает к проведению подобных аналогий, которые действительно формируют её образ в качестве вместилища, подходящего для символизации природных элементов, выступающих на переднем плане детского беспокойства в тот самый поворотный момент, когда мы видим маленького Ганса. Но мы не станем полагать, что всё объясняется только этим. Я стараюсь акцентировать ваше внимание на том, что всегда и везде опускается. Я подчёркиваю, что в критический момент развития маленького Ганса появляется определённое означающее, исполняющее функцию поляризации, перекристаллизации. Безусловно, это проявляет себя как патология, но тем не менее обладает и структурообразующим значением. С этого момента с помощью лошади начинается разметка внешнего мира сигнальными ориентирами. Я напоминаю вам, что позднее Фрейд, говоря о фобии маленького Ганса, скажет о сигнальной функции

лошади. Эти сигнальные ориентиры перестроят для Ганса мир, глубоко прочертив всевозможные границы, свойства и функции которых мы теперь должны понять.
Будучи установленными, эти границы сразу же учреждают, посредством фантазма или желания, это мы ещё увидим, как возможность их преодоления, так и препятствие, запрет, останавливающий субъекта на подступах к пределу. Всё это осуществляется с помощью одного означающего, лошади.
Чтобы понять функцию лошади, не следует искать эквивалента лошади, как если бы ею был сам маленький Ганс, или мать маленького Ганса, или отец маленького Ганса. Последовательно ею становится и всё это, и ещё многие другие вещи. Лошадью может быть всё перечисленное, лошадью может быть всё, что угодно. В целях реструктуризации своего мира маленький Ганс примеривает к нему означающую систему, согласованную с лошадью. В процессе таких последовательно производимых примерок лошадь в тот или иной момент покрывает те или иные основные элементы, образующие мир маленького Ганса, а именно: его отца, его мать, его самого, его младшую сестру Анну, его маленьких друзей, придуманных девочек и многое другое. Функция лошади как средоточия фобии заключается в том, чтобы быть новым термином, которому свойственно быть тёмным, незнамо каким. Эту игру слов можно довести до конца, назвав его в каком-то смысле незначащим (insignifiant). В этом заключается его наиболее принципиальная функция - он играет роль плуга, задача которого заново вспахать поле реального.
Мы можем предположить необходимость этого.
2
До того, как появилась лошадь, у маленького Ганса всё шло очень хорошо.
Лошадь появляется во вторую очередь, вслед за тревогой. Фрейд подчёркивает, что лошадь обретает свою функцию чуть позже появления смутного сигнала тревоги. И проследив до конца за всем, что случится с лошадью по ходу развития этой функции, мы придём к её пониманию.
Итак, ситуация маленького Ганса резко ухудшилась. И почему? До определённого момента, который наступает 5 или 6 февраля, то есть примерно за три месяца до пятого дня рождения Ганса, всё выглядит весьма сносно. Для наиболее точного соответствия терминам разбираемого нами случая скажем, что между ребёнком и его матерью происходит основанная на соблазнении игра в приманку, которая до сих пор вполне всех удовлетворяла. Любовные отношения с матерью вводят ребёнка в динамику воображаемого, в которой он мало-помалу осваивается. Чтобы ввести отношения с грудью под другим углом, представив её как лоно, я бы даже сказал, что он в воображаемое проникает. В начале наблюдения мы постоянно видим игру Ганса с потаённым объектом в режиме его бесконечного сокрытия и раскрытия. Однако на фоне таких отношений с матерью, которые до сих пор были основаны на этой игре, на фоне диалога вокруг символического присутствия и отсутствия происходят некоторые вещи, которые вводят определённые элементы реального. И вот внезапно для Ганса оказываются нарушены все правила игры.
Происходят две вещи. Первая, когда он наиболее готов раскрыть карты и сорвать банк, я имею в виду, по-настоящему доблестно показать наконец свой маленький жезл, его осекают. Мать буквально говорит ему не только о том, что это недопустимо, но и о

том, что это Schweinerei, свинство, нечто отвратительное. Мы не можем не признать это одним из важнейших элементов. Фрейд, кстати, подчёркивает, что последствия обесценивающего вмешательства возникают не сразу же, но в последействии. Он подчёркивает буквальный смысл термина задним числом, après coup, который я уже устал повторять, продвигая его на передний план аналитической мысли. Он говорит: nachträgliche Gehorsam, послушание задним числом. Gehör означает слух, внимание. Gehorsam - подчинение, покорность. И такие угрозы, и такой резкий отказ доходят не сразу, но через некоторое время.
Чтобы избежать предвзятости в суждениях, мне следует отметить, что в игре участвует не только означающее, есть также и реальный элемент сравнения, Vergleichung. Фрейд подчёркивает его присутствие, и не только между строк. При помощи элементов, позволяющих сравнить большое и малое, Ганс сумел получить представление о крошечном, смехотворно недостаточном размере своего органа. Именно этот реальный элемент избыточно дополняет, усугубляет тот резкий отказ, который до самого основания потряс структуру его отношений с матерью.
Добавим к этому второй элемент - присутствие младшей сестры Анны. Сначала она рассматривается с различных сторон и под множеством углов, что соответствует разным способам её ассимиляции. Но она всё больше и больше удостоверяет полноценное присутствие другого элемента, который тоже способен поставить под сомнение всю структуру, принципы и основания этой игры, возможно, делая саму её порой бесполезной. Те, кто работает с детьми, прекрасно знают эти распространённые в опыте факты, которые нам постоянно поставляет анализ детей.
В данный момент нас занимает то, каким образом в этих условиях будет действовать означающее. Что здесь нужно предпринять? Следует обратиться к текстам, научиться читать и строить конструкции. Когда вещи перерабатываются с участием тех же самых элементов, но заново, иным способом скомпонованных, нужно уметь фиксировать их такими, какие они есть, без того, чтобы искать отдалённые аналогии и совершать попытки экстраполяции предполагаемых нами внутренних событий субъекта. Это не символ чего-то такого, что ему самому предстоит обдумать, как мы обычно говорим об этом на обыденном языке, а нечто другое - это законы, в которых заявляет о себе структура не реального, а символического, законы, которые друг с другом взаимодействуют. Они действуют совершенно независимо и автономно. По крайней мере некоторое время нам нужно рассматривать их в таком ключе, чтобы увидеть, действительно ли в данном случае имеет место подобная операция перестановки или реорганизации.
Сейчас я собираюсь вам это показать.
22-го марта, как в каждое воскресение - это важный момент - отец привозит своего маленького Ганса к бабушке в Линц. Посмотрите, как выглядит местность.1
1 Ring написано с большой буквы. Это сокращённое название кольцевой улицы Рингштрассе, одной из центральных улиц Вены, которая охватывет центральный район "Внутренний город", по нем. Innere Stadt


Центральная часть Вены располагается на берегу одного из рукавов Дуная. Именно в этом, замкнутом в кольцо, районе города находится дом родителей Ганса.

Возле дома располагается таможня, чуть дальше - знаменитый железнодорожный вокзал, который часто упоминается в наблюдении, а напротив - прекрасный Музей искусства и промышленности, Museum für Kunst und Industrie. Именно на этот вокзал Ганс задумает отправиться, когда достигнет некоторого прогресса и сможет преодолеть пространство перед домом. Всё указывает на то, что дом находится в самом конце улицы

позади таможни, поскольку однажды упоминается близость путей Nordbahn, которая располагается на другом берегу Дунайского канала. В Вене пересекается несколько железных дорог с востока, запада, севера и юга, и есть несколько небольших локальных железнодорожных маршрутов, в частности, путь, пролегающий в низине, возможно, тот самый, на который сбросилась юная гомосексуальная пациентка, упомянутая мной в начале этого года. В том, что касается приключений маленького Ганса, нас интересуют две дороги. Одна железная дорога, Verbindungsbahn, соединяет Nordbahn с Sudbahnstation. На её путях, неподалёку от своего дома маленький Ганс видит вагонетки, - дрезины, как уточняет Фрейд - на которых он так хочет прокатиться. Эта дорога через некоторое расстояние достигает другого вокзала, и именно по ней поезда, местами уходя под землю, идут в сторону Линца.
В воскресение, 22 марта, отец предлагает маленькому Гансу чуть более сложный, чем обычно, маршрут.

Они едут по другой дороге Stadtbahn до станции в Шёнбрунне, который представляет собой Венский Версаль. Там есть зоопарк, в который маленький Ганс идёт со своим отцом и который сыграл в этом случае такую важную роль. Это Версаль, но гораздо меньшего масштаба. Возможно, династия Габсбургов была более близкой к своему народу, чем династия Бурбонов: хорошо видно, что даже когда город был много меньше, парк был заключён в тесных границах. После прогулки в парке Шёнбрунна они воспользовались трамваем на паровом ходу, - тогда это был маршрут номер 60 - на котором они приезжают в Линц. Чтобы вы представили порядок величин, от Вены до Линца почти такое же расстояние, как от Парижа до Вокрессона (около 14 км.). Дальше этот трамвай следует до Мауэра и Мёдлинга. Когда они ехали сразу к бабушке, они пользовались трамваем, который идёт намного южнее и приходит прямо в Линц. Есть и другая линия, которая соединяет эту прямую линию со Stadtbahn 'ом. Встречаются они на знаменитом вокзале Санкт-Вейт.
Эта схема позволит нам понять, что говорит маленький Ганс в тот день, когда он в своей фантазии едет из Линца домой на поезде со своей бабушкой, когда он скажет, что

уехал на поезде с бабушкой, а отец, опоздав на него, садится на второй поезд, прибывающий из Санкт-Вейта. Эта связка образует виртуальную петлю - линии друг с другом не пересекаются, но обе позволяют добраться до Линца.
Несколько дней спустя, во время разговора с отцом о жирафах, маленький Ганс выдаёт нечто из разряда того множества вещей, о которых, как он говорит, он думает. Даже когда ему настойчиво предлагают признать, что жирафы ему приснились, он подчёркивает, что речь идёт о том, что он о них подумал: «Nein, nicht geträumt; ich hab 'mir's gedacht», «нет, не приснились, я о них подумал».
Существенным моментом здесь является вмешательство Verkehrkomplex, транспортного комплекса. Сам Фрейд указывает на это - совершенно естественно, говорит он, что при сложившемся положении вещей всё, что касается Pferderkomplex, комплекса лошадей, то есть всё, что касается лошадей и того, что с ними связано, гораздо шире системы транспорта. Другими словами, на горизонте круговых лошадиных маршрутов лежат круговые маршруты железных дорог.
Это настолько очевидно, что в первом же разговоре с отцом, в котором Ганс рассказывает о подробностях переживаемой им фобии, фигурируют элементы местности перед домом, двор и очень широкая аллея. Понятно, почему для маленького Ганса так важно их пересечь. Перед домом загружаются и разгружаются запряжённые лошадьми телеги, они выстраиваются в линию вдоль разгрузочного пандуса.
Так, с первого же рассказа маленького Ганса о своей фобии лошадей, соприкосновение системы кругооборота лошадей и системы круговой организации железных дорог обнаруживается совершенно ясно.
Lagerhaus
EZ?
Za—Wgc,
Vcrl;’
dunKsnni
[le
H-f+i I I I I I I I I t / -ьн-нч-н
Hanscnsgeplanter Weg KAMPE
DE CHAn-GEMENT
Что говорит маленький Ганс 5 апреля? Что он безумно хотел бы взобраться на телегу, где он видел играющих на тюках и поклаже детей. Он быстро, geschwind (проворно, шустро), мог бы перепрыгнуть с неё на доску, то есть на погрузочную платформу. Чего он боится? Что лошади могут в этот момент тронуться и помешают ему исполнить свою маленькую затею: забравшись на телегу, потом быстро с неё спрыгнуть на платформу.
Всё-таки это должно иметь какой-то смысл. Чтобы понять этот или какой-либо другой смысл в системе функционирования означающего, не следует задаваться вопросами типа: что здесь вообще делает эта доска? Чем бы могла быть телега? Чем бы могла быть лошадь? Конечно, лошадь представляет некоторую вещь, и однажды, исходя из её функции, мы сможем в конце концов понять, чему она послужила. Но пока мы ничего не можем об этом знать.

Обратим внимание на лошадь. Отец обращает на неё внимание, и все остальные тоже обращают на неё внимание, кроме аналитиков, которые, бесконечно перечитывая случай маленького Ганса, пытаются вычитать в нём что-то другое, Три очерка по теории сексуальности, например. Отец проявляет интерес и спрашивает у маленького Ганса о причинах его страха: «Может быть, это, например, потому что ты бы не смог вернуться?» «Вовсе нет, - говорит маленький Ганс. - Я хорошо знаю, где живу, я могу сказать адрес, и меня привезут обратно. Я бы мог вернуться даже с телегой». Здесь нет трудности.
Похоже, никто не обращает на это внимания, но поразительно, что если маленький Ганс чего-то и боится, то вовсе не того, что было бы нам так на руку. Это могло бы даже вести к пониманию вещей, к которому я вроде бы вас подталкиваю - Ганс действительно влеком сложившейся ситуацией, и история с телегой может послужить этому прекрасной метафорой. Ан нет - он не сомневается, что всегда сможет вернуться к отправной точке. И если мы обладаем некоторым, пусть даже маломальским, соображением, мы можем сказать себе, что всё дело в этом: что тут ни сделаешь, выхода всё равно нет. Это только намёк, который делаю мимоходом. Возможно, таким образом, мы придерживаемся слишком тонкого и недостаточно строгого подхода.
Скорее, нам стоит иметь в виду, что в наблюдении есть ситуации, которые нельзя с этим не сопоставить. И здесь нам следует задержаться, поскольку сейчас становится очевидным, что дело касается самой феноменологии фобии. Здесь мы обнаруживаем абсолютную двусмысленность между тем, чего желают, и тем, чего боятся. Мы могли бы предположить, что маленький Ганс тревожится оттого, что телега неожиданно тронется и увезёт его, но, согласно его собственным разъяснениям, эта вероятность теряет своё значение, поскольку он вполне уверен, что всегда сможет вернуться. Что тогда может означать его желание выйти в некотором смысле за предел?
Предварительно мы можем сохранить формулу он хочет выйти за предел как часть своего рода элементарной конструкции. Если порядок всей его системы будет нарушен в силу несоблюдения правил игры, он может оказаться в просто невыносимой для себя ситуации, где наиболее нестерпимым элементом будет то, что он больше не знает, где ему себя поместить.
Посему я попробую привлечь другие элементы, которые некоторым образом воспроизводят то, на что указывает фантазм фобического страха.
Первый фантазм. Маленький Ганс вместе с лошадьми отправляется в путь, доска погрузочной платформы удаляется, и он возвращается, чтобы воссоединиться со своей матерью. Является ли это для него наиболее желанным или наиболее страшным, кто знает?
Когда мы читаем и перечитываем случай, мы встречаем как минимум ещё две истории.
Прежде всего, фантазм, момент появления которого имеет значение. Датирован он 11 апреля. И на этот раз Ганс в пути, он едет с отцом в вагоне поезда по железной дороге. Они приезжают на станцию в Гмунден, где собираются провести летние каникулы, собирают вещи и одеваются. Похоже, сбор и погрузка багажа в ту эпоху, которая была, возможно, менее непринуждённой, чем наша, всегда требовали особого внимания. Фрейд в случае юной гомосексуальной пациентки даже доходит до сравнения подобной ситуации с продвижением анализа - первый этап анализа соответствует сбору багажа, второй - его погрузке на поезд. Ганс и его отец не успевают одеться до отправления.

Далее следует третий фантазм, который Ганс рассказывает своему отцу 21 апреля, так называемая сцена на перроне. В тексте она расположена прямо перед тем, что мы называем большим диалогом с отцом - это лишь удобная разметка, чтобы в дальнейшем было легче сориентироваться. Ганс подумал, что уехал из Линца с бабушкой, которую он с отцом навещает каждое воскресенье. О ней в наблюдении случая больше вообще ничего не сказано, что наводит на мысль о суровом характере этой дамы, поскольку, как известно, завоевать расположение остальных членов семьи в те времена было гораздо легче, чем, например, мне сейчас. Линцийка (жительница Линца), как её называет маленький Ганс, была вместе с ним в вагоне, когда отец не успел зайти в поезд, и они отправились. Но поскольку поезда ходят часто и ветка, как мы видим, идёт до Санкт-Вейта, маленький Ганс говорит, что он успевает прибыть на платформу, чтобы отправиться вторым поездом с отцом.
Каким образом маленький Ганс, который уже уехал, вернулся? Это тупик. По правде говоря, эту ситуацию ещё никому не удалось прояснить. Отец тоже задаётся этим вопросом, и в тексте случая двенадцать строк посвящены тому, что могло произойти в уме маленького Ганса. Что до нас, давайте обратимся к нашим схемам.
НЕВОЗМОЖНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ

На первой схеме - отправление вдвоём с бабушкой. На второй - путь невозможности, где решение отсутствует. На третьей Ганс отправляется, наконец, в путь вместе с отцом. Другими словами, здесь есть кое-что для нас поразительное, если мы уже знаем о двух полюсах наблюдения - в начале вся эта очевидная и постоянно подчёркиваемая материнская драма, а в конце - теперь я вдвоём с отцом. Нельзя не заметить связь между этим неминуемым возвращением к матери и тем, что в один прекрасный день, хотя бы в мечтах, можно заново отправиться в путь вдвоём с отцом. Это простое пожелание, за исключением того, что оно неосуществимо, и мы никак не можем понять, каким образом маленький Ганс, уже уехавший вместе с бабушкой, снова отправляется в путь с отцом. Такое возможно только в воображении.
Здесь филигранно намечена фундаментальная схема, о которой я говорил вам как о присущей любому мифическому прогрессу - это движение от одной невозможности и тупика к другому тупику и другой невозможности. В первом случае это невозможность уйти от матери, к которой постоянно происходит возврат, не говори мне, что я беспокоюсь из-за её отсутствия. Во втором случае можно подумать, что он меняет мать на отца и отправляется с ним. Ганс тоже подумал об этом и даже написал об этом

Профессору, что было лучшим применением его мыслей. Однако текст мифа обнаруживает, что это невозможно, и где-то всегда обнаруживается какая-то несостыковка.
Этим всё не ограничивается. Сами по себе элементы этой схемы дают нам возможность свести её понимание к схеме упряжки.
Кого запрягают? Вот что является одним из первичных условий выбора и применения означающего лошадь. Бесполезно уточнять, что именно закрепляется за лошадью, поскольку направление, в котором действует Ганс, продиктовано возможностями, предоставляемыми функцией лошади. Мы даже можем сказать, что именно этим он руководствуется, когда выбирает именно лошадь. Ганс сам позаботился о том, чтобы показать нам, как это случается, когда рассказал о том, в какой момент, как он полагает, он поймал глупость. Он говорит об этом 9 апреля в беседе со своим отцом, в ничем не примечательный момент, и мы увидим, в результате чего это произошло.
Когда Ганс играл в лошадь, произошло нечто очень важное, то, что задало первую модель фантазма о ране, который позже проявит себя в отношении отца, но который изначально был позаимствован в реальном, а именно в ситуации с игрой в лошадь, когда его друг Фриц поранил ногу.
На вопрос своего отца Ганс отвечает, что лошадь может быть или без экипажа, ohne Wagen, в таком случае экипаж остался дома, или, наоборот, может быть запряжена в экипаж. Ганс сам формулирует, что лошадь прежде всего является сцепляющимся, съёмным, присоединяемым элементом. Этот амбоцепторный характер, постоянно обнаруживаемый нами в функции лошади, представлен в первом же опыте Ганса. Лошадь, прежде того, чтобы быть лошадью, представляет собой связующий и координирующий элемент, и в исполнении именно этой посреднической функции мы обнаруживаем её на всём протяжении развития мифа. Для всестороннего обоснования моего дальнейшего хода рассуждения о функции означающего лошади нужно обратить внимание на слова, прозвучавшие из уст самого Ганса, указывающие на то, что продвигаться следует именно в этом направлении, в направлении смысла грамматической координации означающего.
В действительности, в тот самый момент, когда Ганс говорит о лошади, он произносит: «вот тогда ко мне и залетела глупость», «da hab’ ich die Dummheit gekriegt». Глагол kriegen, залететь, который он всегда использует по отношению к глупости, применяется также для описания случившейся у женщины беременности. Это не осталось незамеченным авторами, то есть отцом и Фрейдом. Есть сноска Фрейда, которая всем интересна, как-то раз с которой у переводчика возникло некоторое затруднение, но он нашёл очень элегантный выход. Ганс постоянно говорит: «wegen dem Pferd», «из-за лошади», это его припев: «из-за лошади ко мне залетела глупость». Фрейд не мог здесь не заметить связи между wegen и Wägen во множественном числе, что означает экипажи. Именно так работает бессознательное.
Другими словами, лошадь тянет экипаж так же, как и то, что тянет за собой слово wegen. Поэтому абсолютно не будет преувеличением заметить, что именно в тот момент, когда Ганс становится жертвой того, что само по себе не является чем-то [причинно-обусловленным], о чём даже нельзя спросить почему - поскольку за пределами правил игры есть только разлад, нехватка бытия, нехватка почему - и позволяет он чистому Х, то есть лошади, тянуть за собой потому что, которое не соответствует ничему.

Другими словами, в тот самый момент, когда появляется фобия, мы наблюдаем типично метонимический процесс, то есть переход смысловой нагрузки, точнее, вопроса, который данное высказывание в себя включает, от одного пункта текстовой строки к следующему. Это и есть структурное определение метонимии. Именно по той причине, что значение этого wegen, из-за, полностью завуалировано и перенесено на термин, идущий следом, dem Pferd, этот следующий термин приобретает своё артикулированное значение и вселяет надежду на решение. Зияющий пробел в ситуации Ганса полностью обусловлен этим грамматическим переносом смысловой нагрузки.
В конечном итоге мы лишь обнаруживаем здесь конкретные связи двух видов, которые не имеют никакого отношения к игре воображения в некоем гиперпсихологическом пространстве. Во-первых, связь метафорическая, где слову соответствует другое, которое может его заместить, во-вторых, связь метонимическая, где одному слову отвечает следующее за ним во фразе другое. Эти два вида ответов доступны вашему наблюдению в психологическом опыте. Вы называете это ассоциациями, потому что очень хотели бы видеть это происходящим где-то в нейронах мозга. Что касается меня, то я об этом ничего не знаю. По крайней мере, как аналитик я ничего не хочу об этом знать. Эти два типа ассоциаций, называемые метафорой и метонимией, я нахожу там, где они есть, в тексте той купели языка, в которую окунулся Ганс.
Именно там он нашёл первичную метонимию, преподнёсшую ему лошадь, первый термин, вокруг которого будет выстроена вся его система.
8 мая 1957

глава 19 Перестановки
Не скачи от меня!
Отвалить из материнского логова
Будь настоящим отцом
Клещи
Итак, мы подошли к тому, что происходит между 5 и 6 апреля. Этот момент временного пространства ни в коем случае нельзя путать с хронологической протяжённостью.
Мы обратили внимание на объяснение, которое 5 апреля маленький Ганс даёт своему отцу по поводу созданного им фантазма, он рассказывает о своём желании взобраться на телегу, которую обычно разгружают перед их домом.
Мы подчеркнули неоднозначный характер тревоги, которой в этом фантазме Ганс придаёт форму. Может показаться, что тревога возникает только из страха отделения, но мы отметили, что вероятность разлучения с матерью не так беспокоит Ганса, поскольку, отвечая на вопрос отца, он даёт понять, что уверен, и даже чересчур уверен, в своей способности самостоятельно вернуться.
9 апреля после полудня возникает «из-за лошади», wegen dem Pferd, то есть приходит время, когда Ганс готов раскрыть тот момент, который, по его мнению, имеет большое значение в том, как он подхватил глупость. Как вы хорошо знаете, неспроста в воспоминаниях Ганса момент, в который он подхватил глупость, определяется далеко не однозначно. Каждый раз он убеждённо заявляет: «Я подхватил глупость». Всё основано на этом, поскольку речь идёт всего лишь о символической ретроспективе, связанной со значением, каждый раз предъявляемым, о поливалентности лошади в качестве означающего.
Нам известно уже как минимум два момента, когда он говорит: «Я подхватил глупость».
Одним из них является тот момент, когда возникает фраза из-за лошади, wegen dem Pferd, на которой в прошлый раз я прервал нашу встречу, что произошло, конечно, ценой некоторого прыжка, который не оставил мне времени показать вам, в каком контексте проявляется эта отчётливая метонимия. Она соотносится с историей падения Фрица во время игры в лошадку в Гмундене.
В другой раз он говорит: «Я подхватил глупость, когда вышел с мамой». Сам текст указывает на парадоксальность этого объяснения, потому что если он весь день не отклеивался от мамы, то, когда он был вместе с ней, та уже имела дело с его интенсивной тревогой. Он, таким образом, уже начал тревожиться, и я бы сказал больше: фобия лошадей уже дала о себе знать в контексте сопровождения.
Так мы, с одной стороны, оказались в тексте Фрейда, и, с другой стороны, в начале расшифровки. В прошлый раз я предложил вам эту расшифровку в виде трёх вариантов одной схемы.
Это касается вещей, над которыми Ганс думает, размышляет. Речь никогда не идёт о сновидениях. Он постоянно говорит отцу: «Я вот что подумал, gedacht». Здесь мы узнаём материал, с которым привыкли иметь дело, когда работаем с детьми, воображаемый материал, материал, всегда изобилующий воображаемыми мотивами. Но я показал вам, что любые воображаемые мотивы, которые мы можем здесь уловить,

не способны восполнить, заменить ту последовательность структур, описание которой я постараюсь сегодня довести до конца.
Все эти структуры отмечены одной показательной чертой. В фантазии 5 апреля, получившей завершённую форму благодаря расспросам отца, мы обнаруживаем идею возвращения Ганса к матери после его отправления на телеге. В фантазии 21 апреля имеет место другой важный момент развития этой идеи - Ганс не без причины представляет свое отправление с бабушкой, а уже потом через дар, пробел, к нему, маленькому Гансу, присоединяется отец, следующий по маршруту, который вписывается в такой же цикл, при условии сохранения загадочной невозможности воссоединения этих двух, разом отделённых друг от друга, персонажей.
Рис. 1

Мы и далее продолжим наше исследование, последовательно исчерпывая все возможности означающего, представляющего собой объект на том особенном уровне, который мной был предложен. Этот загадочный круговой контур лошади, который в первом примере явно вызывает тревогу, а во втором демонстрирует свою невозможность, соприкасается, как я уже показал, с большим по размеру контуром, образованным системой коммуникаций. Фрейд говорит об этом в наиболее ясной форме - нас не удивляет, что Ганс, используя транспортную систему, переходит от кругового контура лошади к круговому контуру железных дорог.
Всё происходит, одним словом, между двумя ностальгиями - ностальгия происходит от греческого v6oтoq, возвращение - приходом и возвращением. Возвращение утверждается Фрейдом в качестве фундаментального свойства объекта. Он подчёркивает, что в развитии субъекта объект всегда обнаруживает себя лишь как вновь найденный объект. Отдалённость объекта необходима. Эта необходимость является коррелятом измерения символического. Но если объект удаляется, то лишь для того, чтобы субъект заново его нашёл.
Вот истина, которая наполовину ускользает и даже утрачивается, когда психоанализ сегодня упорно настаивает на значении фрустрации, не отдавая себе отчёта, что она всегда является не более чем первым этапом возвращения к объекту, который, чтобы быть образованным как таковой, должен быть потерян и найден вновь.

1
Давайте вспомним, о чём идёт речь в истории маленького Ганса.
Для Фрейда речь идёт не о чём ином, как об эдиповом комплексе, драма которого учреждает новое измерение, необходимое для образования человеческого мира в целом и объекта в частности. Последний, будучи далёким от корреляции с якобы генитальным инстинктивным созреванием, зависит от обретения определённого символического измерения.
Какого? Я могу сказать здесь о нём прямо, учитывая то, что я говорил раньше и с чем вы уже знакомы. Это то, с чем мы каждый раз имеем дело, когда речь идёт о появлении фобии, которая здесь налицо, с тем, что под некоторым углом зрения открывается для ребёнка как фундаментальное лишение, которым отмечен образ матери. Это лишение нестерпимо, поскольку в конечном итоге именно оно ставит ребёнка перед фактом важнейшего лишения - своей неспособности каким бы то ни было образом дать удовлетворение матери. Тут-то и должен сделать свой вклад отец. Это ясно как божий день, это просто, как факт совокупления: он даёт ей то, чего у неё нет, он ей вставляет. Именно об этом идёт речь в драме маленького Ганса, и мы видим, как это постепенно раскрывает себя по мере того, как развивается диалог.
Как принято называть это в наши дни, образ внешнего окружения семьи маленького Ганса описан недостаточно подробно. Чего же недостаёт? Ведь достаточно читать, причём не только между строк, чтобы узреть постоянное и прилежное присутствие отца на протяжении всего наблюдения, тогда как мать даёт о себе знать, только если отец просит её уточнить, что именно она только что сказала. В конце концов, в описании случая с маленьким Гансом всегда находится не мать, а отец -благоразумный, добродушный, венский; он успевает не только заботиться о своём маленьком Гансе, но и работать. И каждое воскресенье он ездит увидеться со своей мамой, конечно, вместе с маленьким Гансом. Нельзя не удивиться, как легко Фрейд, о взглядах которого на тот момент мы достаточно хорошо осведомлены, допускает, что маленький Ганс, живущий в комнате родителей до четырёхлетнего возраста, определённо никогда не видел сцены, способной заставить его задуматься о фундаментальной природе полового акта. Отец подтверждает это в своих записях, и Фрейд этого не оспаривает - он должен был иметь своё представление на этот счёт, поскольку мать была его пациенткой.
В момент основной сцены диалога со своим отцом маленький Ганс говорит ему что-то вроде: «Ты должен поревновать». Выражение практически непереводимо на французский, что замечает сын Флисса, который обратил внимание на эту сцену, и, если даже он сам не вполне может оценить свои заслуги, его замечания остаются весьма справедливыми. Ему удалось расслышать созвучие с библейскими мотивами ревнивого бога, бога, соответствующего фигуре отца в учении Фрейда. «Ты должен быть отцом, ты должен злиться на меня, и это должно быть по-настоящему». Ещё много воды утечёт, прежде чем у Ганса получится это сказать; чтобы он смог к этому моменту подойти, потребуется определённое время.
Поэтому мы сразу же задаёмся вопросом: получил ли Ганс, преодолевая этот кризис, хоть какое-то удовлетворение на этот счет? Почему он может быть удовлетворён, если отец его находится в том критическом положении, возникновение которого на заднем плане следует расценивать как фундаментальную предпосылку той

скважины, из которой возник фобический фантазм? Совершенно немыслимо предположить, что этот диалог, если так можно выразиться, подверг психоанализу не маленького Ганса, но его отца, и что в конце всей истории, которая довольно благополучно улаживается зачетыре месяца, отец стал более мужественным, нежели был сначала. Иначе говоря, если тот, к кому так настоятельно обращается маленький Ганс, - это реальный отец, то никаких предпосылок к тому, чтобы он действительно появился, нет.
Предполагая, что маленький Ганс пришёл к благоприятному разрешению кризиса, в котором он оказался, стоит задуматься, можем ли мы говорить в таком случае о нормальном исходе эдипова комплекса. Достаточно ли одной только генитальной, в кавычках, позиции, достигнутой Гансом, чтобы убедить вас, что в дальнейшем его отношения с женщинами будут развиваться наиболее желательным образом?
Вопрос остаётся открытым. И он не просто остаётся открытым, но мы уже сейчас можем сделать по этому поводу множество замечаний. Если маленький Ганс и предрасположен к гетеросексуальности, возможно, одной этой гарантии нам недостаточно, чтобы удостоверить его полную, если так можно выразиться, сочетаемость с женским объектом.
Как вы видите, нам приходится работать концентрическими мазками, растягивать полотно между точками его крепления, чтобы нормально его зафиксировать и воспользоваться им как экраном, на котором появится возможность отследить этот особенный феномен - то, что происходит в развитии фобии и сопутствует самому по себе ходу лечения.
Для того чтобы показать, насколько в этой истории отец выдохся, мне в голову приходит маленький пример, который несколько оживит наше исследование. После одного долгого объяснения маленького Ганса в любви, которую он испытывает к своему отцу - он посвящает этому целое утро - они вместе обедают, отец поднимается из-за стола, и Ганс говорит ему: «Vatti, renn mir nicht davon!»
В отмеченном неотразимым стилем захолустной кухарки французском переводе эта фраза передана в общем-то правильно, а именно: «Папа, останься! Не пускайся в галоп». Отец подчёркивает своё удивление словом renn, скакать. Это даже скорее: «Не скачи так». Или даже - что немецкому вполне соответствует - «Не скачи от меня так». Мы располагаем вопрос анализа означающего на уровне иероглифической расшифровки мифологической функции, но это лишь мешает обратить внимание на само означающее, то есть на то, что прежде всего его нужно суметь прочитать. Это является изначальным условием для корректного перевода. Остаётся сожалеть о том ошибочном понимании произведений Фрейда, которое может возникнуть у французских читателей.
Итак, мы с отцом. Мы уже почти определили то место, которое он должен занимать на этой схеме, поскольку от него, через него, посредством идентификации с ним маленький Ганс должен найти нормальный путь по большему круговому контуру, на который пришло время ему перейти. Это действительно так и есть, ибо дважды подтверждается на известной консультации 30 марта.
Речь идёт о консультации у Фрейда, на которую маленького Ганса приводит его отец. Для меня она является иллюстрацией того раздвоения, даже растроения отцовской функции, на котором я настаиваю как на принципиально необходимом для возможности любого осмысления и комплекса Эдипа, и аналитического лечения как

такового, поскольку оно вводит в игру имя отца. Отец приводит Ганса к Фрейду, который представляет собой сверх-отца, отца символического. Когда Фрейд, не без того, чтобы отнестись к самому себе в этот момент с юмором, пророчествует и без обиняков излагает схему Эдипа, маленький Ганс заинтересованно слушает и не без юмора задаётся вопросом: «Откуда он может это знать? Должно быть, профессор разговаривает с Богом». Вообще говоря, юмористический характер отношений маленького Ганса со своим дальним отцом, то есть Фрейдом, сохраняется на протяжении всего наблюдения и является показательным для того, чтобы отметить одновременно необходимость этого трансцендентного измерения и то, насколько мы заблуждаемся, постоянно представляя его устрашающим и требующим уважения. Эти отношения не менее плодотворны в этом другом регистре, где Ганс получает возможность выразить свою проблему.
Но параллельно, как я вам говорил, происходят другие вещи, имеющие для прогресса маленького Ганса гораздо большее значение. Прочитайте наблюдение, и вы увидите, что в понедельник, 30 марта, в день визита к Фрейду, в сообщении отца отмечены два момента, важности которых он не умаляет, но их точная функция несколько сглажена тем фактом, что он пишет о них в преамбуле, хотя второй является высказыванием Ганса после возвращения.
Первый момент. Я напоминаю вам, что это понедельник, день, следующий за воскресеньем, когда визит к бабушке был дополнен прогулкой в Шёнбрунне. Маленький Ганс рассказывает тот фантазм, где они с отцом совершают преступление (transgression). Он не может выразиться иначе, это именно образ преступления. Это преступление в чистом виде, поскольку они вдвоём пролезают под верёвкой. Об этой верёвке шла речь в саду Шёнбрунна, когда Ганс спросил отца:
- Зачем здесь эта верёвка?
- Она препятствует выходу на газон, - говорит отец.
- Можно ведь пролезть под ней?
- Хорошо воспитанные дети, - отвечает отец, - не пролезают под верёвками, особенно если эти верёвки повешены специально, чтобы их не пересекали.
Ганс не преминёт ответить на это своим фантазмом - ну, тогда совершим преступление вместе. Здесь важно именно, что вместе. Потом они скажут сторожу: «Вот что мы сделали». И - хоп! Он сажает в тюрьму их обоих.
Принимая во внимание контекст, важное значение этого фантазма не вызывает сомнений. Речь идёт о том, чтобы войти в распорядок отца, сделать что-то, что позволит их вместе сцапать-увести-погрузить (embarquer), zusammengepackt. Вопрос неслучившейся посадки (embarquement), таким образом, может быть прояснён, если вывернуть схему наизнанку, поскольку сама природа означающего состоит в том, чтобы представлять вещи строго функциональным образом. Именно по поводу посадки-погрузки (embarquement) возникает вопрос: речь идёт о том, сможет ли он сесть (embarque), войти куда-либо со своим отцом, поскольку именно с такой функцией не справляется отец - не может, по крайней мере в общепринятом смысле слова, погрузиться, внедриться (embarquer). Все дальнейшие предпринятые маленьким Гансом усилия призваны приблизить его к этой одновременно желанной и невозможной цели. Показательно, что начало этому было положено уже в том первом фантазме маленького Ганса, который я вам только что напомнил, и возник он прямо перед консультацией с Фрейдом.

Теперь, что касается второго фантазма, то он появляется так, как если бы нужно было, чтобы мы не смогли игнорировать взаимно обусловленное положение двух круговых контуров, маленького материнского и большого отцовского. Фантазм ещё более приближается к цели. Вечером после возвращения от Фрейда маленький Ганс снова оказывается замешанным в преступлении - он признаётся, что утром думал о том, что во время поездки с отцом на поезде они вдвоём разбили окно. Здесь также можно обнаружить означающее, которое наилучшим образом представляет желание вырваться наружу. Вдобавок они mitgenommen, их вместе уводит полицейский. И опять это финальный пункт, концовка фантазии.
2 апреля, то есть через три дня, появляется первое улучшение, и мы подозреваем, что, возможно, отец придаёт ему небольшой толчок, ведь он сам впоследствии поправляет себя перед Фрейдом: «Возможно, это улучшение и не было таким выраженным, как я вам об этом сказал». Перед нами своего рода побег - маленький Ганс заявляет, что способен немного дальше отойти от ворот. Не будем забывать, какое значение для семейной благопристойности имели ворота в те времена. При переезде мать могла сказать: «Смена этажа не имеет значения, но ворота ... ты должен передать их своему сыну». Поэтому ворота не просто так появляются в топологии того, что связано с маленьким Гансом.
3
Как я говорил вам в прошлый раз, эти ворота и граница, которую они отмечают, продублированы пункт за пунктом тем, что, возможно, мы различаем не так хорошо, нежели то, о чём я говорил в прошлый раз, но что всё же остаётся в пределах видимости и представляет собой вход в здание вокзала, где начинается железнодорожный путь из города, который регулярно приводит к бабушке.
Действительно, в последний раз, тщательно проанализировав данные, я сделал для вас небольшую схему, на которой дом родителей маленького Ганса располагался на улице за таможней, Hintere Zollamtstrasse. То, что это не совсем верно, я обнаружил благодаря одной вещи, которая снова показывает нам, как часто мы не замечаем того, что у нас прямо перед носом и называется означающим, буквой.
3 Вероятно, упоминается тетка Андре Жида, которая, возможно, по мнению британских издателей, говорит подобную фразу овдовевшей матери Жида: «Переезд на несколько этажей выше не имеет большого значения, но порте-кошер (каретные ворота) - это совсем другое дело... Это твой долг перед собой, твой долг перед сыном».


Уже на той схеме, которую предоставил нам Фрейд в описании случая, есть улица с названием Untere Viaductgasse.

По другую сторону пути есть одна незаметная улица, на которой угадывается маленькое здание. Оно обозначено на картах Вены и соответствует тому, что Фрейд называет Lagerhaus. Это специальный пункт, предназначенный для сбора таможенных пошлин при ввозе пищевых продуктов в Вену. Это разом объясняет все взаимосвязи -железнодорожный путь из Nordbahn, вагончик, сыгравший определённую роль в фантазии Ганса, таможенный пункт и в то же время дом, о котором говорит Фрейд, хорошо заметный от входа на вокзал.
Так расставлены декорации. Вот та сцена, на которой разыгрывается драма. Поэтический или, если хотите, трагический дух маленького Ганса позволит нам изучить её конструкцию.

2
Как понимать необходимость маленького Ганса перейти на более широкий круг?
Как я вам уже сказал, всё сводится к тупиковому положению, которое возникает в отношениях Ганса с его матерью. Мы видим это совершенно отчётливо. До определённого момента именно мать удостоверяла его вхождение в мир. Кризис, который переживает ребёнок, мы можем буквально видеть в тревоге, препятствующей маленькому Гансу выйти за определенный круг, покинуть пределы видимости дома.
Часто бывает так, что одержимые рядом наиболее распространённых и преобладающих смыслов, мы не замечаем того, что наиболее очевидным образом прописано в тексте симптома на уровне означающего наравне с фобией. Именно в сторону своего дома беспокойно оборачивается маленький Ганс во время посадки (embarquement). Почему мы упорно не замечаем, что нам остаётся всего лишь передать это так, как это себе представляет Ганс? Он боится не просто того, что кого-нибудь не окажется дома, когда он вернётся, тем более что отец не постоянно пребывает внутри этого замкнутого контура, и мать, судя по всему, весьма этому способствует. Как показывает фантазия, где маленький Ганс оказывается на телеге, важным является то, что в этот момент уходит весь дом, что с места снимаются все. По сути, всё дело в доме. Речь идёт о доме с тех пор, как маленький Ганс понял, что может скучать по матери, но в то же время остаётся с ней одним целым. Он боится не столько того, чтобы быть с ней разлучённым, сколько отправиться с ней Бог знает куда. Мы постоянно обнаруживаем этот элемент в наблюдении - он настолько слился с матерью, что больше не знает, где находится он сам.
Я сошлюсь только на один эпизод. Речь идёт о втором эпизоде 5 апреля, о котором я вам только что говорил, когда Ганс отмечает, возможно, в несколько необязательной манере, появление своей глупости. По его словам, он был со своей матерью, и это случилось сразу после покупки жилетки. Они увидели лошадь, запряжённую в омнибус, которая упала на землю. Речь идёт о тех омнибусах, из которых он смотрел на лошадей. Как мне известно, они обладали большими крупами. Когда лошадь падает, что-то подсказывает Гансу, что «теперь так будет всегда - все лошади омнибусов будут падать».
Чтобы оживить японский цветок в воде наблюдений, почему бы, просто следуя любознательности отца, и нам не задаться вопросом, что происходит, когда маленький Ганс остаётся с матерью. Отец спрашивает: «Так где ты был в этот день со своей мамой?» Мы получаем представление о пунктах программы - они были в Skating Ring, потом в Kaffeehouse, сразу же после случилось падение и, наконец, - этот эпизод резко контрастирует с тем, что мы проследили до этого момента - они идут к кондитеру. Тот факт, что они были beim Zuckerbäcker mit der Mammi, у кондитера с мамой, что они провели весь день вместе, определённо указывает на то, что произошло нечто особенное, но я бы не стал называть это провалом или цензурой со стороны ребёнка. Ганс подчёркивает, что был с матерью, а не с кем-то другим, кто, возможно, ошивался поблизости. Это вместе с мамой, mit der Mammi, имеет в речи Ганса то же значение, тот же акцент, который он подчёркивает, когда говорит - Nich mit der Mariedl, ganz allein mit der Mariedl.
Тон, в котором отец, задавая далеко идущий вопрос и быстро от него отступаясь, обнаруживает для нас черту, обозначенную не менее чётко выше, когда маленький Ганс,

найдя своего отца в его кровати, говорит, что во время его отсутствия он боялся, что тот не вернётся домой. «Разве я угрожал тебе когда-нибудь уйти?» - спрашивает отец. На что Ганс отвечает: «Мне никто никогда не говорил, что ты уйдёшь, но мама мне однажды сказала, что она уйдёт». На что отец, чтобы замаскировать возникший провал, говорит ему: «Она так сказала, потому что ты не слушался».
В действительности мы очень хорошо видим, о чём постоянно идёт речь. Отступив от стиля полицейского расследования, скажем, что именно это вызывает у маленького Ганса сомнение в согласии между родителями и отчётливо даёт о себе знать в катамнезе наблюдения. Вокруг этого пункта живёт тревога быть унесённым вместе с материнским жилищем (baraque), которая обнаруживает своё присутствие с первого же фантазма.
Кроме того, что лошадь может упасть, что представляет собой угрозу для маленького Ганса, есть и другая сторона опасности - быть лошадью укушенным.
Является ли этот укус возмездием, страх которого возникает в кризисный момент обнаружения маленьким Гансом очевидности того факта, что он больше не может удовлетворить свою мать? Здесь можно искать то, что в путаной манере привыкли использовать в рамках идеи о возврате садистического импульса, играющего, как вам известно, важную роль в кляйнианских мотивах. Но дело не столько в этом, сколько в том, на что я вам уже указал, в том, с помощью чего ребёнок подавляет своё разочарование в любви. И наоборот, если разочаровывает он сам, разве не увидит он, что сам подвергается риску быть поглощённым? Ненасытная и невыносимо обездоленная мать тоже может укусить. Опасность этого угрожает ему в силу собственного лишения всё больше и больше, и это остается незаметным, поскольку он не может укусить в ответ. Всегда получается так, что лошадь представляет одновременно и падение, и укус, обладает сразу двумя этими характеристиками. Я указываю вам здесь на это, хотя в первом круговом контуре элемент укуса мы наблюдаем исключительно в скрытом виде.
Проследим ход вещей и нанесём разметку на то, что будет происходить, начиная с определённого момента, который мы примем в расчёт и обратим внимание на то, каким образом он возникает, хотя бы нам и пришлось перебрать фантазмы маленького Ганса последовательно, один за другим. С этого самого момента было произведено определённое количество других фантазмов, которые размечают то, что я назвал последовательностью мифических перестановок.
Миф на индивидуальном уровне в своих разнообразных характерных чертах отличается от развитой мифологии, которая является основой социального уклада в мире и везде, где мифы представлены своей функцией. Но даже там, где очевидно их отсутствие, как в случае нашей научной цивилизации, не стоит думать, что их совсем нигде нет. Хотя индивидуальный миф ни в коем случае нельзя полностью отождествлять с развитой мифологией, тем не менее они обладают общим характером - они исполняют функцию решения в тупиковой ситуации, как та, в которой оказывается маленький Ганс со своим отцом и своей матерью. Этот сущностный характер мифического развития воспроизводится в малой форме индивидуального мифа везде, где мы можем его в достаточной мере распознать. В целом, он представляет собой способ справиться с неразрешимой ситуацией путём последовательной артикуляции всех возможных форм неразрешимости.
Именно так мифическое творение даёт ответ на вопрос. Оно проходит полный круг того, что представляется одновременно как возможное открытие и как открытие,

которое невозможно совершить. Когда круговой контур замыкается, оказывается реализовано нечто такое, что означает, что субъект вышел на уровень вопроса. Именно поэтому Ганс невротик, а не перверт.
Не будет натяжкой отличить одно направление его развития от возможного другого. Это направление отмечено в самом наблюдении, и я ещё вернусь к нему в следующий раз. Но уже сейчас могу сказать вам, что всё происходящее вокруг панталон матери негативно указывает на возможный выбор иного пути, который мог бы привести Ганса к фетишизму.
Маленькие панталоны представляют не что иное, как возможность для Ганса другого решения, состоящего в фиксации его на этих маленьких панталонах, за которыми ничего нет, но на которых он сможет нарисовать всё, что ему захочется. Именно по той простой причине, что маленький Ганс не является обычным любителем природы, он метафизик. Он ставит вопрос там, где он есть, то есть в том пункте, где чего-то не хватает. И там он спрашивает, в чём причина - в том смысле, в котором мы говорим о причине математической - этой нехватки бытия. И он будет вести себя совершенно так же, как любой другой коллективный ум первобытного племени, в строгом соответствии с нашими представлениями, проходя по кругу все возможные решения, применяя батарею выбранных означающих. Никогда не забывайте, что означающее в этом процессе не представляет значения, скорее, оно исполняет функцию заполнения пробелов значения, которое ничего не значит. Именно потому, что значение является буквально потерянным, именно потому, что, как в сказке о Дюймовочке, утрачена нить, возникают камешки означающего, чтобы заполнить дыру и пустоту.
В прошлый раз я привёл вам три примера из числа таких фантазмов: фантазм о повозке перед погрузочной платформой, ещё один - о долгих сборах при выходе из поезда в Гмунден и, наконец, об отправлении с бабушкой и возвращении, несмотря на очевидную невозможность этого, к отцу.
Мы продолжим эту серию другими фантазмами, которые проиллюстрируют то, о чём я вам сейчас говорю, поскольку если мы сумеем их прочитать, то они исчерпывающе представят и модифицируют перестановку элементов.
3
Первый фантазм этой серии сразу же покажет вам, где осуществляется переход. Он случается 11 апреля, на довольно позднем этапе развития диалога между отцом и маленьким Гансом. Это фантазм о ванной, над которой все склоняются с видом растроганного умиления, как если бы они увидели там знакомое лицо, но не могли понять, чьё именно.
Фантазм состоит в следующем. Ганс в ванной. Я уже достаточно сказал вам, чтобы вы смогли уловить насколько это «в ванной» является близким к «в экипаже», иначе говоря, к фундаментальному «в жилище» (baraque) - это связь с той самой всегда готовой скрыться штуковиной, которая воплощает собой материнскую поддержку. И вот входит некто, воплощающий в той или иной форме ожидаемого здесь третьего, - в данном случае Schlosser, слесарь, который отвинчивает ванну. Больше нам о нём ничего не известно. Он отвинчивает ванну, затем своим сверлом, Bohrer - Фрейд без раздумий отмечает здесь вероятность намёка на «быть рождённым», geboren - протыкает живот маленького Ганса.

Используя обычные методы интерпретации, которые у нас в ходу, мы тут же пытаемся навязать определённые представления и бог знает что можем наговорить об этом фантазме. Отец не преминул связать это со сценой, которая обычно происходит в материнской кровати, а именно с тем, что маленький Ганс преследует отца и в некотором смысле заменяет его и впоследствии становится объектом если не материнской, то его агрессии. Конечно, нельзя признать всё это в корне ошибочным, но, чтобы оставаться строго на уровне происходящего, скажем, что если ванна соответствует Wägen, той вещи, о преодолении единения с которой идёт для маленького Ганса речь, то тот факт, что она отвинчивается, следует иметь в виду.
С другой стороны, следует иметь в виду участие в фантазме маленького Ганса элемента проколотого живота. Мы действительно можем полагать, что в системе перестановок именно он в конечном итоге перенимает дыру матери, ту самую бездну, последнюю и решающую точку всего вопроса, не поддающуюся наблюдению в виде размытого чёрного пятна на лошадиной морде, именно на том уровне, где она кусает, ту самую вещь, на которую ему не следовало смотреть. Если вы обратите внимание на этот момент, то увидите, что ровно так же маленький Ганс говорит о панталонах матери.
Маленький Ганс против всех предположений отца, который, вопреки здравому смыслу, продолжает его расспрашивать, приводит два, и только два элемента. Я расскажу вам о втором в следующий раз, когда мы вернёмся к анализу этого момента, а первый звучит следующим образом: «Ты напишешь профессору и скажешь ему, что я увидел панталоны, плюнул, упал на землю и закрыл глаза, чтобы не смотреть на них». Ну а в фантазии о ванне он уже не смотрит, но присваивает дыру, то есть принимает материнскую позицию. Здесь мы оказываемся на уровне обращённого комплекса Эдипа, чья означающая перспектива показывает нам, насколько он необходим, поскольку является только фазой позитивного комплекса Эдипа.
Что происходит дальше? В одном из последующих за 22 апреля фантазмов мы возвращаемся к другой позиции, которая связана с вагончиком. Маленький Ганс, прекрасно узнаваемый в мальчугане, поднимается в вагончик. Его оставляют там совсем голого на всю ночь. И это нечто весьма неоднозначное, вызывающее одновременно и желание, и страх. Это напрямую связано с предыдущим моментом, когда он в диалоге, на первостепенное значение которого я вам уже указывал, говорит своему отцу: «Ты был там как голый», als nackter.
В статье, о которой я вам говорил, Роберт Флисс в отношении этого подчёркивает категоричный характер словаря ребёнка, как если бы на него снизошёл вдруг библейский дух, что озадачивает всех до такой степени, что приходится спешно сделать уточнение в скобках, чтобы как-то исправить положение: «Он имел в виду босиком». Флисс совершенно справедливо указывает, на что именно обращает внимание стиль термина и как он точно вписывается в следующий момент, когда он в очередной раз призывает отца: «Делай свою работу». В конце концов, мы не можем знать, каким образом мать удовлетворена, но это должно, по крайней мере, произойти: «Ты должен это сделать, это должно быть по-настоящему». Das muss wahr sein, что означает «будь настоящим отцом».
Сразу после того, как Гансу удается выложить эту формулу, которая показывает нам, к чему он взывает в реальности, у него возникает фантазм о том, что он провёл всю ночь в повозке, в более широком круговом контуре железной дороги. Он проводит там всю ночь, хотя до сих пор отношения с матерью протекали, в принципе, на полной

скорости, Geschwind. До сих пор он именно этого и хотел. Кстати, так он и объясняет это своему отцу 21 апреля во время диалога, о котором я вам говорю. «На самом деле, -говорит он, развивая фантазию, - тебе нужно пойти ударить ногой о камень и пораниться, тогда у тебя пойдёт кровь, и ты исчезнешь. И это даст мне время побыть немного на твоем месте, пока ты не вернёшься». Здесь обнаруживает себя ритм того, что можно назвать первоначальной игрой в преступление с матерью - игрой, которая только своим подспудным характером и поддерживалась.
Другой фантазм появляется 22 апреля. Маленький Ганс проводит всю ночь в вагончике, и на следующее утро кондуктор получает 50 тысяч гульденов - что в эпоху наблюдения представляет собой круглую сумму - за то, чтобы он позволил мальчику продолжить путь на этом же поезде.
Ещё один фантазм от 2 мая, похожий на завершение истории, её вершину, конечный пункт, на котором маленький Ганс останавливается. На этот раз появляется не просто слесарь, но водопроводчик, установщик, der Installateur, который приходит со своими клещами, что подчёркивает характер откручивания. Неверно переводить Zange как отвёртка, Schraubenzieher, под предлогом того, что это был именно заострённый инструмент, шило, Bohrer. Zange - это острогубцы для откручивания винтов. И то, что им отвинчивается, это зад маленького Ганса, чтобы установить на его место другой.
Так что здесь сделан ещё один шаг. Наложение этой фантазии на предыдущую, которая касается ванны, становится достаточно очевидным благодаря тому факту, что соответствие размеров этого зада и этой ванны было довольно точно описано самим маленьким Гансом. Ему хорошо только в ванне их дома в Вене, потому что в неё точно умещается его маленький зад, ему в ней удобно. В этом всё и дело - подходит она ему или не подходит. Дома - да, он её заполняет, и ему даже приходится занимать в ней сидячее положение. Но в тех местах, где ванна больше и далека от того, чтобы предоставить такие же гарантии, у него вновь возникают фантазии поглощения и тревоги, которые не позволяют ему купаться где-либо ещё, в Гмундене или в любой другой ванне больших размеров.
На уровне схемы открученный зад накладывается на открученную до этого ванну, хотя по значению они не эквивалентны. Есть здесь и соответствие - с некоторыми изменениями - с тем фактом, что телега, которая некоторое время плотно прижималась к пандусу, трогается и отделяется от него.
Я завершаю последний фантазм. Потом установщик говорит маленькому Гансу: «Развернись и покажи свой Wiwi», который не вполне настоящий, поскольку с его помощью не удалось соблазнить мать. И на этом все подытоживают интерпретацию, рассказывая, что установщик его откручивает, чтобы дать лучший. К сожалению, в тексте это не так. Ничто не указывает на то, что в конечном итоге маленький Ганс полностью преодолел переход, означающий комплекс кастрации.
Если есть нечто такое, что определяет комплекс кастрации, то состоит это в следующем - пениса нет, но отец может дать другой. Скажем больше: поскольку переход к символическому порядку является необходимым, всегда нужно, чтобы до определённого момента имело место отнятие пениса, а затем его возврат. Естественно, его невозможно вернуть, поскольку всё то, что является символическим, по определению не способно его вернуть. В этом и состоит драма комплекса кастрации -пенис отнимается и возвращается лишь символически.

Но в данном случае мы видим, что пенис символически отнимается, но не возвращается. Таким образом, нужно понять, каким окружным путём проследовал Ганс, чтобы удовлетворительным образом решить этот вопрос.
Можно сказать, что с точки зрения рассмотрения вопроса довольно уже того, что Ганс сделал дополнительный круг, и что самого факта, что это именно окружность или круговой контур, достаточно, чтобы совершить обряд перехода и наделить его тем же значением, которое имело бы прохождение по полному кругу. Вопрос, по крайней мере, поставлен.
Всегда остаётся фактом, что только в строго заданном поле анализа означающего мы можем продвинуться в понимании симптоматических образований. Перед тем как вас покинуть, я, как всегда, постараюсь вас немного развлечь и покажу вам это в заключительном замечании.
Что представляют собой эти клещи? Откуда они взялись? О них ничего не говорилось на протяжении всей истории. Мать могла сказать: «Тебе это отрежут». Отец никогда не говорил: «Тебе это открутят». Тем не менее, если оставаться на уровне означающего, то именно этим инструментом пользуется установщик, когда дело доходит до отвинчивания зада, и не остаётся никаких сомнений, что речь идёт о клещах или острогубцах.
Некогда я узнал, что те самые большие зубы, которыми лошадь могла бы укусить за палец маленького Ганса, на всех языках называются клещами (на русском - резцами). Вдобавок, передняя часть копыта, которым лошадь создаёт свой маленький Krawall, тоже называется клещами, на немецком Zange. Это слово имеет те же самые два смысла во французском.
Я скажу вам больше, в греческом языке ХП^П [kele] имеет точно такое же значение. Конечно, я не нашел его, полистав руководство слесаря на греческом языке, которого не существует, но я обнаружил его случайно в прологе пьесы Финикиянки Еврипида.
Иокаста перед тем, как рассказать историю Антигоны, сообщает очень любопытную деталь относительно того, что произошло во время убийства Лая. С такой же тщательностью, с какой я проследил пути всех этих маленьких железнодорожных сетей и венских улиц, она объясняет, откуда прибыли тот и другой. Они оба двигались в Дельфы и встретились на перекрёстке, вспыхнула ссора из-за приоритета в движении между тем, кто ехал на большой колеснице, и другим, который путешествовал пешком. Движение, столкновение, схватка и более сильный Эдип проходит первым. В этот момент Иокаста позаботилась о том, чтобы указать на то, - эту деталь я больше нигде не встречал - что ссора случилась по той причине, что один из скакунов ударил своим копытом, ХП^П, пятку Эдипа.
Так что для исполнения своей судьбы Эдипу было недостаточно, чтобы его ноги распухли из-за маленькой броши, с помощью которой ему проткнули лодыжки, нужно было, чтобы в точности как отцу маленького Ганса, его ногу повредила своим копытом лошадь - тем копытом, которое как на греческом, так и на немецком, и на французском называется клещи, поскольку ХП^П также означает клещи или острогубцы.
Это замечание предназначалось для того, чтобы показать вам, что я ничуть не преувеличиваю, когда говорю, что в последовательности фантазматических конструкций маленького Ганса всегда обращается один и тот же материал.
15 мая 1957

глава 20 Трансформации
Зубастый фаллос
Разгрузка означающего
Тревога движения
Падать и кусать Ножичек в кукле
О запелёнутых детях.
«О морские города! Я вижу вас, ваших граждан, и женщин, и мужчин, туго стянутых крепкими путами по рукам и ногам людьми, которые не будут понимать ваших речей, и вы сможете облегчать ваши страдания и сожаление об утраченной свободе лишь в слёзных жалобах, вздыхая и сетуя промеж самих себя, ибо тот, кто связал вас, вас не поймет, как и вы их не поймете».
Этот маленький отрывок, который я выписал несколько месяцев назад из Дневников Леонардо да Винчи и совершенно о нём забыл, кажется мне вполне подходящим прологом для нашей сегодняшней встречи.
Этот весьма впечатляющий пассаж, конечно, следует рассматривать лишь в качестве загадки.
1
Сегодня мы вернёмся к нашему прочтению случая маленького Ганса и попытаемся расслышать язык, на котором он изъясняется.
В прошлый раз я выделил в развитии означающего несколько этапов. Его таинственным центром является включённое в фобию означающее лошади, которое исполняет функцию кристалла в перенасыщенном растворе. На самом деле именно вокруг этого означающего разрастается своего рода огромная древовидная структура того мифического образования, которое содержит в себе историю маленького Ганса. Теперь пришло время, если я могу так выразиться, окунуть это дерево в купель того, что было пережито маленьким Гансом, чтобы увидеть, какова была его роль в развитии ребёнка. Я хочу сразу же указать, к чему клонит вывод, который нам предстоит сделать.
Поскольку речь здесь идёт об объектных отношениях, рассматриваемых с точки зрения их развития в тот период, когда маленький Ганс проживает свой Эдип, скажем, что в наблюдении нет ничего, указывающего нам на то, что мы должны считать его результаты полностью удовлетворительными.
Если и есть нечто подчёркнутое в начале наблюдения случая, то состоит это в том, что можно было бы назвать ранней зрелостью маленького Ганса. Поэтому нельзя сказать, что он ещё не вошёл в свой Эдип, если не сказать, что он вообще уже на выходе. Другими словами, манера, в которой маленький Ганс вступает в контакт с маленькими девочками, что подчёркнуто для нас в наблюдении, уже несёт в себе черты, характерные для развитых отношений. Мы не говорим, что это взрослые отношения, но можно провести весьма чёткую аналогию. И, вообще говоря, сам Фрейд представил его этаким успешным соблазнителем, даже соблазнителем с тираническими и донжуанскими чертами. Как-то раз я употребил здесь этот непростой термин, и у некоторых он вызвал бурю негодования, но он совершенно уместен для описания характера этой ранней манеры отношений маленького Ганса, которая указывает на начало своего рода удачной адаптации к реальному контексту.

Однако в противоположность этому, что мы видим в итоге? В итоге следует сказать, что мы находим тех же самых маленьких девочек, живущих во внутреннем мире маленького Ганса. Но если вы читаете случай, вас поражает не только та степень, в которой они гораздо более воображаемые, но и то, насколько они являются подлинно, радикально воображаемыми. Они становятся фантазиями, с которыми общается маленький Ганс. Отношения с ними ощутимо меняются - теперь это, скорее, его дети. Если именно здесь мы должны распознать установившуюся в результате разрешения кризиса матрицу будущих отношений маленького Ганса с женщинами, то поверхностный взгляд позволит нам признать в качестве удовлетворительного результата достижение маленьким Гансом гетеросексуальности, но эти маленькие девочки останутся отмеченными стигматом их способа вхождения в либидинальную структуру. Мы в подробностях рассмотрим, каким именно образом они в неё вошли.
Нарциссический стиль их позиции по отношению к маленькому Гансу не подлежит сомнению, и мы в деталях изучим, что его определяет. Конечно, маленький Ганс будет любить женщин, но они останутся для него фундаментально связанными с определённого рода испытанием его силы. Именно это указывает нам на то, что он всегда будет относиться к ним не без опаски. Если можно так сказать, они будут его возлюбленными (maîtresses). То будут дочери его ума, как вы сами увидите, похищенные у его матери.
Эти положения предназначены для того, чтобы показать вам, в чём заключается смысл такого исследования. Само собой, чтобы это подтвердить, требуется вернуться на путь нашего продвижения. Поскольку мы приняли за ориентир означающую структуризацию мифа маленького Ганса, нам нужно определить временные такты её прогресса. И поскольку мы говорим об объектных отношениях, то, что именно между различными тактами означающей структуризации мифа представляют собой объекты, последовательно выходящие на передний план интереса маленького Ганса? Какие соответствующие подвижки в означаемом имеют место в тот особенно активный и плодотворный период, когда отношения маленького Ганса с его миром претерпевают определённого рода реновацию или революцию? Сумеем ли мы уловить то, что параллельно скандируют эти последовательные кристаллизации, представленные в форме фантазмов?
Без всяких сомнений, дело в последовательных кристаллизациях означающей конфигурации. Я показал вам в прошлый раз общность этих фигур. По крайней мере, я помог вам увидеть, как в этих последовательностях фигур одни и те же элементы, подвергаясь перестановке, каждый раз обновляют означающую конфигурацию, которая фундаментально остаётся незыблемой.
5 апреля возникает тема, которую я назвал возвращением. Она не объясняет суть фантазма, но представляет собой его фон. Речь идёт о том, что мы можем назвать тревогой, связанной с отъездом. Точнее, фантазм развивает тему тревожного единства с телегой, Wagen, которая находится у края разгрузочной платформы. Оно представляется таким не сразу, нужны были расспросы отца, которые помогали Гансу признаться в своих фантазмах и потому рассказать о них, организовать их, а также раскрыть их для себя самого, благодаря чему и у нас появилась возможность узнать о них.

11 апреля мы видим появление фантазма об отвинченной ванне, внутри которой маленький Ганс с большой дырой в животе. Взглянем на его приблизительные очертания.
| ГАНС В ВАННОЙ |
|---|
 |
21 апреля мы находим фантазм, который можно назвать повторным отправлением с отцом, что очевидно представляется фантастическим и невозможным -Ганс уезжает с бабушкой до того, как добирается до них отец, но когда отец появляется на перроне, неизвестно каким чудом маленький Ганс там оказывается. Вот в таком порядке представлено происходящее.
| ОТПРАВЛЕНИЕ С ОТЦОМ |
|---|
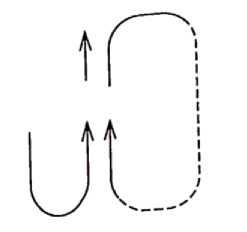 |
22 апреля - вагончик, в котором маленький Ганс едет совершенно один.
ГАНС ЕДЕТ СОВСЕМ ОДИН
Наконец, последний фантазм, вероятно, наметит предел, к которому мы сегодня сможем подойти.
О чём идёт речь до 5 апреля? Между 1 марта и 5 апреля речь сущностно и исключительно идёт о фаллосе. Именно с фаллосом отец связывает причину фобии, когда говорит, что фобия возникает из-за прикосновений к нему и мастурбации. Отец идёт ещё дальше, до предположения об эквивалентности того, чего мальчик боится, фаллосу, он напирает на эту мысль, пока не вытягивает из Ганса слова, что фаллос,

Wiwimacher - термин, с помощью которого фаллос вписан в словарь маленького Ганса -не кусается. Мы находим это 1 марта, в начале серии недоразумений, которые будут появляться на всём протяжении диалога маленького Ганса со своим отцом.
Речь идёт именно о фаллосе, когда кто-то кусает или кто-то ранит. Это верно настолько, что некто, не являющийся психоаналитиком, кого я попросил прочитать случай маленького Ганса, кто занимается мифологией и весьма продвинулся в теме мифов, сказал мне, что ему показалась поразительной представленная в подоплёке всего наблюдения неведомая активность не vagina dentata (зубастой вагины), но phallus dentatus (зубастого фаллоса). Но дело в том, что всё это наблюдение целиком и полностью развивается под знаком недоразумения. Я бы добавил, что это рядовой случай любого рода творческой интерпретации между двумя субъектами. Это наименьшая аномалия, которую следует ожидать в происходящем, и именно под знаком этого недоразумения прорастёт то, что принесёт плоды.
Так, когда отец заговорит с Гансом о фаллосе, он на самом деле имеет в виду его реальный пенис, который тот трогает. Конечно, он не ошибается, поскольку появление у юного субъекта эрекции и всех новых переживаний, с ней связанных, несомненно, изменило глубинный баланс всех его отношений с той, которая до недавнего времени представляла собой устойчивый пункт, фиксированный пункт, пункт всемогущества в его мире, то есть с матерью.
С другой стороны, что играет определяющую роль в обстоятельстве внезапного возникновения фундаментальной тревоги, которая заставляет всё колебаться? Этой тревоге он готов предпочесть что угодно, даже выковать тревожный сам по себе, полностью замкнутый образ лошади, который по крайней мере знаменует в центре тревоги какой-то ориентир и предел. Что в этом образе открывает дорогу атаке, укусу? Это другой фаллос, воображаемый фаллос матери.
Здесь-то и открывается для маленького Ганса апория того, что поддаётся воображению. Того, что было до сих пор его игрой, - показать или не показать фаллос -было игрой с фаллосом, который, как он давно уже знал, вовсе не существует, но он-то и был его ставкой в отношениях с матерью. Именно в этом плане происходила его игра соблазнения не только матери, но и всех маленьких девочек, об отсутствии у которых пениса он был прекрасно осведомлён - игра и состояла именно в том, чтобы поддерживать представление, что он у них всё-таки есть. Вот на что опирались отношения до этого момента - отношения, которые в основе своей состояли не в обмане, а в игре в обман.
Первая часть наблюдения, после которой начинается фобия, заканчивается фантазмом, который является таковым лишь в некотором смысле, поскольку представляет собой сновидение об игре в фанты, в которой ребёнок прячет что-то в руке и тому, кто хочет эту вещь получить, нужно выполнить какое-то задание. Ганс добивается того, чтобы маленькая девочка попросила его сделать пипи. Фрейд подчёркивает, что речь идёт о чисто аудиальном сновидении без визуальных элементов, несмотря на то, что оно касается игры смотреть или показывать, которая лежит в основе первых скоптофилических отношений с маленькими девочками. Игра угадай где? происходит в символе, в слове. Даже здесь словесный элемент выглядит превалирующим.
В течение этого первого периода любая попытка отца ввести реальность пениса с указанием на подобающее с ним обращение, то есть с запретом его трогать, побуждают маленького Ганса в строго автоматическом режиме вывести на первый план мотивы

этой игры. Например, у него тотчас появляется фантазм о том, что он со своей матерью, которая в рубашке совсем голая. Отец у него спрашивает: «Так она была совсем голой или в рубашке?» Ганса не затрудняет ответить: «Она была в такой короткой рубашке, что можно было увидеть её совсем голой», - то есть одновременно было и видно, и не видно. Вы узнаёте здесь структуру границы или края, характерную для восприятия фетишиста, сущность которой состоит в том, чтобы всегда почти увидеть и не увидеть то, что вот-вот появится. То скрытое, что даёт знать о себе в отношениях с матерью, является несуществующим фаллосом, игра с которым, однако, продолжается, как если бы он был налицо. Фантазм маленького Ганса акцентирует то, что в этот момент происходит -защиту против разрушительного элемента, который привносит отец, настойчиво говоря о фаллосе в терминах реального.
В этом фантазме маленький Ганс призывает свидетеля, маленькую девочку по имени Грета. Она призывается из резерва, конкретно из дома, из числа маленьких подружек, с которыми он состоит в воображаемых отношениях, но которые являются совершенно реальными персонажами. Будет не лишним подчеркнуть, что её зовут Грета, она участвует в этом фантазме, и мы ещё встретим её позднее. Она призвана в качестве свидетеля того, что делает мама и сам маленький Ганс, поскольку он упоминает, что тоже чуть-чуть трогает себя, schnelle, очень быстро, как бы тайком.
У Ганса есть необходимость ввести вфаллические отношения с матерью всё то новое, что происходит, не только из-за существования реального пениса, но и потому, что отец тоже подталкивает его в эту сторону. Компромиссное образование, последовавшее за этим, буквально структурирует весь период до 5 апреля, поскольку кое-что происходит.
Это не означает, что этим дело ограничилось, поскольку кое-что происходит ближе к 30 марта, дате консультации с Фрейдом. То, что проявляется на этом уровне, не является целиком искусственным, поскольку, как я вам уже говорил, заявляет о себе в фантазмах маленького Ганса, где отец является соучастником в его проступках - в некотором смысле он обращается к своему отцу за помощью.
В период между 1 и 15 марта, когда появляется фантазия о Грете и матери, речь прежде всего идёт о реальном пенисе и воображаемом фаллосе. В период между 15 марта и консультацией у Фрейда отец старается полностью перевести фаллос в реальность, рассказывая Гансу о том, что у больших животных большие фаллосы, а у маленьких маленькие, на что Ганс отвечает ему: «У меня он хорошо прикреплён, и он ещё вырастет». Снова появляется та самая схема, о которой я только что вам говорил. Реакция маленького Ганса на попытку отца перевести фаллос в реальность в очередной раз состоит вовсе не в усвоении того, доступ к чему у него вообще-то имеется, но в том, чтобы сфабриковать фантазм.
На этот раз, 27 марта, это фантазм о двух жирафах, в котором проявляется то, что является сущностным, а именно символизация материнского фаллоса, чётко представленная в маленьком жирафе. Хотя благодаря словам отца маленький Ганс и застрял между своей воображаемой привязанностью и настоятельностью реального, путь, на который он в этот момент вступает, задаст свою метрику (scansion) и даже схему всему развитию фобического мифа - именно воображаемый термин станет для него символическим элементом.
Иначе говоря, мы далеки от того, чтобы в объектных отношениях констатировать существование пути прямого перехода к значению нового реального и получению

возможности управляться с реальным с помощью символического инструмента как такового. Мы видим, напротив, что по крайней мере в той критической фазе, о которой идёт здесь речь и которая в аналитической теории отмечена как Эдип, реальное может быть реорганизовано в новую символическую конфигурацию только ценой реактивизации всех наиболее воображаемых элементов. В первоначальном подходе субъекта наблюдается настоящая воображаемая регрессия.
С первых шагов инфантильного невроза маленького Ганса мы располагаем моделью и схемой этой регрессии. В своих ответах отцу, подающему себя как представителя реальности, её нового порядка, необходимости адаптации к ней, воображение маленького Ганса работает так активно, что возникает тон глубокой недоверчивости, который сохраняется у него всегда. Это дано нам почти в материальной форме в начале наблюдения, именно это и создаёт его исключительный характер, то небесное благословение, что оно несёт. Маленький Ганс сам обнаруживает, каким образом может быть получено то, о чём идёт речь - а именно, что можно не только играть с этим, но можно сделать это из клочков бумаги. Первый образ маленького жирафа - это уже начало решения. Это синтез того, что маленький Ганс учится делать -он учится тому, как можно играть с образами.
Он не то чтобы знает это, но он просто включён в это в силу того факта, что он уже говорит, он уже маленький человек в купели языка. Но он прекрасно знает, какую ценную услугу оказывает ему возможность говорить, и без конца это подчёркивает. Когда он рассказывает о чём-либо и ему говорят, хорошо это или плохо, он отвечает: «Не важно, раз это можно отправить Профессору, то всё это хорошо».
Дело не только в том, чтобы просто говорить, но в том, чтобы говорить кому-то. В наблюдении мы находим ещё одно замечание такого рода, когда маленький Ганс показывает, какой плодотворной для него становится возможность с кем-то поговорить. И было бы чрезвычайно удивительно, если бы мы не распознали, что именно в этом заключается вся ценность и действенность анализа.
Таков первый детский анализ.
2
Во время консультации 30 марта Фрейд излагает свой миф об Эдипе в готовом виде, без малейшей попытки подправить и адаптировать его для ребёнка. Это один из наиболее захватывающих моментов наблюдения. Фрейд нарочито говорит: «Я расскажу тебе одну замечательную историю, которую я придумал. Ещё до того, как ты появился на свет, я знал, что однажды придёт маленький Ганс, который будет очень любить свою мать и из-за этого ненавидеть своего отца».
Эдип здесь представлен самим своим автором посредством операции, которая обнажает его фундаментально мифический характер, характер оригинального мифа, присущий ему в учении Фрейда. Он использует его в той же самой манере, в которой мы испокон веков учим детей, что Бог сотворил небо и землю, и множеству других вещей, в зависимости от культурного контекста, в который он включён. Это миф о происхождении как таковой, поскольку мы верим в то, что он определяет ориентацию, структуру, магистральную линию речи субъекта, который является его носителем. Дело касается именно его функции сотворения истины. Фрейд не преподносит это маленькому Гансу как-то иначе, и маленький Ганс даёт ответ, отмеченный той же двусмысленностью,

которая становится печатью его согласия на всё, что будет происходить в дальнейшем, он говорит примерно следующее: «Это очень интересно, это очень увлекательно, как же это прекрасно, ведь, действительно, профессору нужно было бы поговорить с Богом, чтобы узнать что-то вроде этого».
Что в результате? Фрейд сам чётко это формулирует, со всей строгостью, которой придерживаемся здесь и мы, - не стоит ожидать, что этот разговор сразу же принесёт плоды, важно, что он производит эффекты в бессознательном, выявляя их, unbewussten Produktionen vorzubringen, и позволяет фобии развиваться. Короче говоря, это стимуляция (incitation). Дело в том, чтобы имплантировать иной кристалл, если можно так выразиться, в то незавершённое значение, которое всем своим существом представляет маленький Ганс. Таким образом, с одной стороны, есть то, что происходит само по себе, - фобия, и, с другой стороны, Фрейд, который целиком привносит всё то, к чему она должна привести. Таким образом, Фрейд ни на мгновение не воображает, что религиозный миф Эдипа принесёт свои плоды немедленно, он рассчитывает способствовать тому, что расположено по другую сторону, то есть развитию фобии, и это в наибольшей степени способно открыть пути для того, что я только что назвал развитием кристалла означающего. Нельзя выразить это более ясно, чем это прозвучало в двух фразах Фрейда 30 марта.
Со стороны отца тогда возникает всё-таки небольшая и недолгая реакция. Отца, который в объектных отношениях и есть то самое, что ищем мы на различных этапах формирования образования означающего, но по-настоящему находим только в самом конце. И это нас не удивляет. Мы видим его выходящим на первый план непосредственно перед фантазией о вагончике, в момент противостояния с отцом в диалоге об Эдипе: «Почему ты такой ревнивый?» Точнее, термин, который применяется - страстный, ревностный, eifern. Отец протестует: «Я не такой!» - «Ты должен таким быть!» Это место встречи с отцом или, скорее, с тем отсутствием, которое демонстрирует в этот момент отцовская позиция. Здесь мы обнаруживаем только первое проявление этого отсутствия, небольшой шок. Мы прекрасно видим, как именно присутствует отец, он, что называется, блещет своим отсутствием.
И именно так на следующий день реагирует маленький Ганс - он приходит к отцу и говорит ему, что пришёл, чтобы увидеть его, потому что ему стало страшно, впрочем, он пришёл бы к нему и без этого. Он боится того, что отец может уехать. Отец сразу же спрашивает: «Но как такое возможно?» Это ведёт нас дальше, но остановимся поподробнее на этом страхе перед отсутствием отца и изучим размерность того, чего действительно касается этот страх.
В общем-то, это маленькая кристаллизация тревоги. Тревога не является страхом объекта. Тревога - это встреча субъекта с отсутствием объекта, когда субъект схвачен, когда он теряется, он предпочтёт этому что угодно, включая изготовление наиболее странного и наименее объективного из объектов, которым является объект фобии. Ирреальный характер страха, о котором идёт речь, чётко проявляется, если мы умеем это замечать, посредством своей формы - это страх отсутствия именно того объекта, на который ему только что указали. Маленький Ганс боится его отсутствия так же, как я говорил вам о психической анорексии, где нужно иметь в виду не то, что ребёнок ничего не ест, но то, что он ест ничто. Здесь маленький Ганс боится отсутствия отца, отсутствия, которое присутствует и которое он начинает символизировать.

Отец, со своей стороны, ломает себе голову, пытаясь понять, какими обходными путями ребёнок проявляет страх, который является лишь изнанкой желания. Это не является полным заблуждением, но описывает лишь сопредельные феномену окрестности. На самом деле субъект начинает осознавать, что отец точно не является тем, о ком Фрейд рассказал ему миф, и он говорит своему отцу: «Почему ты говоришь мне, что самое хорошее, что у меня есть, это мама, хотя я люблю тебя? Когда ты говоришь, что ненавидеть надо тебя, тут что-то не клеится».
В той точке, где мы оказались, можно сказать, что каким бы прискорбным такое положение дел ни было, тем не менее хорошо уже то, что Гансу удается выйти на путь, о котором идет речь, и сориентировать в связи с мифом место отсутствия. Перед нами здесь нечто такое, что сразу же регистрируется, что отмечается в наблюдении и что нужно рассматривать как символизацию. Если мы обозначим большой I означающее, вокруг которого фобия упорядочивает свою функцию, можно сказать, что при этом оказывается символизировано нечто такое, что мы назовём маленькой сигмой, о, и что представляет собой отсутствие отца р°. Получаем:

Это не означает, что здесь всё, что содержится в означающем лошади - это далеко не так. Лошадь не исчезнет вдруг из-за того, что мы скажем маленькому Гансу: «Ты боишься своего отца, его и надо бояться». Нет. Но всё-таки означающее лошади тотчас освобождается от некоторого заряда, и в наблюдении это записано: Nicht alle weissen Pferde beissen, Ганс больше совсем не боится белых лошадей, появляются такие, которых он больше не боится, и отец, несмотря на то, что он не следует пути нашей теоретизации, понимает, что есть такие, которые Vatti, Папа. И с этого момента их больше не боятся.
Почему их больше не боятся? Потому что Vatti очень добрый. Это то, что отец понимает, совершенно не понимая при этом, так и не понимая до самого конца, что именно в этом, в том, что Vatti совсем добрый, и заключается драма. Когда есть такой Vatti, который действительно способен внушить страх, то возникают правила игры, появляется возможность настоящего Эдипа, Эдипа, который помогает вам выйти из-под юбки вашей матери. Но поскольку Vatti, внушающего страх, нет, поскольку Vatti слишком добрый, то стоит упомянуть о его возможной агрессивности, как фобическое означающее лошади, Ыпос;, разряжается, и это оказывается зарегистрировано в тот же день.
В том, что я рассказываю, нет никакой натяжки, поскольку всё можно найти в тексте, достаточно незначительно изменить угол зрения, чтобы этот случай перестал быть лабиринтом, в котором мы заблудились, и чтобы каждая из его деталей, напротив, приобрела свой смысл. Может показаться, будто я продвигаюсь достаточно медленно и возвращаюсь ещё раз к началу, но это нужно мне для того, чтобы показать вам, что в этой перспективе не ускользает ни одна деталь. Начиная с момента, когда вы видите, как формулируется связь означающего - которое возникло у маленького Ганса спонтанно и естественно и приведено Фрейдом таким, каково оно есть - с означаемым на сносях, вы не можете упустить из виду, что как только появляется отец, тотчас регистрируется эффект разгрузки, отъятия, который отражается на означающих функциях и вписывается почти математическим образом, как на весах.
Есть два порядка тревоги, говорит нам Фрейд, они ещё раз возвращают нас к тому, о чём я только что сказал. Он противопоставляет тревогу по поводу отца, um der Vater, и

тревогу перед отцом, vor dem Vater. Достаточно принять вещи в том виде, как сам Фрейд нам их изложил, чтобы обнаружить здесь ровно два эти элемента, только что мной описанные - тревога по поводу полости, пустого места, которое для маленького Ганса представляет собой отец, ищет себе поддержку в фобии, в тревоге перед фигурой лошади. По мере того, как удаётся хотя бы под видом требования, настояния стимулировать тревогу, возникающую перед отцом, тревога по поводу отцовской функции разряжается. Тогда субъект может наконец испытывать тревогу перед чем-то.
К сожалению, это не смогло зайти достаточно далеко, поскольку отец, хотя и был налицо, оказался совершенно не способен поддержать выполнение установленной функции, которая отвечает нуждам корректного мифического образования, условиям эдипального мифа в его универсальном значении. Именно это снова приводит нашего маленького Ганса в затруднение. Как и предвидел Фрейд, его затруднения после всего этого разрастаются и находят своё дальнейшее воплощение в образованиях, порождаемых фобией, seine Phobie abzuwickeln. И для нас сразу же многое проясняется.
Фантазм, который я как-то раз использовал в качестве первого отправного пункта, появляется 5 апреля, и с трансформациями его нам предстоит встречаться до самого конца. Этот фантазм со всем тем, что его сопровождает и предвещает, придаёт весомость вопросу маленького Ганса, который он чётко формулирует днём раньше: «Что заставляет меня бояться?»
Мы начинаем это понимать. Он испугался, когда лошадь обернулась, umwendet. Тогда отец делает точное попадание, он действительно начинает заниматься анализом - то есть время от времени у него нет ясного представления куда идти, это и позволяет ему иногда кое-что обнаружить. Он прекрасно формулирует - A, B, C, D - четыре способа, которыми лошадь пугает Ганса. Все они вводят в игру элемент, обладающий особым значением для человека как для такого животного, которое, в отличие от других животных, обречено знать, что оно существует. Этот элемент демонстрирует здесь свою наиболее подрывную сторону. Именно это теперь развивается и формулируется маленьким Гансом в новообразованиях фобии. Этим элементом является движение.
Обратите внимание, что речь идёт не о поступательном, планомерном движении, которое мы всегда, или по крайней мере с некоторых пор, имеем в виду, движении, в котором мы себя не ощущаем, движении, в котором мы спасаемся. Что актуально уже начиная с Аристотеля, поскольку различение линейного и вращательного движения имеет именно этот смысл. На более современном языке мы скажем, что имеет место ускорение. Это и имеет в виду маленький Ганс, когда говорит, что запряжённая во что-нибудь лошадь больше пугает его, когда трогается быстро, чем когда трогается медленно. Там, где есть существо, которое принимает участие в движении, не будучи полностью в него вовлечённым, и может ощутить относительность ускорения в силу того, что обладает минимальной способностью отстраниться от жизни, которая состоит именно в том, что я только что назвал способностью к познанию своего существования, способностью быть существом, осознающим самого себя, - там есть тревога.
Эту тревогу и предстоит проанализировать. На самом деле она не соотносится с одним только фактом участия в движении, но также и с его изнанкой, а именно с фантазмом быть оставленным позади, быть сброшенным. Появление того, что неожиданно вовлекает его в движение, представляет для Ганса глубокое потрясение, потому что это движение, кардинально изменив базу его отношений со стабильностью матери, сталкивает его с присутствием матери как элементом, поистине подрывающим

самые основы его мира. Ганс говорит нам об этом, когда говорит о лошади, что она umfallen und beissen wird, падает и кусает.
Мы знаем, с чем связан укус - с возникновением того, что происходит каждый раз, когда возникает нехватка любви матери. В тот момент, когда она готова упасть, у неё, как и у самого маленького Ганса, нет другого выхода, кроме как впасть в реакцию тревоги от неизбежности, в реакцию, что называется, катастрофическую. Первый этап -укусить. Второй этап - упасть, кататься по земле и шуметь, Krawall gemacht.
Необходимо иметь в виду структуры формулы, с помощью которой маленький Ганс совершенно фантастическим способом пытается восстановить момент, в который он подхватил фобию - теперь всегда, jetzt immer, говорит он, лошади, запряжённые в омнибус, падают.
Такова формула, в которой воплощается для маленького Ганса всё, о чём идёт речь, именно так выражает себя постановка под вопрос всего, что до настоящего момента составляло основу его мира.
3
Это подводит нас к 9 апреля, где имеет место одна разработка темы тревоги, вызываемой движением. Что способно её смягчить?
Отец абсолютно бесполезен, потому что на самом деле ничто не способно помочь такому существу, как человек, чей мир структурирован в символическом, разрешить проблему того ощутимого становления, которое, так сказать, увлекает его в движение.
Вот почему нужно, чтобы в своей означающей структуре маленький Ганс совершил эту конверсию, состоящую в том, чтобы поэтапно перейти от схемы движения к схеме замещения.
Сначала появится тема съёмных частей, затем с её помощью мы приходим к схеме замещения. Эти два схематических этапа нашли своё выражение в сюжете о ванне.
На первом этапе она отвинчивается. Она отвинчивается не просто так, но, как я вам говорил, нужно будет, чтобы предварительно маленький Ганс проделал в себе дыру. Этот переход никогда не бывает безоплатным, дело не только в кастрации, но и в том, что она должна быть формально символизирована этим большим сверлом, которое протыкает его живот, причём этой детали не придаётся достаточного значения в наблюдении.
На втором этапе, после того как что-то отвинчено, на это место можно прикрутить что-то другое. Эта означающая форма задает ритмическое членение (scande) операции трансформации, которая преобразует движение в замещение, а слитную протяжённость реального в прерывистость символического. Всё наблюдение указывает на этот маршрут, без учёта которого его этапы и ход развития останутся непонятны.
Что происходит в означаемом? Как понять путанность и патетику маленького Ганса, которые настигают его в период между 5 апреля, когда он создаёт схему фантазма о трогающейся с места телеге и связанной с ним фобией, и фантазматическим отвинчиванием ванны 11 апреля, где намечается символизация возможного замещения? Что происходит между этими двумя датами? Там форменный завал материала, который мне пришлось разгребать, длинный отрывок, на всём протяжении которого речь идёт об одном только элементе, принадлежащем предшествующей

ситуации - единственном элементе, способном применить съёмность в качестве основного инструмента реструктуризации его мира. Что это за элемент?
Это тот самый элемент, о котором я говорил, что именно он должен быть введён нами в диалектику, заключающуюся в том, чтобы показывать и не видеть, выдавать то, чего нет, за то, что есть, но спрятано. Элементом демонстрации и невидимости, воссоздания того, чего нет, как того, что скрыто - элементом этим является сама завеса.
Это два дня беспокойных расспросов ничего не понимающего отца, который предпринимает здесь так явно, как нигде в другом месте, лишь череду неуклюжих попыток, таким же образом отмеченных и Фрейдом, уточняющим, что эта часть является потерянной для аналитического исследования. Неважно, у нас есть достаточно, чтобы понять, что Фрейд позаботился подчеркнуть здесь кое-что существенное, то, что происходит перед покровом, то есть пару маленьких панталон.
Маленькие панталоны представлены в подробных и тщательных деталях, маленькие желтые панталоны и чёрные панталоны. Панталоны, как нам сообщают, это видоизменённые брюки, смелое нововведение для женщин, пользующихся велосипедом. Действительно, нам известно, что мать Ганса придерживается передовых, прогрессивных тенденций. К матери мы вернемся, и в прекрасных комедиях Апполинера, в поэме «Сосцы Тиресия», в частности, есть описание, которое поможет нам лучше представить её образ. Как сказано в этой замечательной драме:
Они совсем как мы
Лишь только не мужчины
Вот в чём вся драма. С этого всё и начинается. Дело не в том, что мать маленького Ганса в большей или меньшей степени феминистка, дело в той фундаментальной истине, которая звучит в строках, которые я вам только что процитировал. Фрейд никогда не смягчал решающего значения этой истины - не случайно напомнил он нам фразу Наполеона, согласно которой анатомия - это судьба. Дело именно в этом, и именно об этом мы читаем в том, что формулирует в своей речи маленький Ганс. Ярые вопросы отца постоянно прерывают его и затрудняют понимание ответов, но Фрейд объясняет нам, в чём их суть.
Наиболее очевидным для нас здесь является то, что маленький Ганс распознаёт и различает панталоны в два этапа. Но это проецируется на их двойственность запутанным образом, как если бы одни в определённый момент могли бы принять на себя дополнительно функцию других. Принципиально важным здесь является вот что -панталоны как таковые связаны у маленького Ганса с реакцией отвращения. Более того, маленький Ганс попросил написать Фрейду, что, когда он увидел панталоны, он плюнул, упал на землю, после чего закрыл глаза. Именно такая реакция означает, что выбор сделан - маленький Ганс никогда не станет фетишистом.
Если бы он, напротив, узнал в этих панталонах свой объект, а именно тот самый таинственный фаллос, который никто никогда не видел, то он удовлетворился бы этим и стал фетишистом, но поскольку судьба распорядилась иначе, панталоны маленькому Гансу отвратительны.
Но он уточняет, что, когда их носит мать, - это другое дело. Тогда они уже совсем не отвратительные. В этом вся разница. Там, где они могут быть предложены ему как объект, когда они сами по себе, он их отталкивает. Они сохраняют своё свойство, если можно так выразиться, лишь исполняя свою функцию, лишь там, где они позволяют ему

поддерживать обманку фаллоса. Это и есть нерв, позволяющий нам понять полученные в опыте данные.
Реальность обнаруживает свое значение в этих долгих расспросах, в процессе которых маленький Ганс пытается объясниться. Если у него это не получается, то ровно постольку, поскольку его подталкивают в расходящихся и запутанных направлениях, но главное - это введение через посредничество привилегированного объекта элемента съёмности, который мы обнаружим далее и который с того момента переносит нас на план инструментализации. Мы увидим потрясающее разрастание материала, связанного с инструментами, - материла, который с этой поры станет в развитии означающего мифа преобладающим.
Я уже приводил примеры нескольких таких инструментов и показал также, как много особенностей вписано уже на уровне двусмысленности означающего, например, эта поразительная омонимия между щипцами, копытом и зубами лошади. Я мог бы и дальше продолжить её, сказав, что середина копыта называется щипцами, а две его стороны - сосцами.
В прошлый раз, упоминая о Schraubendreher, то есть об отвёртке, я сказал вам, что это не совсем то, что фигурирует в фантазии об установщике, что речь идёт именно о клещах, острогубцах. Фрейд выявляет тогда слово Zange, толком не представляя ценность, которую имеет эта инструментализация. И не только здесь. В объектах, которые теперь будут постепенно обнаруживать своё присутствие, вы увидите не только отношения матери и ребёнка, но и эту принципиальную сменяемость, которая выражает себя в человеческом вопросе о рождении и смерти. И на заднем плане мелькает загадочный, зловещий, вычурный персонаж аиста.
Но опять же не забывайте, что у аиста совершенно другой стиль. Этот Месье Аист, der Storch, - вы увидите, как появляется его экстравагантный силуэт в маленькой шапочке и с ключами, которые он держит в клюве, потому что у него нет карманов, и он пользуется своим клювом также как щипцами, держателем, зажимом.
С этого момента мы перегружены материалом, и это будет характерно для всей оставшейся части наблюдения. Чтобы не оставлять вас без какой-то конкретики, я подчеркнул бы осевой, поворотный момент того, что происходит вокруг матери и ребёнка.
В следующий раз мы рассмотрим всё это шаг за шагом и увидим, посредством каких конкретных означающих форм эта мать и этот ребёнок всегда оказываются, в трансформированном виде, самими собой. Повозка становится ванной, затем ящиком и так далее. Все эти элементы вмещаются (s'emboîtant) один в другой.
После того, как произошли некоторые подвижки с матерью, - вы увидите, какие именно - 22 апреля возникает одна маленькая прекрасная фантазия. Это игра с маленькой резиновой куклой, которую Ганс как бы случайно называет Гретой.
- Почему? - спрашивают у него.
- Потому что я назвал её Гретой.
Если как следует читать случай, обнаружится то, что, похоже, ускользнуло от отца, а именно то, что как раз эта девочка была свидетелем игры с матерью.
Но здесь мы кое-чего достигли, мы уже достаточно продвинулись в овладении, обуздании (maîtrise) матери. Термин овладение, обуздание (maîtrise) применяется здесь в наиболее техническом смысле, и вы увидите, посредством чего мы научились набрасывать на неё поводья и даже чуть-чуть пришпоривать, понуждать её.

Маленький Ганс вводит в маленькую куклу нож, протыкая её, затем делает кое-что, чтобы его вытащить. Он повторяет свою маленькую перфорацию небольшим перочинным ножичком, который он предварительно ввёл через маленькое отверстие, в которое раньше был вделан свисток, но на этот раз изнутри.
Маленький Ганс определённо оставил за собой последнее слово, дошёл до финального пункта фарса. Мать точила на него в своей голове ножичек, чтобы пустить его в ход. И маленький Ганс нашёл способ его извлечь.
22 мая 1957

глава 21 Панталоны матери и несостоятельность отца
Loumf и одежда
Отвинчивание ванны
Трахай её побольше
Замещение отца
Бесплодность материнской кастрации Идея Анны
09 апреля двое панталон
11 апреля ванна и сверло
13 апреля падение Анны
14 апреля большая коробка ...
15 апреля ... и аист
16 апреля отхлёстанная лошадь
21 апреля воображаемая поездка с отцом, большой диалог
22 апреля посвящение в вагончике, ножичек в кукле
24 апреля ягненок
26 апреля Лоди
30 апреля bin ich der Vati
02 мая установщик
Давайте вернёмся сегодня к нашим рассуждениям о маленьком Гансе, который уже какое-то время остаётся предметом нашего внимания.
Я напомню, в каком духе разворачивается этот комментарий. В целом, что для нас маленький Ганс? Болтовня пятилетнего ребёнка между 1 января и 2 мая 1908 года. Вот что такое маленький Ганс для непосвящённого читателя. Если же он посвящённый, а просветиться на сей счет нетрудно, то он поймёт, что эта болтовня представляет интерес.
Чем эта болтовня интересна? Она интересна тем, что поднимает или, по крайней мере, в принципе ставит вопрос взаимосвязи болтовни с некоторой совершенно определённой вещью, а именно с фобией, со всеми незадачами, которые она привносит в жизнь юного субъекта, со всеми неполадками, которые возникают в отношениях с его окружением, с тем интересом, который она вызывает у профессора Фрейда.
Я считаю крайне важным прояснить связь этой болтовни с этой фобией. Поэтому нет никакой необходимости обращаться к чему-либо помимо этой болтовни, о чём данные наблюдения не говорят. Мысль поискать что-нибудь в этом роде появляется у нас лишь задним числом и носит императивный характер предубеждения. Я приведу вам в качестве примера сделанный мной в прошлый раз комментарий о кукле, которую маленький Ганс протыкает ножом.
Сегодня я восстановил хронологию событий. Я думаю, что со временем вы все не только прочитаете, но и перечитаете случай маленького Ганса, и эти ориентиры сами по себе окажутся достаточно актуальными.
1
В прошлый раз я остановился на реакциях маленького Ганса на пару панталон матери, со всем тем проблематичным, что появляется в диалоге с отцом - с расспросами и глубоким недопониманием.

Я, вместе с Фрейдом, сделал акцент на том, что показалось ему наиболее существенным сухим остатком этого диалога, а именно на том утверждении, которое никаким образом не является ни подсказанным, ни внушённым в процессе расспросов, что двое панталон имеют абсолютно разный смысл в зависимости от того, сами ли они по себе - в этом случае маленький Ганс плюёт и катается по земле, всем своим видом демонстрируя отвращение, которое непонятно ему самому, но о котором он проявляет желание уведомить профессора, - или когда они на матери, когда они имеют для него совершенно другой смысл.
Сделав этот акцент, я имел возможность услышать со стороны некоторых невесть какое удивление по поводу того, что я де уклоняюсь от сопоставления так называемых Hosen, панталон матери, и loumf.
В словаре маленького Ганса loumf - это экскременты. Такое нетипичное название объясняется тем, что именование эта функция получает у ребёнка случайно, в зависимости от того, как она была названа в первый раз в связи с её осуществлением. Посмотрим, в чём тут дело.
По неведомым системным соображениям мне вменятся устранение этой самой анальной стадии, которая возникает в определённый момент в нашем сознании точно так же, как при нажатии кнопки вкл появляется условный рефлекс у собаки Павлова. В момент, когда вы слышите об экскрементах, тотчас возникает - Анальная стадия! Анальная стадия! Анальная стадия! Хорошо, поговорим об анальной стадии, поскольку нужно, чтобы дело шло своим чередом.
Я бы хотел, чтобы вы сделали небольшой шаг в сторону от этого наблюдения и увидели, что, несомненно, есть кое-что, никак в процессе этого скоротечного лечения не обозначенное. И разве это лечение? Я точно не говорил, что это было лечением, я сказал, что это текст, который имеет фундаментальное значение для нашего аналитического опыта, как любой другой большой случай Фрейда. В любом случае мы не можем в нём обнаружить ничего такого, что можно было бы вписать в регистр фрустрация-регрессия-агрессия.
В течение всего периода вышеупомянутого лечения маленький Ганс не только не подвергается никакой фрустрации, он, напротив, удовлетворен сполна. Регрессия, агрессия? Агрессия, вне всяких сомнений, существует, но совершенно точно не связанная ни с фрустрацией, ни с регрессией. Если регрессия и имеет место, то не в инстинктивном смысле и не в смысле возрождения чего-то минувшего.
Если и в самом деле имеет место феномен регрессии, то располагается он в регистре, на возможность которого я вам неоднократно указывал. Это то, что происходит, когда из-за необходимости прояснить свою проблему субъект прибегает к редукции того или иного элемента своего бытия-в-мире, своих отношений, например, к редукции с переходом от символического к воображаемому, иногда даже, как показано в этом наблюдении, от реального к воображаемому. Другими словами, речь прежде всего идёт о содержательном изменении одного из присутствующих терминов. Именно это вы и видите по ходу наблюдения, когда маленький Ганс продолжает свою разработку со строгостью и императивностью, характерными для означающего процесса, который Фрейд определил в качестве бессознательного. Субъект никоим образом не может этого осознавать, он буквально ничего не знает о том, что он делает; достаточно, чтобы его просто побуждали к развитию означающего воздействия, которое он сам допустил как необходимое для своей психологической поддержки, чтобы,

развивая его, прийти к определённому решению, которое не обязательно является ни нормализующим решением, ни лучшим решением, но точно решением, которое, как в случае маленького Ганса, наиболее очевидным образом разрешает симптом.
Вернёмся к loumf.
По поводу знаков отвращения, проявленных по отношению к панталонам матери, Фрейд говорит о связи с loumf, loumf-Zusammenhang. И отец задаёт вопросы в том же ключе; маленький Ганс однозначно показал, что вопрос экскрементов не является для него ни бессмысленным, ни безынтересным. Но в связи с loumf порядок обратный - мы можем сказать, что здесь, наоборот, loumf упоминается в связи с панталонами.
Что мы хотим этим сказать? Дело не только в том, что из-за реакции отвращения, возникающей по поводу панталон матери, маленький Ганс заговаривает об экскрементальных функциях. В связи с чем появляются в наблюдении экскременты и анальное? Несомненно, маленький Ганс проявляет к loumf интерес, который, возможно, не обходится без связи с его собственной экскрементальной функцией. Но то, о чём идёт речь в тот момент, - это причастность Ганса, полностью признаваемая матерью, к осуществлению её экскрементальных функций.
Каждый раз, когда она надевает и снимает панталоны, маленький Ганс увязывается за ней, докучает ей, а мать оправдывается перед отцом, говоря: «Я не могу поступить иначе, кроме как взять его с собой в туалет». Отец, впрочем, почти в курсе дела и снова принимается за своё небольшое расследование. Маленький Ганс и его мать играют между собой в игру видеть - не видеть, но также и в видеть то, что не может быть увиденным, потому что этого не существует, и маленький Ганс прекрасно об этом знает. Чтобы увидеть то, что не может быть увиденным, нужно прикрыть это вуалью, то есть разместить вуаль перед несуществованием того, что следует увидеть. В теме вуали, панталон, одежды угадывается принципиально важный для отношений матери и ребёнка фантазм - фантазм фаллической матери. В мотивах этой темы задействуется loumf.
Следовательно, если я помещаю loumf на положенный ему, то есть второй, план, то делаю это не ради систематизации, а потому что в наблюдении он приведён нам только в этой связи. В анализе недостаточно услышать известный мотив, чтобы в тот же миг испытать восторг и, оказавшись в знакомых краях, удовлетвориться расхожим рефреном (ritournelle), в данном случае - анальным комплексом. Важно знать, какую функцию несёт эта тема в тот или иной конкретный момент анализа. Если эта тема всегда важна для нас, то не просто по причине этого само собой разумеющегося значения, самого по себе расплывчатого и связанного лишь с идеями возрастного развития (génétisme), которые могут в этом конкретном случае в любой из моментов наблюдения быть оспорены. Она важна для нас тем, что связана с полной системой означающего, которая развивается как в симптомах болезни, так и в процессе лечения.
Если loumf внутри этой системы имеет дополнительное значение, то именно по причине своей строгой гомологичности функции панталон, то есть функции вуали. Loumf, как и панталоны, представляет собой нечто, что может упасть. Завеса падает, и проблема Ганса находится именно в том измерении, где завеса падает.
Он, можно сказать, приподнимает эту завесу, поскольку именно в связи с тем, что происходит 9 апреля, с длинными объяснениями относительно панталон, появляется, как мы видим, фантазм о ванне, то есть вводится элемент, имеющий наиболее тесную связь с падением. Комбинация этого падения с другим термином, в присутствии

которого Ганс столкнулся с фобией, а именно с укусом, создаёт тему съёмности, отвинчивания, ставшую принципиально важным элементом редукции ситуации в череде фантазмов.
Череду фантазмов маленького Ганса определённо следует понимать как миф в развитии, дискурс. В наблюдении речь идёт не о чём другом, как о серии переизобретений этого мифа с помощью воображаемых элементов. Дело в том, чтобы понять функцию этого идущего по кругу прогресса, этих серий преобразований мифа и то, что из себя представляет на глубинном уровне для Ганса решение проблемы его собственной позиции в существовании, как имеющей отношение к определённой истине, определённому количеству ориентиров истины, в которых ему предстоит занять своё место.
Если бы тому, о чём я сказал вам, нужны были какие-то дополнительные доказательства, - поскольку мне возразили и я это возражение услышал, я настаиваю на том, чтобы разобраться с ним до конца - я бы добавил, что маленький Ганс, когда он возвращается от бабушки в воскресенье вечером 12 апреля, выказывает своё отвращение к чёрным подушкам в купе вагона, потому что это 1ои1^. В дальнейшем объяснении с отцом что следующее будет сравниваться с чёрнотой 1ои1^? Чёрная блузка и чёрные чулки. Тесная связь темы 1ои1^ с одеждой матери, то есть с темой вуали, удостоверяется в наблюдении самим маленьким Гансом, правда, по ходу ответов на вопросы его отца.
К слову, что такое 1ои1^ и откуда он взялся? Почему маленький Ганс назвал экскременты 1ои1^? И об этом тоже нам сказано в наблюдении - это сравнение с черными чулками.
Короче говоря, в том сегменте наблюдения, который мы изучаем, 1ои1^, то есть экскременты, всегда выступают в роли означающей артикуляции в связи с темой одежды, вуали, за которой скрывается отрицаемое отсутствие пениса матери. Вот что имеет принципиально важное значение.
Следовательно, мы никаким образом не меняем направление наблюдения и никак не изменяем его духу, когда намечаем эту смысловую ось, чтобы понять развитие его мифических преобразований, благодаря которым в анализе достигается снижение фобии.
2
Итак, мы добрались до 11 апреля и фантазма о ванне.
Я вам говорил, что с ванны начинается мобилизация ситуации, то есть удушливой и единственной реальности, воплощаемой матерью, с которой Ганс по причинам х чувствует себя связанным, сопровождающейся максимальным усилением тревоги. С этого момента он разом чувствует, что полностью принадлежит матери, она угрожает ему уничтожением, она представляет собой опасность, причём опасность безымянную, то есть именно тревогу. Посмотрим, как ребёнок выходит из этой ситуации.
Я напомню вам основополагающую схему ситуации, в которой ребёнок один на один с матерью на пути к потере её любви.

Enfant Es Mère S i S (i)
Pénis réel Sein R. Anna
Мать, поскольку она может отсутствовать и присутствовать, является матерью символической, первым элементом реальности, символизированной ребёнком. Когда с её стороны имеет место отказ в любви, компенсация этому обнаруживается в реальной груди как подавление реальным удовлетворением. Но это не означает, что при этом не возникает инверсия. На самом деле в том измерении, где грудь является компенсацией, она тотчас становится символическим даром, в то время как мать становится реальным, то есть всемогущим элементом, отказывающим в своей любви.
Развитие ситуации с матерью сводится к тому, что ребёнок должен открыть для себя то, что по другую сторону матери любимо ею. Воображаемым элементом является не ребёнок, но i, то есть материнское желание фаллоса. В конце концов, то, что ребёнок должен сделать на этом уровне - и вовсе не обязательно он это сделает - это совершить переход по формуле i ^ 5 (i). Именно это замечаем мы в сокрытии, которое разыгрывает ещё не заговоривший ребёнок, когда чередование его действий сопровождается парным символическим противопоставлением, вокализированной оппозицией.
Для маленького Ганса эта схема усложняется введением двух реальных элементов. С одной стороны, Анна, то есть реальный ребёнок, усложняет ситуацию в отношениях с тем, что по ту сторону матери. И потом, есть кое-что, действительно ему принадлежащее, с чем он буквально не понимает, что делать, - это реальный пенис, который начинает возбуждаться и который получает плохой приём от персоны, вызывающей его функционирование. Маленький Ганс приходит к матери со словами: «Ты не находишь его милым?» Тётка как-то сказала ему: «Красивее и не бывает». Мать же, наоборот, очень плохо встретила слова Ганса, и с этого момента вопрос сильно усложняется.
Чтобы проанализировать это усложнение, достаточно воспользоваться только двумя полюсами фобии, а именно двумя элементами, несущими в себе угрозу со стороны лошади: лошадь кусает и лошадь падает.
Лошадь кусает означает: «Поскольку мне уже нечем удовлетворить мать, она будет удовлетворять себя так же, как и я удовлетворяю себя, когда она меня ничем не удовлетворяет, то есть она будет кусать меня, как я её кусаю, потому что это моё последнее средство, чтобы убедиться в её любви».
Лошадь падает (tombe): «Она падает точно также, как упал и я, маленький Ганс, которого бросили (laissé tombé), потому что теперь думают только об Анне».
С другой стороны, ясно, что так или иначе нужно, чтобы маленький Ганс был съеденным и укушенным. Это необходимо, потому что соответствует новой переоценке принятого за ничто и отвергнутого матерью пениса; чтобы стать чем-то, а ведь именно к этому стремится маленький Ганс, ему нужно быть укушенным. Укус, захват его матерью является настолько же желанным, насколько и пугающим.
То же самое для падения. Для маленького Ганса падение лошади может быть не только пугающим, но и желанным. У маленького Ганса было желание увидеть падение не только этого элемента. С тех пор как мы ввели в наблюдение категорию падения, первым его элементом представляется маленькая Анна. Он хочет, чтобы она упала с

выступающего балкона в стиле сецессиона - мы в доме людей передовых вкусов - и для того, чтобы у маленького Ганса не так легко получилось вытолкать малышку Анну наружу, зазоры решетки заделали уродливыми прутьями.
Как функция укуса, так и функция падения даны в наиболее очевидных структурах фобии. Они представляют собой её сущностные элементы. Как вы видите, это двухсторонние означающие элементы. Вот истинный смысл термина амбивалентность. Падение, как и укус, не только пугает маленького Ганса. Эти элементы могут вмешиваться также и в противоположном смысле. Укус в определённом смысле является желаемым, поскольку сыграет принципиально важную роль в разрешении ситуации. Падение - также желаемый элемент: девочка, само собой, упасть не должна, зато мать в процессе наблюдения точно опишет кривую траектории падения после появления занимательной инструментальной функции отвинчивания, которая впервые возникает загадочным образом в фантазии о ванне.
Как я говорил вам в прошлый раз, дело в тревоге, которая имеет отношение не только к матери, но ксовокупности всего окружения, всего, что к этому моменту сформировало реальность маленького Ганса и определило её координаты - к тому, что в прошлый раз я назвал жилищем (baraque). С появлением первого фантазма, в котором приходит Schlosser, отвинчивающий ванну, начинается её демонтаж по частям.
Это вовсе не абстрактная взаимосвязь, сконструированная мной, но нечто, содержащееся непосредственно в опыте. Наблюдение случая раскрывает для нас, что Ганс уже видел отвинченные ванны, поскольку во время поездок на каникулах в Гмунден ванну возили с собой в ящике. С другой стороны, мы знаем о предыдущих переездах, точные даты которых, к нашему сожалению, неизвестны, но они должны располагаться в периоде, описанном в анамнезе наблюдения, то есть за два года до болезни, о чём у нас есть несколько записей родителей.
Переезд и транспортировка ванны в Гмунден уже снабдили маленького Ганса означающим материалом для того, чтобы обозначить демонтаж всего жилища (baraque). Он уже знает, что такое возможно, это уже было для него опытом, более или менее интегрированным в его манипуляции означающим. Фантазм об отвинченной ванне является своего рода первым шагом в восприятии феномена фобии, который изначально представляется в неясном свете, в виде сигнала к торможению, остановки, границы, рубежа, через который невозможно перейти. Все это может быть приведено в движение лишь в самой фобии, элементы которой могут быть скомбинированы иначе.
В прошлый раз я рассказал вам о множестве разных значений слова щипцы, которое в немецком языке, как и во французском языке, и во многих других, в частности, в греческом, описывают часть лошадиной морды, её передние зубы, а также некоторые другие вещи, означающие щипцы или острогубцы. Именно здесь впервые появляется персонаж, который с помощью щипцов и острогубцев вводит в игру элемент развития -элемент, повторяю, чисто означающий. Вы же не станете ссылаться на инстинктивные модели, которыми якобы уже обладает ребёнок, чтобы объяснить, почему его зад был отвинчен. Это невозможно нигде, кроме как в означающем, то есть в том человеческом мире символа, включающем в себя также орудия и инструменты, где будет развиваться мифическая эволюция, куда маленький Ганс неясным образом и наощупь вступает, пользуясь помощью двух других сотрудничающих с ним персонажей, которые занялись его случаем для психоанализа.

Я на мгновение задержусь на том, что есть не только ванна и отвинчивание, есть ещё Bohrer, сверло (perçoir). Как это обычно и бывает, свидетели периода разработки психоанализа обладали обострённым восприятием по отношению к новизне открытия и не имели никаких сомнений по поводу того, что представляет собой это сверло. «Это отцовский пенис», - говорят они. В этом месте текст также отмечен некоторым колебанием - нацелен ли этот пенис на Ганса или он нацелен на мать? Эта двусмысленность совершенно оправдана и тем больше, чем лучше мы понимаем, о чём идёт речь.
Рассмотрите это как подтверждение моих слов о том, что недостаточно иметь в виду более или менее полный набор классических ситуаций в анализе, а именно, что существует перевернутый комплекс Эдипа и что, наблюдая коитус родителей, ребёнок может идентифицировать себя на женской стороне. Мы действительно могли бы обнаружить здесь идентификацию маленького Ганса со своей матерью - почему бы и нет? - но при том условии, что уяснили бы для себя, какой это имеет смысл, поскольку удовлетвориться лишь тем, что просто сказать это, не только не представляет никакого интереса, но и никаким образом не согласуется с появлением в фантазии того, что ребёнок воображает и артикулирует нечто, проделавшее в его животе большую дыру. Это может обрести свой смысл только в контексте, в означающем развитии, о котором идёт речь.
Напомним, что в это время маленький Ганс объясняет своему отцу: «Засунь его, наконец, куда следует». Именно об этом идёт речь в отношениях маленького Ганса и его отца. У нас всегда есть понимание и об этой несостоятельности, и о том усилии, которое предпринимает маленький Ганс, чтобы восстановить, я бы не сказал, нормальную ситуацию - потому что об этом не может быть и речи с того момента, как отец принимает ту роль, которую разыгрывает перед Гансом, то есть уверяет, что он, папа, не злой - но ситуацию структурированную. И в этой структурированной ситуации есть веские причины, в силу которых маленький Ганс, приближаясь к тому, чтобы открутить (déboulonnage - открутить болт, в разг. лишить престижа, «опустить») мать, соответственно, и, в императивной манере претендует занять по отношению к отцу её место.
Повторяю, есть тысяча способов, тысяча вариантов проявлений, посредством которых по ходу анализа дают о себе знать фантазии пассивности маленького мальчика, его идентификации с матерью в фантазматических отношениях с отцом.
Не далее как в моём собственном аналитическом опыте я услышал недавно от одного мужчины, который был не большим гомосексуалистом, чем мог им стать маленький Ганс, как он в определённый момент своего анализа сформулировал, что в детстве он, без всяких сомнений, воображал себя занимающим материнскую позицию. Для него дело было в том, чтобы предложить себя в качестве жертвы на её месте. Вся его детская ситуация в действительности переживалась им на фоне назойливой сексуальной настойчивости отца, персонажа весьма любвеобильного (exubérant), даже требовательного в своих нуждах по отношению к матери, которая противилась их удовлетворению изо всех сил, что ребёнок, правильно или нет, воспринял именно как то, что она переживала ситуацию в качестве жертвы.
Эта идентификация интегрирована в развитие симптоматологии субъекта -субъекта невротического - настолько хорошо, что мы никаким образом не можем остановиться на том, чтобы рассматривать её просто как позицию женскую (féminisée),

даже гомосексуальную, представляющую функционально в определённый момент анализа исход этого фантазма в контексте, наделяющим его другим, даже противоположным смыслом, по отношению к тому, что происходит в случае с маленьким Гансом.
Маленький Ганс говорит своему отцу: «Трахай её побольше», - тогда как мой пациент говорит: «Трахай её поменьше». Это не одно и то же, хотя оба и пользуются одними словами «трахай её», даже «трахай меня вместо неё, если нужно». Именно означающая связь термина позволяет нам судить, о чём идёт речь.
В том виде, в котором я вам её представил, сложившаяся ситуация очевидно не имеет выхода, поскольку опять-таки не происходит вмешательства отца. Вы скажите мне: «Вообще-то, отец существует, он там присутствует». Какова функция отца в комплексе Эдипа? Совершенно очевидно, что, в какой бы форме не был представлен тупик отношений ребёнка с матерью, необходимо внедрение другого элемента.
Есть вещи, которые нужно повторять; если мы их не повторяем, мы их забываем. Вот почему мы ещё раз переформулируем комплекс Эдипа.
3
Конечно, я не собираюсь предлагать вам новое определение комплекса Эдипа. Представляя собой фундаментальную схему, он по определению должен быть объяснён тысячей различных способов. Тем не менее, есть структурные элементы, которые мы всегда можем найти в их неизменности, по крайней мере, в том, что касается их взаимного расположения и количества.
В некотором смысле отец становится третьим в отношениях ребёнка и матери. С другой стороны, он становится четвёртым, поскольку уже есть три элемента с учётом несуществующего фаллоса. Вот в чём заключается суть ситуации в себе (en-soi)
4, если вы позволите это выражение, которое мне не очень нравится, но я вынужден его использовать, чтобы продвигаться быстрее. Я хочу сказать, что в данный момент имею в виду отца таким, каким он должен быть в той ситуации с другими, в независимости от того, что будет происходить в измерении субъекта для себя (pour-soi). Это выражение мне тоже не очень нравится, потому что вы можете подумать, что это самое для себя (pour-soi) представлено в сознании субъекта, тогда как по большей части оно бессознательно и касается эффектов комплекса Эдипа. Я говорю, что отец должен быть там в себе (en-soi) для того, чтобы подчеркнуть разницу. Какова должна быть его роль?
Я не собираюсь по этому поводу пересматривать всю теорию комплекса Эдипа. И тем не менее скажем, что отец - это тот, кто обладает матерью, кто обладает ей как отец, со своим настоящим пенисом, пенисом, способным удовлетворить, в отличие от ребёнка, испытывающего проблемы со своим инструментом, который одновременно и плохо усвоен и несостоятелен, если не отвергнут и презираем.
Чему нас учит аналитическая теория в комплексе Эдипа? Что делает его своего рода необходимостью? Я не говорю ни о необходимости биологической, ни о необходимости внутренней, но о необходимости по меньшей мере эмпирической,
4 an sich - «в себе, субстанция, подлинная, собственная природа вещей (у Гегеля). У Сартра «особая область бытия», характеризующая бытие как присущее ему самому, без дистанции по отношению к себе (в отличие от бытия «для себя» сознания).

поскольку его открытие происходит именно в опыте. Если и есть нечто говорящее о существовании комплекса Эдипа, то это обстоятельство, что естественный рост сексуальной потенции у юного мальчика происходит не в один такт и не в два. В действительности, если мы возьмём только физиологический план, это происходит в два такта, но простое рассмотрение этого естественного роста ни в коем случае не является достаточным для объяснения происходящего.
Фактически, чтобы ситуация развивалась в нормальных условиях, - я имею в виду, в таких условиях, которые позволяют человеческому субъекту сохранять достаточную степень присутствия не только в реальном мире, но и в мире символическом, то есть выносить себя в мире реальном, но и в мире символическом, то есть выносить себя в реальном мире, организованным в символическом поле, - недостаточно восприятия лишь того, что я в прошлый раз назвал движением с тем ускорением, которое несёт субъекта и переносит его, необходима также остановка и фиксация двух терминов. Нужно, чтобы, с одной стороны, функционировал настоящий, реальный, действующий пенис отца. И, с другой стороны, нужно, чтобы к его действенности, реальности и достоинству присоединился пенис ребёнка, который с ним сравнивается (Vergleichung). И для того, чтобы это произошло, необходимо осуществить переход путём упразднения (annulation), которое называется комплексом кастрации.
Другими словами, при условии того, что его собственный пенис временно упраздняется (annihilé), ребёнок обнадёживается получить впоследствии доступ к полноценной отцовской функции, то есть стать тем, кто на законных основаниях обладает своей мужественностью. И выглядит так, что наличие этого законного основания имеет решающее значение для благополучного осуществления сексуальной функции у человеческого субъекта. Без учёта этого регистра всё, что мы говорим о детерминизме ранней эякуляции и различных нарушениях сексуальной функции, не имеет никакого смысла.
Вот в чём заключается переосмысление проблемы Эдипа. На это указывает нам опыт, и случается это непредвиденно. Схема ситуации, которую я вам дал накануне, такая же непредвиденная сама по себе. Доказательством тому служит то, что аналитический опыт, открывший Эдипа как интеграцию в функцию мужественности, позволяет нам ещё ближе продвинуться в понимании символического отца.
Символический отец является именем отца. Это принципиальный элемент, регулирующий символический мир и его структуризацию. Он необходим для отнятия (sevrage) на более принципиальном уровне, нежели раннее (primitif) отнятие (sevrage), посредством которого ребёнок выходит из ситуации чистой и прямой обусловленности всемогуществом матери. Имя отца имеет ключевое значение для любой артикуляции человеческого языка, это та причина, по которой в Экклезиасте говорится: «Сказал безумец в сердце своём: нет Бога».
Почему он говорит в своём сердце? Потому что он не может произнести это своим ртом. С другой стороны, строго говоря, само по себе безумно говорить в своём сердце, что Бога нет, просто потому что безумно говорить то, что противоречит самой артикуляции языка. Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь исповедовать здесь деизм.
Есть символический отец. Есть реальный отец. Опыт учит нас, что именно присутствие реального отца играет сущностную роль в расположенности к осуществлению мужской сексуальной функции. Для того чтобы субъект действительно пережил комплекс кастрации, нужно, чтобы реальный отец всерьёз сыграл свою роль.

Нужно, чтобы он исполнил свою функцию отца-кастратора, функцию отца в её конкретной, практической (empirique), я собирался сказать, даже вырождающейся форме, имея в виду персонажа примитивного отца в виде ужасного тирана, в котором фрейдистский миф нам его представил. Лишь постольку, поскольку отец, как он есть, исполняет свою воображаемую функцию, которая предстаёт в эмпирических своих проявлениях невыносимой, даже отвратительной, заставляя ощутить своё воздействие как кастрирующее, может комплекс кастрации быть пережит.
Случай маленького Ганса прекрасно это иллюстрирует. Есть символический отец и есть маленький Ганс, который, не будучи безумцем, тотчас уверовал, что Фрейд - это милостивый Бог. Это один из наиболее существенных элементов, помогающих Гансу найти равновесие. Естественно, он уверовал в это так же, как и все мы верим в милостивого Бога, - он верит без веры. Он верит в это, потому что отсылка к некоему высшему свидетелю представляет собой неотъемлемый элемент любой артикуляции истины. Есть некто, знающий всё, он нашёл его, это профессор Фрейд. Какая удача! Он обнаружил, что есть милостивый Бог на земле. Не каждому так повезло.
Это оказывает ему хорошую услугу, но никак не возмещает недостаток воображаемого отца, настоящего отца-кастратора. Вся проблема в этом. Проблема маленького Ганса в том, что ему предстоит найти заместителя тому отцу, который упорно не хочет его кастрировать. Это ключевой момент наблюдения.
Вопрос в том, чтобы понять, каким образом маленькому Гансу удаётся поддерживать свой реальный пенис как раз там, где ему не угрожают. Именно здесь залегает фундамент тревоги. Невыносимость ситуации создаёт именно нехватка кастратора. Фактически на протяжении всего наблюдения вы нигде не видите появления чего бы то ни было, представляющего собой структуризацию, реализацию, осуществление хотя бы фантазматического чего-то такого, что можно было бы назвать кастрацией.
Маленький Ганс настойчиво выискивает рану, и ему подходит всё, что бы в этом смысле ни произошло. В противоположность тому, что говорит Фрейд, эпизод с Фрицем, поранившим ногу о камень, не содержит в себе ничего, что можно было бы связать с кастрацией. Пожелание, чтобы отец получил эту рану, напоминающую мифическое обрезание, появится спустя некоторое время в большом диалоге 21 апреля, когда он скажет своему отцу: «Тебе нужно прийти туда как голый», als Nackter. И все поставлены в тупик, задаваясь вопросом, что же этот ребёнок имел в виду. Есть мнение, что этот ребёнок начинает говорить по-библейски. Даже в наблюдении в скобках есть объяснение: это означает, что ему следовало бы прийти босоногим. И тем не менее прав маленький Ганс. Дело в том, чтобы узнать, выдержит ли отец испытание, противостанет ли как мужчина грозной матери Ганса, прошёл ли сам отец через основополагающую инициацию раной, ударился ли о камень. И вы видите, насколько эта тема в своей наиболее фундаментальной, наиболее мифической форме является тем, чем вдохновляется Ганс всем своим существом.
К сожалению, ничего подобного. В диалоге со своим отцом маленькому Гансу недостаточно было сказать то, что он сказал. В этот момент он только показывает огонь своего неугасимого желания быть ревнуемым ревнивым богом - eifern является библейским термином - а именно отцом, который злится на него и кастрирует. Но этого не происходит, и ситуация разворачивается совершенно иначе. Вскоре я скажу вам, каким образом мы можем её продумать.

Когда не возникает кастратора в лице отца, появляются несколько персонажей, которые заступают на это место кастратора - Schlosser, начинающий с того, что отвинчивает ванну и далее делает прокол, и другой, откровенно говоря, не вписывающийся в функцию желаемого отца, названный самим маленьким Гансом установщиком, тот, кто фигурирует в заключительном фантазме 2 мая. Поскольку Бог не очень хорошо справляется со всеми этими задачами, необходимо появление deus ex machina, установщика, на которого маленький Ганс возлагает часть функций кастратора, затребованного комплексом кастрации.
Нужно суметь прочитать этот текст. Нет ничего более поразительного, чем то, что осуществляется в последней фантазии, которая буквально завершает ход наблюдения. То, что приходит заменить установщик, это зад маленького Ганса, его седалище. Недостаточно разобрать по частям всё жилище (baraque), нужно изменить кое-что в маленьком Гансе. Без всяких сомнений, мы обнаруживаем в этом схему фундаментальной символизации комплекса кастрации.
Мы видим в самом наблюдении, насколько сам Фрейд послушно следует схеме. Хотя в фантазме маленького Ганса нет и следа какой-либо замены в передней части, отец додумывает это и говорит: «Очевидно, тебе дали другой пенис». И Фрейд следует его примеру. К сожалению, ничего подобного там нет. Ему отвинчивают зад, дают другой и говорят: «Повернись другой стороной». Всё заканчивается на этом, нужно только прочитать текст таким, каким он написан. Именно в этом заключается специфика наблюдения случая и то, что позволяет нам его в целом понять.
В действительности, если, подойдя так близко, не удаётся больше сдвинуться ни на шаг, то происходит это по той причине, что тогда имела бы место не фобия, но комплекс Эдипа и нормальная кастрация. И не возникло бы нужды во всех этих усложнениях, ни в фобии, ни в симптоме, ни в анализе для того, чтобы прийти в пункт, который не обязательно является пунктом, заранее предопределённым, типичным.
Вот что позволяет нам более точно определить функцию отца в этом случае. Бесспорно, он задействован и приносит пользу в анализе. Но в то же время он обусловлен функциями, предопределёнными ситуацией в целом, которые очевидно несовместимы с эффективной реализацией функции отца-кастратора.
Кастрация имеет место именно в силу того, что комплекс Эдипа является кастрацией. Но неспроста мы наощупь обнаружили, что кастрация имеет отношение как отцу, так и к матери. Материнская кастрация - мы видим её в описании первичной (primitive) ситуации - несёт в себе для ребёнка опасность пожирания и укуса. Материнская кастрация предшествует заменяющей её отцовской кастрации.
Последняя, возможно, не менее ужасна, но она определённо более благоприятна, нежели первая, потому что оставляет перспективу развития, чего нельзя сказать о варианте поглощения и пожирания матерью. На стороне отца появляется возможность диалектического развития. Возможно соперничество с отцом, возможно убийство отца, возможно оскопление отца. На этой стороне комплекс кастрации приносит свои плоды в Эдипе, чего не происходит на стороне матери. По той простой причине, что мать невозможно оскопить, потому что у неё нет ничего, подлежащего оскоплению.
Вернёмся к тому положению вещей, в котором мы оставили маленького Ганса. В этом пункте он на перепутье.
Мы уже видим, как намечается способ замещения, который позволит оставить позади первичную (primitive) ситуацию, в которой доминирует в чистом виде угроза

тотального пожирания матерью. Кое-что намечается в фантазме о ванне и проколе. Поскольку все фантазмы маленького Ганса представляют собой начало проработки ситуации с помощью артикуляции. Имеет место, если можно так выразиться, возврат угрозы отправителю, то есть матери. Мать развинчивается, развенчивается, просверливается (déboulonnée) и именно отец призван сыграть роль откручивателя и прокалывателя (perceur).
Здесь, опять же, я не делаю ничего другого, как только буквально следую тому, что пишет Фрейд. Он настолько захвачен этой ролью того, кто откручивает, прокалывает, просверливает, что делает замечание - не решая вопроса, так как для этого потребовалось бы обратиться к данным филологии, этнографии, мифологии и так далее - о связи, которая может иметь место между Bohrer, сверлом, и geboren, родиться. Между двумя корнями нет связи. Как нет связи в латыни между ferio, стучать, и fero, носить. Это разные корни, и в разных языках между ними остаётся чёткое различие. Наконец, есть ferare, прокалывать, что явно отличается как от первого, так и от второго. Но важно то, что Фрейд задерживает своё внимание на означающем, на чисто означающей проблематике, которая здесь возникает, что он вспоминает о Прометее, который откручивает, прокалывает, сверлит (perceur), в отличие от того, кто проколот (percé), gebohrt, и того, кто рождён, geboren - слово, означающее вынашивание, рождение ребенка на свет. Я упоминаю об этом в скобках, чтобы подчеркнуть интерес Фрейда к означающему.
Какова линия, по которой будут развиваться последствия решения или, скорее, замещения, предпринятого Гансом? Если решение это только замещение, то он в некотором смысле бессилен заставить созреть - позвольте мне это выражение, речь здесь не идёт об инстинктивном созревании - или подтолкнуть в направлении, которое не окажется тупиковым, диалектическое развитие ситуации. Следует полагать, что кое-чего он достигает, раз есть развитие. Дело в том, чтобы понять, чего именно, и понять в его целом. Сегодня я смогу только указать на это.
Какими обходными путями пойдет развитие событий, начиная с середины апреля? Анна появляется как элемент, падение которого возможно и желательно. Он воспринимается как инструментальный элемент (так же, как материнский укус, как заменитель кастрирующего вмешательства) и ориентирован в этом направлении, поскольку соотносится не с пенисом, но кое с чем другим, что в последнем фантазме подлежит замене. Следует полагать, что эта замена уже сама по себе является в определённой степени удовлетворительной и в любом случае достаточна для ослабления фобии. В конце концов Ганс изменился, именно это было достигнуто. В следующий раз мы рассмотрим захватывающие и наиважнейшие для развития Ганса последствия того, чего удалось достичь.
Анна вступает в игру, что становится ещё одним неусваиваемым элементом ситуации. Весь процесс производства фантазмов Ганса принимает форму возвращения этого непереносимого элемента реального в регистр воображаемого, в котором он может быть реинтегрирован. Этот процесс разбит на этапы, которые мы постараемся описать один за другим.
Прочитайте и перечитайте наблюдение с этим ключом. Посмотрите, как Анна реинтегрируется в совершенно фантазматической (fantasmatique) форме. Маленький Ганс говорит нам, например: «Два года назад Анна уже приезжала с нами в Гмунден». На самом деле она тогда была в животе своей матери, но маленький Ганс тем не менее

рассказывает нам, что её привезли в маленьком багажнике экипажа и что она беззаботно проводила там время. Или ещё, что во все предыдущие годы её так возили, потому что маленькая Анна была там всегда. Для маленького Ганса невыносимо представить себе, что Анна отличается от той, которая была на каникулах в Гмундене, и он компенсирует это припоминанием.
Я применяю этот термин именно с акцентом на его смысл в теории Платона, противоположный функции повторения и вновь найденного объекта. Маленький Ганс делает из Анны объект, Идея о котором была всегда. Как Платон должен был иметь нечто, объясняющее наш доступ в высший мир, чтобы мы были в него вхожи, даже не принадлежа ему, так же и маленький Ганс сводит Анну к тому, что всегда было в памяти. Это припоминание является первым этапом освоения реального с помощью воображаемого, и это имеет другой смысл, нежели истории об инстинктивной регрессии.
Второй этап. После того, как Анна стала Идеей в смысле термина Платона, даже идеалом, что он заставляет её сделать? Он усаживает её верхом на лошадку тревоги. Что представляет собой находку одновременно юмористическую, блестящую, мифическую и эпическую. Здесь мы обнаруживаем все характерные черты эпических текстов, в которых мы из кожи вон лезем, описывая два состояния конденсации, два этапа эпопеи и измышляя всякого рода реконструкторов (¡¡^егроШеигз), комментаторов, мистификаторов, объясняя то, что в эпопее, как и в мифе, направлено на объяснение происходящего в воображаемом мире и одновременно в мире реальном.
Здесь маленький Ганс не может устранить кучера, но, с другой стороны, нужно, чтобы и маленькая Анна тоже держала поводья. Тогда в одной фразе он говорит, что поводья были в руках одного, но также и в руках другого. Здесь получает особенно яркое выражение измерение внутреннего противоречия, которое в мифах часто заставляет нас предполагать некоторую несогласованность, спутанность двух историй, хотя в реальности автор, будь то Гомер или маленький Ганс, находится во власти противоречия двух принципиально различных регистров.
В общем, с того момента, как она становится образом, сестра превращается в его высшее Я. С помощью этого ключа вы откроете значение всех оценок, которые с определённого момента касаются сюжета о маленькой Анне, включая оценки восхищённые. Они не просто иронические, они сделаны в отношении маленького другого, находящегося перед ним, и имеют для его позиции принципиальное значение. Он заставляет её сделать то, посредством чего он сможет стать хозяином положения. Когда маленькая Анна достаточно хорошо объездит грозную лошадь, тогда маленький Ганс сможет фантазировать, что он тоже укротил лошадь, и сразу же вслед за этим возникнет отхлёстанная лошадь. Таким образом маленький Ганс начинает поверять на опыте напутствие, сделанное некогда Ницше: «Если ты собрался к женщине, не забудь хлыст».
Не следует видеть в сделанной здесь остановке сути урока, который я хотел вам сегодня преподнести. Это лишь вынужденный перерыв по причине позднего часа, до которого мы задержались за разговором.
5 июня 1957

| Gmunden |
|---|
 |
глава 22 О логике из каучука

Отец в холодильнике
Сноп и серп
Отцовская метафора Удвоенная мать Воображаемое отцовство
Учебный год завершается, и история маленького Ганса, будем надеяться, тоже близится к концу.
В преддверии сегодняшней встречи будет уместным напомнить вам о том, что в этом году мы задались целью пересмотреть понятие объектных отношений. И сейчас, кажется, будет небесполезным сделать маленькое отступление, чтобы увидеть не столько пройденный путь - тот или иной путь всегда оказывается пройден - сколько определённый эффект демистификации, которому, как вы знаете, я придаю в деле анализа большое значение.
В этом эффекте и заключается, как мне кажется, минимальное требование к аналитической интерпретации (formulation), которая состоит в том, чтобы обращать внимание вот на что. Человек определённо имеет дело со своими инстинктами (instincts) - инстинктами, в которые я, несмотря ни на что, верю, включая инстинкт смерти. Но то, что привносит анализ, сразу же позволяет увидеть невозможность свести всё к одной достаточно простой и достаточно незамысловатой формуле, вокруг которой аналитики так сплотились - формуле, согласно которой все проблемы оказываются разрешены тогда, когда отношения субъекта с себе подобным становятся, как говорится, отношениями личности с личностью, а не отношениями с объектом.
То, что я пытался показать вам здесь объектные отношения в их реальной сложности, ещё не означает, что мне претит сам по себе термин. Почему бы нашему ближнему не быть полноценным объектом? Я бы сказал больше - дай Бог, чтобы он им, этим объектом, стал. Ведь на самом деле анализ показывает нам, что, как правило, изначально он и до объекта-то не дотягивает. Он лишь нечто такое, что занимает место означающего внутри нашего вопрошания, поскольку невроз, как я вам говорил и не раз, является вопросом.
Объект не так прост. Объект представляет собой нечто такое, чем совершенно точно нужно овладеть и, как напоминает нам Фрейд, невозможно им овладеть, изначально его не потеряв. Объектом всегда овладевают заново. Лишь вернувшись в прежде покинутое место, человек может прийти к тому, что называют, неподходящим образом, его собственной целостностью.
Конечно, крайне желательно установить связь между нами и какими-то первичными субъектами, которые, действительно, являют собой полноту личности. Но эта почва является наименее приспособленной для продвижения, которое оказывается чревато всевозможными проскальзываниями и недоразумениями. Личность в нашем обычном представлении является тем существом, за которым мы, как и за самими собой, признаём право сказать я. Но поскольку слишком очевидным является то, что наибольшее смущение у нас вызывает необходимость сказать я в полном смысле, что аналитический опыт рельефно показывает, то каждый раз, когда мы думаем о другом, как о том, кто говорит я, мы, как правило, соскальзываем на то, чтобы заставить его выговаривать я наше собственное, то есть ввести его в наши собственные миражи.

Короче говоря, как я подчеркнул это в прошлом году в конце моего семинара о психозах, это не проблема я, а проблема ты, которую сложнее прояснить, когда дело касается встречи с личностью. Всё указывает на то, что это ты представляет собой предельное означающее. В конечном итоге мы его никогда не достигаем, мы останавливаемся где-то на полпути. Тем не менее именно от него мы получаем все полномочия (investitures), и не случайно в конце моего прошлогоднего семинара я остановился на формуле: ты - тот, кто за мной последуешь или не последуешь, кто сделает это или кто этого не сделает.
Если аналитический опыт нам что-то показывает, то именно то, что все межчеловеческие отношения основаны на полномочиях (investiture), которые в действительности исходят от Другого. Этот Другой находится прямо и непосредственно в нас в форме бессознательного, но ничто в нашем собственном развитии не поддаётся пониманию, кроме как посредством констелляции, подразумевающей абсолютного Другого как место речи. Если комплекс Эдипа имеет какой-то смысл, то именно потому, что даёт в качестве фундамента нашего построения между реальным и символическим, в качестве основы нашего прогресса, существование того, кто имеет слово, того, кто может говорить, - отца. Короче говоря, он конкретизирует его в функции, которая сама по себе проблематична. Вопрошание что есть отец? расположено в центре аналитического опыта и является, по крайней мере, для нас, аналитиков, навечно неразрешимым.
Отталкиваясь от этого положения, я хотел бы сегодня вернуться к проблеме маленького Ганса и показать вам, как он расположился относительно того, чем отец является и чем не является. Но нужно вернуться к вопросу, который прозвучал выше.
1
Я начну с замечания о том, что единственное место, в котором вопрошание об отце может рассчитывать на полный и достоверный ответ, безусловно, расположено на территории некоторой традиции. Речь не о соседней комнате, как я часто говорю об этом феноменологически, но о соседней двери.
Если где-то отец и обнаруживает свой синтез, свой полный смысл, то происходит это в традиции, называемой традицией религиозной. Мы видим, что не просто так в ходе исторического развития формируется одна-единственная, иудео-христианская, традиция, в рамках которой предпринята попытка наладить согласие между полами на принципе противопоставления потенции (puissance) и акта (acte), которое опосредуется любовью. Вне этой традиции любые отношения с объектом, заметим это хорошенько, подразумевают третье измерение. Артикулированное Аристотелем, оно было впоследствии упразднено, так сказать, апокрифическим Аристотелем, Аристотелем теологии, которая была приписана ему гораздо позднее. Каждому известно и о её существовании, и о её апокрифичности. Аристотелевский термин, без которого формирование объекта в принципе не обходится, добавляется в качестве третьего принципа к форме, 8Î.ÔOÇ, и материи, и Лп, это термин лишение, OTÉpnoiÇ.
Объектные отношения, как они определяются в аналитической литературе и в учении Фрейда, вращаются вокруг термина лишения, который стал для меня отправным пунктом в этом году. Этот термин является центральным для понимания того положения, что любой прогресс интеграции в свой собственный пол как мужчины, так и

женщины требует признания лишения. Один пол принимает лишение, и другой пол принимает лишение для возможности полностью принять свой собственный пол. Короче говоря, Penis-neid - с одной стороны, комплекс кастрации - с другой.
Всё это непосредственно проявляется в опыте. И весьма занимательно видеть в более-менее завуалированном виде недобросовестную идею о том, что созревание (maturation) генитальности включает в себя жертвенность (oblativité), полное признание другого, в силу чего и должна быть установлена эта предполагаемая, заданная изначально гармония между мужчиной и женщиной, которая, однако, как мы видим это каждый день, лишь бесконечно обнаруживает свой провал.
Пойдите и скажите своей супруге сегодня, что она, - как выражается теолог, следующий Аристотелю и всей средневековой и схоластической традиции, - пойдите, скажите сегодня супруге, что она - потенция (puissance), а вы, мужчина, вы - акт (acte). «Меня это совершенно не устраивает, - скажут вам. - Вы что, принимаете меня за пустое место?» И совершенно очевидно, что женщина попадает в круг тех же проблем, что и мы. Нет нужды рассматривать феминистскую или социальную сторону вопроса, достаточно процитировать прекрасное четверостишие, которое Аполлинер вложил в уста Терезы-Тиресия, а точнее, её мужа, который, спасаясь от жандарма, говорит ему:
Я честная женщина мужеска пола
А жена моя омужчинела и унесла скрипку, маслёнку, рояль
Теперь она министр, адвокат, по-всякому служит людям
Конечно, нам следует обеими ногами встать на твёрдую почву нашего опыта. И если оный несколько продвинулся в вопросе сексуальности, который поднимается в нашем жизненном и даже невротическом опыте всё чаще, то именно в силу того, что мы научились размещать отношения между двумя полами на разных уровнях объектных отношений. Мы прекрасно увидели, что всё это значит, и всего лишь приподняли покров недостойного стыда, признав, что если обязаны анализу определённым прогрессом, то как раз в плане того, что следует называть своим именем - в плане эротизма.
В этом плане отношения между полами действительно проясняются, поскольку движутся к ответу на вопрос по поводу своего пола, которым задаётся субъект, представляющий собой нечто, пришедшее в этот мир и никогда не удовлетворённое до конца - к той пресловутой совершенной жертвенности, в которой состоит, якобы, идеальная гармония между мужчиной и женщиной. Но гармонию мы находим лишь на линии горизонта, что не позволяет нам даже рассматривать её как осуществляемую анализом цель.
Чтобы иметь, если можно так выразиться, здоровый взгляд на прогресс нашего исследования, нужно уяснить, что в связи мужчины и женщины, как только она устанавливается, всегда имеет место открытое зияние. Что в конечном счёте приемлемо в такой перспективе в глазах философа, то есть того, кто занимает стороннюю позицию? Что женщина, а именно супруга, по сути, выполняет для него ту функцию, которую она выполняла для Сократа, а именно испытывает его терпение, его терпение по отношению к реальному.
Чтобы поживее проникнуться тем, что конкретизирует сегодня эти мои слова и вернёт нас к маленькому Гансу, я сообщу вам информацию, которую один из моих замечательных друзей обнаружил в, по большей части, информационной газете и донёс

до меня. Эта маленькая новость пришла к нам из американской глубинки. После смерти своего мужа женщина, связанная с ним узами вечной любви, рожала от него каждые десять месяцев ребёнка.
Это может показаться вам странным. Не стоит полагать, что дело касалось партеногенетического феномена. Напротив, речь идёт об искусственном оплодотворении. В критический момент заболевания, от которого скончался муж, эта женщина, обречённая на вечное хранение верности, запаслась достаточным количеством семенной жидкости, позволившей ей продолжать род покойного по своему усмотрению, с наименьшими задержками, в заданном ритме.
Нам пришлось дожидаться этой маленькой, из ряда вон выходящей истории, хотя мы её могли бы придумать сами. Это наиболее яркая иллюстрация, которую мы могли бы дать тому, что я называю неизвестной переменной х отцовства. Здесь вы можете увидеть иллюстрацию моих слов о том, что символический отец - это отец мёртвый. Но то, что появляется здесь нового и заодно подчёркивает важное значение этой ремарки, это то, что в данном случае и реальный отец также является отцом мёртвым.
Я полагаю, вы не упустили из виду тех проблем, которые несёт в себе подобная возможность. Во что в таких условиях превращается комплекс Эдипа? Исходя из первого же приближения к нашему опыту, легко сделать некоторые шутливые предположения о том, каким образом можно обрисовать термин холодной женщины (femme froide). Холодная жена (femme froide) - гласила бы новая пословица - остывший муж (mari refroidi). Я могу также напомнить слоган, предложенный одним из моих друзей для рекламы марки холодильников. Есть некоторая сложность с тем, чтобы сохранить эффект воздействия этого слогана, поскольку особое значение он приобретает для англо-саксонских душ. Представьте красивый плакат, на котором мы видим чопорного вида дам и надпись: «She didn’t care her frigid air until her friend received a Frigidaire», «Она была холодной до тех пор, пока её друг не купил холодильник». Иногда так бывает.
На самом деле эта история великолепно иллюстрирует то, что реальное представление об отце ни в коем случае не смешивается с представлением о его плодородности. Проблема расположена в другом месте, как мы увидим, спросив себя, что произойдет тогда с эдиповым комплексом. Представьте, к чему это приведёт: через сотню лет после того, как мы вступили на этот путь, женщины смогут рожать от наших современников мужчин-гениев их прямых потомков, которые отныне будут бережно храниться в пробирках. В этом случае мы наиболее радикальным образом отнимаем кое-что у отца - и речь в том числе. Вопрос заключается в том, каким образом, в какой форме пропишется в психике ребёнка речь его предка, единственным представителем и посредником которой будет мать. Как она заставит говорить законсервированного в банке предка?
Это, будучи отнюдь не научной фантастикой, помогает обнаружить одно из измерений проблемы. И поскольку я только что отправлял вас в соседнюю дверь для идеального решения проблемы брака, будет интересно посмотреть, какую позицию займёт Церковь по вопросу участия благоверного супруга в посмертном оплодотворении. Если она будет обращаться к тому, что она обычно выдвигает в таких случаях на передний план, а именно к фундаментальному характеру естественных практик, то можно будет на это заметить, что если таковая практика становится возможной, то лишь в силу того, что мы прекрасно научились отличать природу от того, чего в ней нет. Поэтому, возможно, имеет смысл уточнить термин естественное, и это

приведёт нас к необходимости подчеркнуть глубоко искусственный характер того, что до сих пор называлось природой. Короче говоря, возможно и наше мнение к тому времени станет не совсем бесполезным. Возможно, когда-нибудь наша добрая подруга Франсуаза Дольто или кто-то из её учеников станет Отцом Церкви.
Различения воображаемого, символического и реального может оказаться недостаточно, чтобы определить условия этой проблемы, которая с тех пор, как заявила о себе в реальности, не кажется мне хоть как-то приближающейся к разрешению. Но эта история облегчает нам возможность сформулировать, как я и намеревался сегодня это сделать, термин, но не сам по себе, а в его отношении к субъекту, в который может быть вписана санкция функции отца.
2
Как только мы проводим ревизию своих представлений и избавляемся от излишних декоративных элементов, всякое введение, если можно так выразиться, в отцовскую функцию представляется нам предметом метафорического опыта. Я собираюсь продемонстрировать вам это, напомнив, под какой рубрикой в прошлом году я представил то, что называю метафорой.
Метафора является принципом, который осуществляется не в том связующем измерении означающей цепочки, где имеет место метонимическое функционирование, а в измерении замещения. В прошлом году я постарался найти это в книге, которая действительно под рукой у всех, в словаре Quillet, откуда я взял первый же попавшийся пример, а именно строку Гюго: «И сноп его не знал ни жадности, ни злобы».
Вы скажете, что судьба благоволила ко мне, потому что и для сегодняшней демонстрации он придётся точно впору, как кольцо на палец. Я отвечу вам, что для аналогичной демонстрации столь же применимой окажется любая другая метафора.
Что такое метафора ?
Это не поэтическая искра, как говорят сюрреалисты, возникающая между двумя терминами, которые разнородны в воображении настолько, насколько это возможно. Такое определение выглядит натянутым, потому что ясно, что этот несчастный сноп не может быть ни жадным, ни злым и по-человечески странно связывать подлежащее с определением посредством отрицания, которое, безусловно, опирается на возможное утверждение. Понятно, что сам сноп ни жадный, ни злой. И жадность, и злоба, так же как и сноп, являются атрибутами, которыми обладает не меньше снопа сам Вооз - Вооз, использующий свои свойства и достоинства подобающим образом, ни у кого не спрашивая совета и не распространяясь о своих чувствах.
Между чем и чем возникает метафорическое образование? Между тем, что выражено термином сноп его, и тем, кого сноп его заменяет, то есть тем месье, о котором нам с некоторого момента говорят в ясных выражениях и которого именуют Воозом. Сноп занял его место, которое уже обладает некоторым обобщённым смыслом, в котором Вооз, очистившись от негативных качеств, уже имеет свойство не быть ни жадным, ни злым. Тут-то сноп и занимает его место, чтобы буквально в одно мгновение его упразднить. Мы обнаруживаем схему задействования символа в смерти вещи. Здесь это проявляетсяещё более наглядно - устраняется имя персонажа, его заменяет сноп.
Если и существует метафора, если она имеет смысл, если она создаёт измерение идиллической поэзии, то лишь в силу того, что её сноп, то есть нечто по сути своей

природное, может заменить Вооза. И Вооз, после того как его затушевали, скрыли, упразднили, снова появляется в плодородном сиянии снопа. Он действительно не знает ни жадности, ни злобы, он является чистым и непосредственным плодородием природы.
Это обретает точный смысл в следующем отрывке. Далее в поэме Вооз в сновидении получает известие о том, что, несмотря на преклонный, как он сам говорит, восьмидесятилетний возраст, он вскоре станет отцом, это означает, что из него, из его живота вырастет то великое дерево, у подножья которого пел царь, говорится в тексте, и в кроне которого умирал Бог.
Любое сотворение нового смысла в человеческой культуре является по сути своей метафорическим. Речь идёт о замене, которая в то же время поддерживает то, что заменяет. В напряжённости между тем, что упразднено, удалено, и тем, что его заменяет, залегает это новое измерение, которое вводит столь наглядно поэтическая импровизация. Это новое измерение, очевидно воплощённое в воозовском мифе, представляет собой функцию отца.
Конечно, как это обычно и бывает, старик Гюго далёк от того, чтобы строго придерживаться прямого курса, его немного заносит то вправо, то влево, но то, что совершенно ясно, звучит в следующем:
Пока Вооз дремал, совсем неподалеку
Моавитянка Руфь легла, открывши грудь,
И сладко маялась, и не могла уснуть,
И с тайным трепетом ждала лучей востока.
Стиль этого отрывка балансирует на грани двусмысленности, где реализм сочетается с резким, неровным освещением, напоминающим игры светотени на картинах Караваджо. Несмотря на свою популярную грубоватость, они остаются тем, что в наши дни наиболее возвышенно передает смысл сакрального.
Чуть ниже речь идёт всё о том же:
И спал далекий Ур, и спал Еримадеф;
Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,
Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?
Ни в моём прошлогоднем курсе, ни в том, что я недавно написал о снопе в поэме о Воозе и Руфи, я не довёл исследования до конечного пункта, где поэт развивает метафору. Я отложил серп в сторону, поскольку, опять же вне контекста того, чем мы здесь занимаемся, читателям это могло показаться некоторой натяжкой. Тем не менее вся поэма подводит нас к образу, чей интуитивно понятный и ёмкий характер восхищает людей веками.

В действительности речь идёт о тонком и ясном полумесяце луны. Но от вас не может ускользнуть, что эта вещь подразумевает, и если она представляет собой нечто иное, нежели прекрасную живописную черту, жёлтый мазок на синем небе, то этот серп в небе является вечным серпом материнства, который уже сыграл свою скромную роль в отношениях Кроноса и Урана, Зевса и Кроноса. Это могущество, о котором я только что говорил, которое так ясно и отчётливо отражено в мистических представлениях о женщине.
Этим серпом, который у неё всегда под рукой, жница действительно срежет сноп, о котором идёт речь, тот самый, от которого пойдёт род Мессии.
Наш маленький Ганс в образовании, развитии и разрешении своей фобии может надлежащим образом вписаться в уравнение только исходя из тех терминов, которые мы только что вывели.
В комплексе Эдипа у нас есть х, который означает ребёнка со всеми его проблемами с матерью, М. И именно по мере того, как возникнет нечто такое, что сформирует отцовскую метафору, сможет занять свое место тот называемый комплексом кастрации означающий элемент, который является основополагающим для любого индивидуального развития, что справедливо как для мужчины, так и для женщины.
Таким образом, мы получаем следующее уравнение:

Р - это отцовская метафора.
х более или менее выпадает (élidé) в зависимости от случая, то есть в зависимости от момента развития и проблем, возникающих у ребёнка в доэдипальный период в отношениях с матерью, М.
Горизонтальное S представляет собой запись для обозначения связи эдипальной метафоры с важной для любой концепции объекта фазой, складывающейся из перевёрнутого С, серпа комплекса кастрации, и значения, s, то есть того, в чём существо обретает себя и в чём х получает своё решение.
Эта формула соответствует ключевому моменту прохождения (franchissement) комплекса Эдипа. Она определяет то, с чем мы имеем дело в случае маленького Ганса, с той уже описанной мной неразрешимой проблемой, которая заключается для него на достигнутом им этапе развития в том факте, что мать представляет собой нечто сложное, выраженное в этой формуле со всеми вытекающими из неё трудностями:

Читается это как Мать плюс Фаллос плюс А, где А - Анна, и описывает эта формула тупик, в котором оказался Ганс. Он не может найти выход, потому что там нет отца, нет того, что позволило бы метафоризировать его отношения с матерью. Одним словом, нет выхода, предоставляемого серпом, большим С, комплекса кастрации, и нет возможности опосредования перехода (médiation), то есть возможности потерять и заново обрести свой пенис.

С другой стороны уравнения он обнаруживает лишь вероятный укус матери, тот самый укус, с которым он сам плотоядно набрасывается на неё, поскольку ему её не хватает. Нет других реальных отношений с матерью, кроме тех, которые выявляет аналитическая теория, а именно кроме отношений пожирания (dévoration). Оказавшись в этом тупике, маленький Ганс не знает других реальных отношений, кроме тех, что, справедливо или нет, называют садистско-оральными. Я записываю это как m, к чему добавляется всё, что для него является реальным, в частности, то реальное, которое только что обнаружило себя и не упускает случая усложнить ситуацию, а именно П, его реальный пенис. Всё это сводится к следующей формуле:

Как только его проблема представляется таким образом, становится необходимым, поскольку ничего другого не остаётся, ввести этот элемент метафорического опосредования (médiation), то есть лошадь, причем норовистую, обозначенную как ‘I. Таким образом, возникновение фобии вписывается в ту же формулу, которую я только что вам дал:
(----5--- J М ~ m + П
\ М + <р + а/
Эта формула, эквивалентная отцовской метафоре, тем не менее не решает вопрос укуса, поскольку он является для маленького Ганса главной реальной опасностью, и в особенности опасностью той реальности, которая внезапно возникла накануне, а именно его генитальной реальности.
Эти формулы могут показаться вам несколько искусственными (artificielles). Не стоит так полагать. Сперва попробуйте ими воспользоваться, тогда и посмотрите, смогут ли они оказаться для вас полезными. Я могу показать вам тысячу вариантов их непосредственного применения. Вот один.
Ганс говорит о лошади, что она кусает, угрожает пенису, а также падает, почему, судя по словам Ганса, она и была задействована. Сначала она появилась, потому что, двигаясь запряжённой впереди фургона для перевозки багажа маленькой Лиззи, могла обернуться и укусить. Как раз в этот день, 1-го марта, Ганс говорит нам, что подхватил глупость. В другой день, 5 апреля, Ганс также говорит, что подхватил глупость, когда он был с матерью и видел падение лошади, запряжённой в омнибус. Выражаясь точнее, один элемент, уже прикрепившийся к некоторому значению, был привлечён им в качестве чего-то, заходящего дальше любого значения, что получает своё удостоверение в афоризме или определяющем утверждении Ганса: «Теперь все лошади будут падать».
Так вот, именно функция падения и является общим термином для всего, что фигурирует в нижней части уравнения. М - мы уже отметили как элемент падения матери, ф - фаллос матери, который больше не надёжен, он уже вне игры, однако Ганс делает всё, чтобы эту игру поддерживать. Наконец, а - дети, в частности маленькая Анна, которую он больше всего в мире хотел бы видеть падающей, даже если бы пришлось немного её подтолкнуть.

Так, в действенной, образной и активной манере лошадь объединяет все функции падения под общим знаменателем. Именно в этом качестве она начинает функционировать как главный элемент рассматриваемой фобии, где мы получаем наглядное представление о том, чем являются на самом деле объекты для человеческой психики.
Возможно, это и есть нечто такое, что заслуживает названия объекта, но нельзя переоценить важность особой задачи характеристики объекта, которая встаёт перед нами, когда мы имеем дело с объектом фобии или фетишем. Конечно, мы понимаем, насколько они действительно существуют как объекты в силу того, что создают в психике субъекта настоящие пограничные столбики, размечая область желания в случае фетиша и территорию его перемещений в случае фобии. Таким образом, объект оказывается одновременно в реальном и в то же время от реального отстранённым. С другой стороны, он не допускает другого доступного способа осмысления, кроме как посредством этой означающей формализации.
Скажем так, до настоящего времени другой, более удовлетворительной, мы не нашли. Если я вознамерился представить вам формулу объекта в чуть более сложном виде, чем это было сделано ранее, то замечу, что происходит это по той причине, что не иначе как сам Фрейд именно на этом заканчивает свой текст. Он отчётливо формулирует, что лошадь является объектом, заменяющим все образы и все спутанные значения, вокруг которых тревога субъекта не может успокоиться. Её объект действительно почти произволен, поэтому Фрейд называет её сигналом, намечающим в пространстве путаницы границы, которые, оставаясь произвольными, тем не менее вводят разграничивающий элемент, формирующий начальную предпосылку для установления порядка в виде первого кристалла организованной взаимосвязи символического и реального.
Именно это и происходит по мере продвижения анализа Ганса, если мы можем назвать то, что имеет место в этом наблюдении, анализом в полном смысле этого слова. Не похоже, по крайней мере читая Месье Джонса, что психоаналитики достаточно хорошо уловили смысл оговорок Фрейда по поводу исключительности этого случая в силу того, что анализ проводил именно отец ребёнка, хотя и под его руководством. Именно поэтому Фрейд не слишком полагался на возможное расширение этого метода. Похоже, что аналитики здесь удивляются робости Фрейда. На самом деле, не стоит ли заподозрить, что анализ этот, будучи проведённым отцом, мог носить специфические черты, которые исключают, по крайней мере частично, само измерение переноса? Другими словами, не оказывается ли вздорное мнение Анны Фрейд об отсутствии возможности переноса в анализе детей здесь применимо - применимо именно потому, что речь идёт об отце?
На самом деле в любом анализе ребёнка, проводимом аналитиком, присутствие переноса даёт о себе знать слишком очевидно, точно так же, как и у взрослого, и даже лучше, чем где бы то ни было ещё. Здесь же речь идёт о чём-то особенном, мы подойдём к этому позже, чтобы рассмотреть, что из этого следует.
Как бы то ни было, эта формула позволяет наиболее строгим образом разметить (scander) весь ход вмешательства отца.
Я думаю в следующий раз продемонстрировать вам, что эта формула действительно позволяет узнать, почему некоторые вмешательства отца остаются

безрезультатными и неуслышанными, а другие, напротив, приводят в действие мифическую трансформацию.
3
Случай маленького Ганса показывает нам в своём развитии преобразования этого уравнения, в которых быстрее всего выявляются возможности прогресса и внутреннее метафорическое изобилие. Сегодня я ограничусь тем, что укажу вам на последний, крайний термин, вписанный в эту формализацию. Я вам уже достаточно о ней сказал, чтобы вы смогли осмыслить её значение.
То, что мы видим в конце, несомненно, является решением, которое включает маленького Ганса в регистр пригодных для жизни объектных отношений. Является ли это успехом с точки зрения эдипальной интеграции? Перед тем как в следующий раз заняться этим вопросом более подробно, мы посмотрим прямо сейчас, в каком отношении это так, а в каком - нет.
В тексте, там, где маленький Ганс в итоге формулирует свою позицию, он говорит нам: «Теперь - я папа, der Vatti». Нам нет нужды задаваться вопросом о том, как у него могла появиться эта идея, принимая во внимание отца, которого он на протяжении всего наблюдения подначивает, уговаривая его: «Так сделай же своё отцовское дело». В последнем замечательном фантазме отец догоняет маленького Ганса прямо на платформе поезда, хотя тот уже давно уехал далеко вперёд. И с кем он уехал? Как будто бы по чистой случайности он уехал с бабушкой.
Первое, что отец у него спрашивает:
- И что бы ты делал на моём месте, если бы был отцом?
- А, ну это просто, каждое воскресенье я возил бы тебя увидеться с бабушкой.
Ничего не изменилось в отношениях сына и отца. Поэтому мы вправе предположить, что это не совсем типичная реализация комплекса Эдипа.
На самом деле мы замечаем это очень быстро, если умеем читать текст. Связь с отцом далека от того, чтобы быть нарушенной, они даже ещё сильнее привязываются друг к другу в этом аналитическом опыте, но как прекрасно выразился маленький Ганс: «Теперь ты будешь дедушкой». И в какой момент он говорит это? Прочитайте хорошенько текст - в том разговоре он начал с того, что сказал, что сам был отцом.
Этот термин, дедушка, появляется там совершенно обособленно. Сначала разговор идёт о матери, и мы увидим, о какой именно. Далее речь заходит о другой женщине, о бабушке. Но с точки зрения маленького Ганса-для-себя нет никакой связи между этим дедушкой и этой бабушкой.
Не напрасно Фрейд с удовлетворением, от которого нам совсем не легче, подчёркивает, что вопрос Эдипа был очень элегантно решён этим маленьким парнем, который становится супругом своей матери и отправляет своего отца к бабушке. Скажем, что это было элегантным, даже юмористическим способом уйти от вопроса. Но ничто во всём, что написал Фрейд, до сих пор не указывает на возможность принимать это решение, такое, как может показаться, очевидное, в качестве типичного исхода комплекса Эдипа.
Со стороны маленького Ганса мы хорошо видим проработку, которая удерживает некоторую преемственность в порядке родовых линий. Если бы не удалось дойти хотя бы до этого, то маленький Ганс вообще бы ничего не смог решить и польза от фобии

была бы нулевой. Поскольку он видит себя отцом, маленький Ганс может быть представлен функцией, которую можно записать примерно так:

Это мама и бабушка. Мама в итоге всего процесса раздваивается. Это очень важный пункт, в котором три опорные точки позволяют ребёнку найти равновесие, что является минимумом для того, чтобы можно было установить отношения с объектом. Тройку, которую он не смог образовать со своим отцом, он образовал с бабушкой, в объектных отношениях с которой он слишком хорошо видел лишь её решающую, даже подавляющую роль.
Именно в силу того, что маленький Ганс добавляет к своей матери ещё одну, он устанавливает для себя отцовство. Какого рода отцовство? Отцовство воображаемое.
Что с этого момента говорит маленький Ганс? У кого будут дети? У него. Он чётко об этом заявляет. Но когда отец, как слон в посудной лавке, спрашивает его: «У тебя с мамой будут дети?» «Вовсе нет, - отвечает ему маленький Ганс, - что ещё это значит? Ты говорил, что отец сам по себе не может иметь детей, а теперь хочешь, чтобы у меня они были?»
В диалоге этот настолько поразительный момент колебания указывает, насколько вытеснено у Ганса то, что относится к отцовству, хотя с этого момента он, напротив, говорит, что будет иметь детей, но дети эти будут воображаемыми.
Он совершенно чётко говорит о детях, он хотел бы, чтобы они у него были, но, с другой стороны, он не хотел бы, чтобы они были у матери. Отсюда и его желание получить гарантии такой возможности на будущее. Для того, чтобы у матери больше не было детей, он готов пойти на всё, включая щедрый подкуп - не стоит забывать, что мы всё-таки имеем дело с маленьким наследником капиталистов - великого по преимуществу родителя, которым является Месье Аист, обладающий таким странным обликом. В следующий раз мы посмотрим, с каким местом и с какой функцией будет уместно его сопоставить и каково его истинное лицо. Дело доходит до подкупа Отца-Аиста, лишь бы больше не появилось реального ребёнка.
Отцовская функция, которую принимает на себя ребёнок, является воображаемой. Ганс заступает на место матери и, как у неё, у него появляются дети. Он будет заботиться об этих воображаемых детях тем способом, которым ему удалось проблему ребёнка, в том числе и по отношению к маленькой Анне, полностью разрешить.
В чем состоит его фантазм о ящике, аисте, маленькой Анне, которая уже существовала ещё до своего рождения? В том, чтобы воображать свою сестру, фантазировать о ней. Таким образом у него появятся выдуманные дети. По сути, он превратится в настоящего поэта, станет творцом в порядке воображаемого.
Завершённой форме своих воображаемых творений он даёт имя Лоди. Отцу очень интересно: «Что означает Лоди? Может, шоколоди? - Нет, это saffalodi». На самом деле saffalodi означает маленькая сосиска. Фаллический характер образа указывает на воображаемое преобразование, которому подвергся не обретённый и в то же время бесконечно воображаемый матерью фаллос. В итоге мы видим его репродукцию в форме маленькой Лоди.
Женщина навсегда останется для него только фантазией об этих маленьких сёстрах-дочерях, вокруг которых разворачивается весь его детский кризис. Это не станет в полном смысле фетишем, поскольку является, если я могу так выразится, подлинным фетишем. Он не остановится на том, что написано на вуали, он найдёт типичную гетеросексуальную форму для своего объекта, но его отношения с женщинами с этого момента навсегда и безусловно будут отмечены их нарциссическим происхождением, в ходе которого он занял орто-положение по отношению к женщине-партнёру. Женщина-партнёр будет, одним словом, происходить для него не от матери, а от воображаемых детей, которых он может сделать для матери; они сами унаследуют фаллос, этот центральный элемент первичной (primitif) игры любовных отношений и любовного пленения матерью.

Вернувшись к нашему уравнению, мы в итоге получаем по одну сторону -удостоверение отношений Ганса как нового отца, как Vatti, с материнской линией и по другую сторону - маленькую Анну верхом на лошади, занимающую доминирующее положение в любой повозке, в любом поезде, во всём том, что мать волочёт за собой.
Действительно, именно при посредничестве маленькой Анны Гансу удаётся сделать то, что мы обсуждали в прошлый раз, то есть подчинить мать, не просто отхлестать её, но и, как показывает нам продолжение истории, посмотреть, что там у неё в животе. Однажды извлечённый маленький кастрирующий ножичек становится гораздо менее опасным.

Такова формула, которая, будучи противоположной предыдущей, соответствует конечному пункту трансформации маленького Ганса.
Конечно, он будет отмечен всеми признаками нормального гетеросексуала. Тем не менее, он достигает этого пункта, преодолевая в Эдипе нетипичный путь, связанный с этой несостоятельностью (carence) отца. Вы удивитесь, возможно, не сочтя эту несостоятельность столь уж значительной, но ход всего наблюдения беспрестанно демонстрирует нам неудачи отца и его ошибки, которые постоянно подмечает сам маленький Ганс. Таким образом, определённо нет ничего удивительного в том, что этот нетипичный характер, который приобретает в итоге разрешение фобии, будет нести на себе её печать.
Я прошу вас просто зафиксировать внимание на этих двух крайностях и допустить возможность осмыслить и сформулировать их переходность из одной в другую посредством серии преобразований.
Конечно, здесь не стоит слишком полагаться на строгую систематизацию. Это новый тип логики. Если продолжить её развивать, то возможно, что она окажется лишь введением в ряд вопросов, связанных с её формализацией (formalisme). Справедливы ли для неё уже сформулированные в других областях логики законы?
Фрейд уже в Traumdeutung кое-что рассказывает нам о логике бессознательного, иначе говоря, об означающих в бессознательном. Это определённо представляет собой нечто иное, нежели наша обычная логика. Добрая четверть Traumdeutung посвящена тому, чтобы показать, каким образом определённое число сущностных логических выражений, таких как или-или, противопоставление, причинность, могут быть перенесены в порядок бессознательного. Эта логика может быть отличной от нашей обычной логики. Также как топология - это геометрия из каучука, здесь мы имеем дело с логикой из каучука.

Из каучука не означает, что возможно всё. Ничто не позволит нам расцепить два кольца, проходящие одно через другое, даже если они из каучука, до тех пор, пока мир остается таким, каков он есть. Это говорит нам о том, что логика из каучука не обрекает ( condamnée ) на полную свободу - она требует определения целого ряда терминов.
Короче говоря, после разрешения фобии маленького Ганса проявляет себя следующая конфигурация. Несмотря на присутствие и настойчивую активность отца, маленький Ганс вписывается в пространство матриархальной линии рода или, проще говоря, прибегает к удвоению матери, поскольку если третий персонаж действительно необходим, а отец им стать не способен, то этим третьим становится известная нам бабушка.
С другой стороны, что устанавливает связь Ганса с объектом, который отныне будет объектом его желаний? Я уже обращал ваше внимание на то, что в анамнезе мы располагаем свидетельством об одной вещи, которая связывает его с Гмунденом, с младшей сестрой, с маленькими девочками, то есть с детьми, поскольку они являются дочками его матери, но и его дочками, его воображаемыми девочками. Эта изначально нарциссическая структура его отношений с женщинами проявляет себя на исходе, на излёте разрешения его фобии. Какие следы оставит после себя переход через фобию? Останется нечто очень любопытное - маленький ягнёнок, тот, с которым он предаётся весьма своеобразным играм, например, позволяет ягненку его бодать.
Однажды он попытался усадить верхом на маленького ягнёнка свою сестру. Это именно та позиция верхом на лошади, которую она занимает в фантазии о большом ящике на последнем этапе перед разрешением фобии. Нужно было, чтобы сначала доминировала сестра, чтобы он, маленький Ганс, смог обойтись с лошадью так, как она этого заслуживает, то есть ударить её. В этот момент очевидно равенство между лошадью и матерью: одолеть лошадь - то же самое, что одолеть мать. Младшая сестра верхом на маленьком ягнёнке - вот та конфигурация, которая выстраивается в конце.
Я не могу лишить себя удовольствия, а вас одной загадки, и расскажу вам о произведении, вокруг которого наш учитель, Фрейд, развернул свой анализ Леонардо да Винчи: не о «Мадонне в скалах», а о большом картоне «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», который находится в Лувре и которому предшествует эскиз, хранящийся в Берлингтон Хаус. Вот он.
Весь анализ Фрейда Леонардо да Винчи вращается вокруг этой странной андрогинной фигуры, Святой Анны - она, кстати, напоминает Святого Иоанна Крестителя - Мадонны и ребёнка. И здесь, в отличие от картона в Лондоне, двоюродный брат Спасителя, а именно Иоанн Креститель, как раз и есть маленький ягнёнок.
Эта конфигурация не преминула привлечь внимание Фрейда и она действительно является стержнем его построения в уникальной работе «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи». Я надеюсь, что до конца этого года вы возьмёте на себя труд прочитать её, потому что, возможно, именно на ней я и завершу для вас свой семинар.
Вы не можете пройти мимо невероятно загадочного характера всей ситуации, в которой впервые использован термин нарциссизм - написать нечто подобное в то время было дерзостью на грани безумия. С тех пор, читая Фрейда, мы значительно преуспели в скотомизации и забвении вещей, подобных этой.
Прочтите, и вы убедитесь, насколько сложно понять то, что он в конечном счёте хочет сказать. Но заодно прочитайте и для того, чтобы понять, насколько всё это до сих

пор актуально, несмотря на все ошибки - поскольку они есть, хотя и не имеют определяющего значения.
Эта особая конфигурация, которая, если можно так выразиться, представляет нам humanissima Мпйа, очень человеческую или даже слишком человеческую Троицу, противоположную divinissima, которую она сменяет - это то, к чему мы должны вернуться.
Краеугольный камень, на который я хотел вам указать, - это насущная
необходимость четвёртого термина, который мы находим в остаточной форме в виде ягнёнка, того самого животного, что мы встретили в фобии.
19 июня 1957

глава 23 «Без женщины даст мне потомство в родах»
От интерсубъективности к дискурсу Объект, зависящий от означающего Фобическая метафора От укуса к отвинчиванию Анна - повелительница лошади
«Мы не дошли до полного понимания случая Ганса», - говорит нам Фрейд. И сегодня речь пойдёт о несколько ином способе формализации этого наблюдения. Единственным интересом подобной операции, если, конечно, она вообще интересна, является максимально возможное приближение к тому, что происходит, и его максимально строгий разбор.
Конечно, в этом случае возможны многочисленные ходы. Поскольку речь явно идёт о фобии лошади, можно было бы, например, до потери сознания бредить о лошади. Ведь это весьма необычное животное, которое упоминается в любой мифологии. Можно сделать массу ценных сопоставлений на тему лошади маленького Ганса.
Сын партнёра по переписке Фрейда, Роберт Флисс, занимающий почётное место в психоанализе, написал под заголовком Phylogenetic versus Ontogenetic Experience для юбилейного номера IJP, посвящённого столетию Фрейда, достойное внимания поразительное сочинение. Поражает оно своей явной неадекватностью. Автор силится решить загадки текста наблюдения маленького Ганса, подвёрстывая к материалу неимоверную экстраполяцию, отнюдь не единственным недостатком которой является то, что она предполагает разрешённым вопрос, который таковым не является.
Он совершенно справедливо сосредотачивается на известном разговоре между маленьким Гансом и его отцом, который я назвал большим диалогом, этой кульминацией, которая происходит 21 апреля. Я напомню вам, что именно во время этого диалога маленький Ганс буквально призывает отца исполнить его отцовскую роль, говоря ему: «Ты должен быть ревнивым». Нельзя полагать, что отец не причастен к возникновению этой фразы, которая созревает в результате всего, что ей предшествовало. По ходу разговора Ганс развивает фантазию, в которой отец, перед тем как подняться в комнату матери, поранил себя, ударившись о камень, как это произошло однажды с маленьким Фрицем. Должна пролиться кровь. Разговор заканчивается фразой Ганса: «Какими бы ни были твои испуганные оправдания, Das ist wahr, Das masst wahr sein, это правда, это точно правда».
Наш автор настаивает на тщательности подбора слов, которые придают тому, что говорит Ганс, style soutenu - этот термин так и написан в тексте по-французски - и подчёркивает тем самым недостатки английского перевода. Эти, безусловно, ценные замечания прекрасно демонстрируют чувствительность, сохранившуюся у аналитиков первого поколения, к вербальному рельефу материала, к важному значению и существенной роли определённых означающих. Но наиболее интересным в этом случае является довольно тонкое размышление о роли отца.
Действительно, именно отец впервые использует слово Schimpfen, которое на французский переводится как gronder, ругать: «За что я тебя внизу отругал?» Автор справедливо замечает, что вмешательство происходит здесь в немного странной манере

и что оно останавливает взаимодействие с маленьким Гансом. Но дальше он размышляет о возможном участии отца в чём-то таком, что имеет, по его предположению, место в собственном Я маленького Ганса и из чего будет развиваться Сверх-Я. Это измышление не является слишком смелой экстраполяцией, а просто говорит о том, что автор считает нужным поместить данный случай в какой-то определёвснный регистр. Мы можем уловить его сомнения - он описывает феномен, о котором идёт речь, то говоря, что Сверх-Я находится in statu nascendi, в процессе рождения, то утверждая, что оно определённо ещё не родилось или что это и есть рождение Сверх-Я. Всё это весьма странно.
Затем предлагается одна ссылка на работы Месье Исаковера, который очень настаивал на преобладании слуховой сферы при формировании Сверх-Я. Этот автор, безусловно, предчувствовал непрестанно занимающую нас проблему, связанную с функцией речи в происхождении этого приводящего к норме кризиса, который мы называем комплексом Эдипа. Мы обязаны ему за важные замечания о том, как при случае проявляет себя механизм, с помощью которого мы усваиваем эту несущую конструкцию (monture), эту матричную сеть (réseau de formes), которая выстраивает Сверх-Я. Это усвоение происходит, когда субъект слышит чисто синтаксические модуляции, прямо говоря, пустые речи, поскольку значение имеет только их движение. В этих перемещениях определённой интенсивности мы способны, говорит он, схватить за живое нечто, связанное с архаическими элементами; из речи взрослого ребёнок интегрирует только её структуру, ещё не понимая смысла. Это и есть, по сути дела, как он полагает, интериоризация - первая форма, позволяющая нам осмыслить, что такое Сверх-Я.
Это интересное замечание, которое в рамках нашего семинара можно было бы сопоставить с диалогом между Гансом и его отцом. Но совершенно точно не для того, чтобы найти какое бы то ни было соответствие. С одной стороны, предполагается, что Сверх-Я как внутренняя инстанция основано на интеграции субъектом общего движения и фундаментальной структуры речи. С другой стороны, дело касается диалога, целиком вынесенного вовне (extériorisé). Стоит ли рассчитывать на разрешение парадокса, обращаясь к упомянутому замечанию?
Конечно, я допускаю необходимость поиска обобщающих сопоставлений для того, что мы описываем. Но я всегда подчёркиваю необходимость как можно ближе придерживаться самого по себе опыта. Только при этом условии у нас появляется шанс развивать и применять концепты аналитической практики.
Поэтому мы ни в коем случае не последуем примеру Месье Флисса.
1
Всё, что мы сделали до сих пор, опирается на ряд положений, которые не являются абсолютными, поскольку они основаны на предыдущих комментариях, содержащих всевозможные размышления об аналитическом опыте и о том, что он нам даёт. Одно из этих положений касается того, что невроз представляет собой вопрос субъекта, касающийся самого его существования.
В истерии этот вопрос приобретает следующие формулировки. Что означает пол, которым я обладаю? Что значит быть того или иного пола? Откуда у меня появляется сама по себе возможность задаться этим вопросом? Ведь на самом деле, в силу

возникновения измерения символического, человек уже не просто мужчина или женщина, теперь ему нужно расположить себя по отношению к чему-то символизированному, тому, что называется мужским и женским.
Если невроз связан с измерением существования, то связь эта ещё более драматична в неврозе навязчивости, где речь идёт не только об отношении субъекта к своему полу, но и к самому факту своего существования. Именно так и звучат навязчивые вопросы. Что значит существовать? Как соотнесён я с тем, кто я есть, не будучи им, поскольку могу обойтись без него и отступить от него достаточно далеко, чтобы представить себя мертвецом?
Если невроз является такого рода скрытым от самого субъекта вопросом, но организованным, выстроенным как вопрос, то симптомы следует понимать как живые элементы этого вопроса, который субъект, сам того не зная, артикулирует. Вопрос, так сказать, живой, и субъект не знает, что он пребывает в этом вопросе. Он сам зачастую является его элементом, который может располагаться на разных уровнях - как на уровне элементарном в квазиалфавитном порядке, так и на синтаксическом, более высоком уровне, где мы можем говорить о функции метафорической и о функции метонимической, исходя из идеи, предложенной лингвистами, по крайней мере некоторыми из них, о двух основных сторонах артикуляции языка. То, что создаёт сложность в следовании верным курсом при чтении комментариев наблюдений, это постоянная необходимость воздерживаться от абсолютного предпочтения той или иной из этих сторон.
Чтобы наблюдение можно было расшифровать, нужно начинать с анализа. Суть невротического вопроса состоит в том, что он скрыт, поэтому нет никаких оснований полагать, что его смысл сможет открыться тому, кто ограничится поверхностным его описанием - он так и останется нечитаемым, загадочным, иероглифическим. Именно по этой причине мы в течение десятков лет до появления Фрейда получали наблюдения о неврозе без всякого подозрения на существование этого языка. Поскольку невроз - это язык.
Так что только в той мере, в которой имеет место начало расшифровки, мы начинаем улавливать преобразования и осуществлять манипуляции, в процессе которых подтверждается, что речь идёт именно о тексте - тексте, в котором с помощью ряда структур мы вновь обнаруживаем себя самих. Структуры эти проявляются только тогда, когда мы имеем дело с текстом.
Мы можем делать это на уровне просто-напросто членения, как это происходит в случаях особенно закрытых, загадочных, в манере, не сильно отличной от той, что представлена в одном тексте По, который напоминает нам об общих методах расшифровки посланий, отправленных в стиле кода или архикода. Осуществляя подсчёт знаков, которые появляются наибольшее количество раз, мы приходим к интересным предположениям, а именно, что такой-то знак соответствует такой-то букве того языка, на который мы хотим перевести закодированный текст.
В случае с невротиками мы, к счастью, имеем дело с операциями более высокого порядка, где мы обнаруживаем определённые, хорошо известные нам синтаксические множества. Опасность заключается в очевидном соблазне свести эти синтаксические множества к тому, что называется душевными качествами, и даже сместить их смысл ещё ближе к своего рода естественной инстинктуализации. Таким образом, упускается из виду то, что сразу же занимает главенствующее положение, тот

организующий узел, который придаёт некоторым из этих множеств ценность единства значения, делает их тем, что обычно называют словом. Именно в этом смысле я говорил недавно о пресловутой идентификации мальчика с матерью, отмечая, что такая идентификация никогда не происходит только по отношению к общему продвижению аналитического процесса. На 319 странице немецкого текста случая Ганса Фрейд энергично обращает наше внимание на то, что «путь анализа никогда не может повторить ход развития невроза».
Вот мы и дошли до сути вопроса. В наших усилиях по расшифровке мы должны следовать тому, что затягивается в настоящий узел в тексте невроза. Однако этот текст сам по себе в текущей ситуации обусловлен использованием элемента прошлого субъекта в качестве означающего элемента. Вот одна из наиболее ясных форм того неизвестного х, которое стоит за сгущением. По мере того, как мы приближаемся к означающим элементам текста, мы всё менее способны абстрагироваться от того факта, что они распадаются на два слагаемых (termes), расположенных в двух весьма отдалённых друг от друга пунктах истории субъекта, и тем не менее нам нужно найти решение в условиях их актуальной организации. Это то, что заставляет нас искать каждый раз новое решение, определяя свои собственные законы для каждого такого организованного дискурса, соответствующего тому неврозу, с которым мы имеем дело.
Но есть не только организованный дискурс, есть ещё способ, посредством которого завязывается диалог для поиска решения этого дискурса, и это ещё более усложняет положение дел. Налаживание этого диалога на самом деле предполагает, что мы предлагаем себя в качестве того места, где должна быть реализована часть терминов этого дискурса. Виртуально и изначально этот последний, в силу одного только факта, что он является дискурсом, несёт в себе некоторую часть этого Другого, который является местом, свидетелем, гарантом, идеальным местом его подлинности.
Именно там, в раскрывающем диалоге, где формулируется смысл дискурса, мы в принципе располагаем себя. Именно к нему мы и призваны, именно там наблюдаем мы появление элементов бессознательного субъекта, то есть терминов, которые приходят на то место, которое занимаем мы. Диалог постепенно расшифровывает дискурс, показывая нам, какова функция того персонажа, которым мы становимся. Это то, что называется переносом. По ходу анализа этот персонаж обязательно меняется.
Вот как мы стараемся прояснить смысл дискурса. Мы своей собственной личностью интегрированы в качестве означающих элементов в дискурс невроза и именно в силу этого оказываемся порой способны разгадать его смысл.
Принципиально важно всегда иметь в виду эти два плана интерсубъективности как фундаментальную структуру, в которой развивается история расшифровки. И это всегда должно занимать своё место в наблюдении.
В случае маленького Ганса мы должны были подчеркнуть сложность отношений с отцом. Не будем на самом деле забывать, что этот последний и есть тот, кто делает анализ. Таким образом, есть отец реальный, актуальный, ведущий с ребёнком диалог. Это тот отец, который держит речь. Но за ним стоит другой отец, которому эта речь предоставляется, он выступает в качестве свидетеля её истины. Другого, высшего, всемогущего отца представляет собой Фрейд. В этом заключается характерная черта случая, которая заслуживает особого внимания. Что касается структуры, о которой идёт речь, то её можно проследить во всей области отношений анализируемого и аналитика.

К тому же эта разновидность высшей инстанции настолько присуща функции отца, что всегда каким-то образом стремится к воспроизводству.
Именно в этом и заключается специфика случаев, в которых пациент имел дело непосредственно с самим отцом Фрейдом. За ним не стояла высшая власть и не было удвоения, пациент хорошо понимал, что напрямую имеет дело с тем, кто привёл к возникновению новой вселенной значений, новых отношений человека с его собственным смыслом и его положением и кто сделал это в интересах пациента, который находится перед ним. То, что кажется нам парадоксальным как в порой весьма удивительных результатах, которых достигал Фрейд, так и весьма удивительных способах вмешательства, которые были присущи его технике, ничем иным объяснить нельзя.
Будучи усвоенным, это позволяет нам лучше установить, в сторону какого смысла смещается наш интерес. В течении нескольких лет вы видели меня за разработкой фундаментальной схемы субъекта, а именно схемы символических отношений между субъектом и тем Другим, который является персонажем бессознательного, который его ведёт и направляет, тогда как воображаемый другой, маленький другой, играет роль посредника, экрана. Мало-помалу наш интерес сместился, и мы перешли к осмыслению структуры самого дискурса, о котором идёт речь, структуры, которая поднимает другие, не менее оригинальные проблемы.
Даже в курсе этого года мы постепенно сместили наш интерес. Конечно, есть законы интерсубъективности. Это законы, регулирующие отношения субъекта с маленьким другим и большим Другим. Но это ещё не всё, с чем мы имеем дело. К исконной (originale) функции дискурса, суть которой касается языка, стоит приближаться поступательно, шаг за шагом. Дискурс тоже имеет законы, а связь означающего и означаемого представляет собой нечто отличное от интерсубъективности, хотя они могут взаимно пересекаться, как пересекаются отношения воображаемого и символического.
Так, по мере продвижения в этом году в теме объектных отношений мы прояснили изначальное (originale) положение элементов, которые и в самом деле являются объектами, находятся на той первоначальной, учредительной стадии, где объекты формируются, но при этом тем не менее совершенно не являются объектами в полном смысле. Во всяком случае, они сильно отличаются от реальных объектов, поскольку они обязаны своим обнаружением психопатологии, то есть болезни.
Это объекты, зависящие от означающего.
2
Выделяя объекты, зависимые от означающего, я сделал это вначале в отношении фетиша и до конца этого года смогу продвинуться не дальше, чем рассмотрение фобии.
Тем не менее, если вы хорошо поняли то, что мы пытались задействовать каждый раз, когда говорили о фобии маленького Ганса, у вас есть модель, которую вы можете применить для углублённого и расширенного понимания других случаев невроза, а именно истерии и невроза навязчивости.
В фобии это проявляет себя особенно чётко и показательно. Имея дело с фобией юного субъекта, вы всегда сможете увидеть, что объектом этой фобии является означающее. Внешне оно выглядит относительно просто, чего не скажешь об

обращении с ним, как только вы вступаете в его игру. Но на простейшем уровне это -означающее.
В этом состоит смысл данной мной формулы:
(__1---Ам
\ М + ф + а/
Термины под чертой представляют то, что входит и постепенно усложняет элементарные отношения с присутствующей и отсутствующей матерью, от фигуры которой мы оттолкнулись, когда я рассказал вам о символе фрустрации S(M). Именно здесь с возрастом формируются в процессе развития отношения ребёнка с матерью.
Случай маленького Ганса начинается для нас с чрезвычайно непростой стадии, на которой мать усложняется всевозможными дополнительными элементами. Прежде всего таким элементом является фаллос, ф. Я вам говорил, что фаллос определённо был критическим зияющим элементом в тех отношениях, которые современная аналитическая диалектика представляет намнастолько замкнутыми между двумя участниками. Мы же, напротив, должны понять, до какой степени связан ребёнок с воображаемой функцией у матери. С другой стороны, есть другой ребёнок, а, который хотя бы на мгновение прогоняет, отлучает ребёнка от материнской заботы.
Вы всегда увидите появление фобии у ребёнка в этот критический типичный момент, когда недостаёт чего-то такого, что сыграет определяющую роль на выходе из, казалось бы, безвыходного кризиса отношений ребёнка и матери. Чтобы это показать, нам нет нужды строить предположения. Всё аналитическое построение опирается на конструкцию эдипова комплекса, которую можно формализовать так:

Если комплекс Эдипа что-то значит, то это сводится к следующему: начиная с определённого момента, отношения с матерью рассматриваются и переживаются в связи с отцом. Здесь отец удостоен большого Р, потому что мы полагаем его отцом в полном смысле этого слова. Это отец на уровне символического отца. Это Имя Отца, устанавливающее существование отца во всей сложности, в которой он перед нами предстаёт. Опыт психопатологии позволяет разобрать эту сложность, описав её как эдипов комплекс. Введение этого символического элемента привносит новое, радикальное измерение в отношения ребёнка и матери.
Чтобы заполнить вторую часть уравнения, мы должны исходить из эмпирических данных. То, на существование чего эти данные указывают, можно приблизительно и с учётом необходимости дополнительных комментариев описать так:
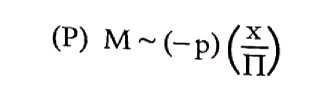
То, что я записал как П под х, представляет собой реальный пенис. (-р) - это то, что противостоит ребёнку, находясь с ним в своего рода воображаемом антагонизме. Это воображаемая функция отца, которая играет свою агрессивную, репрессивную роль в комплексе кастрации.

Если мы хотим формализовать опыт фрейдовского анализа, мы должны строго следовать его букве и хотя бы на время допустить его достоверность. А Фрейд утверждает постоянство комплекса кастрации. Какие бы дискуссии он не породил в дальнейшем, мы никогда не упускаем его из виду, и опыт подтверждает нам его согласованность с комплексом Эдипа.
С одной стороны, что-то происходит в отношениях с матерью, которая вводит отца как символический фактор. Он является тем, кто обладает матерью, кто на законных основаниях наслаждается ей. Эта одновременно фундаментальная и проблематичная функция иногда может ослабевать или распадаться.
С другой стороны, имеется нечто, чья роль состоит во включении в инстинктивную игру субъекта и в усвоении им своих функций важнейшего значения, специфичного именно для человеческого рода, поскольку в развитии этого последнего имеется дополнительное измерение - измерение символического порядка. Это присутствующее, проживаемое в опыте человека значение зовётся кастрацией.
Анализ представляет кастрацию наиболее инструментальным образом -ножницы, серп, топор, нож. Это означающие, которые наносят ущерб сексуальной функции. Они являются частью инстинктивного снаряжения, если так можно выразиться, сексуальных отношений человеческого вида. Мы можем попробовать уточнить, каким снаряжением пользуются те или иные виды животных. К примеру, яркую манишку на груди малиновки, вероятно, можно рассматривать в качестве сигнального элемента как на случай парада, так и на случай межполовой борьбы. Как бы то ни было, у животных мы обнаруживаем устойчивый эквивалент того парадоксального элемента, который у человека связан с означающим, известным как комплекс кастрации.
Именно так можем мы, таким образом, записать формулу комплекса Эдипа с его коррелятом - комплексом кастрации. Но нужно иметь в виду, что сам по себе комплекс Эдипа организуется в плане символическом, что предполагает учреждающий его существование символический порядок. Один эпизод из отчёта о наблюдении маленького Ганса хорошо нам это показывает.
В определённый момент их диалога отец пытается подвести Ганса к рассмотрению всевозможных физиологических объяснений. Застенчивый отец не доводит дело до конца, как это обычно с ним и бывает. Но бедный маленький Ганс говорит, что толком не понял функцию женского органа, и отец, отчаявшись, в итоге даёт ему объяснение, хотя фантазмы маленького Ганса прямо указывают на его прекрасную осведомлённость о том, что всё это находится в животе у матери, независимо от того, символизирована ли она лошадью или машиной. Но отец не замечает того, что ребёнка интересует только генеалогическая конструкция.
Этот интерес соответствует одному из нормальных моментов развития субъекта. Возможно, он здесь усилен особыми трудностями невроза, но он нормален; у маленького Ганса он появляется по мере приближения к весьма продвинутой стадии наблюдения. Ребёнок затевает этот долгий разговор только для того, чтобы смоделировать (construire) существующие генеалогические возможности, то есть чтобы понять, какими способами ребёнок может быть связан с отцом или матерью и что они означают.
Он доходит до создания одной из самых оригинальных сексуальных теорий. Фрейд говорит, что подобную можно встретить у детей не часто, и в любом наблюдении действительно есть своеобразные элементы. Эта теория состоит в следующем -

маленькие мальчики рожают маленьких девочек, а маленькие девочки рожают маленьких мальчиков. Не думайте, что такую теорию нельзя найти в генеалогической организации. Можно даже сказать, что она несёт в себе зерно истины и согласуется с элементарными структурами родства.
Именно потому, что женщины делают мужчин, и могут последние в дальнейшем оказать им ответную услугу, которая позволит женщинам выполнять свои функции деторождения. Предполагается, конечно, что мы подразумеваем это происходящим в символическом порядке, то есть в некотором порядке, который определяет регулярную смену поколений. В порядке природы, как я вам множество раз говорил, нет никакого препятствия к тому, чтобы сводить всё исключительно к женской линии последующих поколений, без всякой дискриминации, касающейся плода, без ограничений на возможность беременности от сына матери и, при возможности с его стороны, последующих поколений. То, что интересует маленького Ганса, это символический порядок как центр тяжести всей его настолько пышной и причудливой конструкции.
В более общих терминах скажем, что обращение к символическому порядку возникает у ребёнка по отношению к большому Р в форме вопроса Что такое отец? Отец действительно является стержнем, фиктивным и конкретным центром управления генеалогическим порядком, который позволяет ребёнку удовлетворительным образом включить себя в мир, в который он был рождён, с какой бы стороны - культурной, природной или сверхъестественной - о нём ни судить, и о котором ему нужно получить какие-то представления, культурные или природные, или сверхъестественные. Он появляется на свет в человеческом мире, организованном порядком символического, и именно с ним ребёнок встречается лицом к лицу.
Разве не открывает для нас психоанализ, какому обязательному минимуму необходимо соответствовать реальному отцу, какому требованию он должен отвечать, чтобы сообщить, дать ощутить и передать ребёнку понимание его места в этом символическом порядке? Также предполагается, что всё происходящее при неврозах призвано как-то компенсировать трудности и неудачи ребёнка, имеющего дело с Эдипом.
Ситуацию усложняет ещё одна вещь. Это то, что мы называем регрессиями. Речь идёт о промежуточных элементах, которые приходят из первичных (primitive) отношений с матерью, которые уже содержат определённый символизм дуальности. Между этими первичными отношениями и моментом, когда, собственно говоря, образуется Эдип, могут иметь место всевозможные происшествия, связанные не с чем иным, как с тем, что различные элементы обмена ребёнка начинают играть свою роль в постижении символического порядка. Короче говоря, догенитальное может быть интегрировано на эдипальном уровне и усложнить вопрос невроза.
В случае фобии дело обстоит просто. Никто не спорит, что в этом случае ребёнок достигает, по крайней мере на время, того, что называют генитальной стадией, где проблемы интеграции пола субъекта встают перед ним во всей полноте. Поэтому функцию фобического элемента нам следует продумать именно на этом уровне.
Фрейд считал функцию фобического элемента гомогенной по отношению к примитивной (primitive) функции, которая была выделена этнографами его времени -функции тотема. Вероятно, что в свете актуального продвижения структурной антропологии, где тотем больше не играет главной, ключевой роли и на его месте появилось что-то другое, это уже пройденный этап. И хотя в конечном счёте вряд ли

только в перспективе фобии Фрейд придаёт значение тотему в аналитическом опыте, для нашей аналитической практики нам нужно тем не менее привести фобический объект к формулировке, которая была бы менее сомнительной, чем тотемические отношения. Вот для чего я в прошлый раз ввёл то, что назвал метафорической функцией фобического объекта.
Это означает, что фобический объект начинает играть роль, с которой по причине некоторой несостоятельности (carence), а в случае маленького Ганса по причине реальной несостоятельности, не справляется персонаж отца. Так, фобический объект играет ту же самую метафорическую роль, которую я пытался проиллюстрировать для вас с помощью образа И сноп его не знал ни жадности, ни злобы.
Я показал вам, как поэт использовал метафору, чтобы подчеркнуть изначальность отцовского измерения, воплощённого этим стариком, чтобы вернуть ему мужественность, наделив его природным плодородием снопа.
В этой животворящей поэзии, которой в данном случае становится фобия, лошадь выполняет ту же функцию. Она является элементом, вокруг которого вращаются всевозможные значения, формирующие в итоге элемент, восполняющий то, чего не хватает развитию субъекта, то есть то, чего недостаёт обстоятельствам его развития, которые предлагает ему диалектика среды, в которую он погружён. Но это возможно только в воображении.
Это означающее в чистом виде. Оно не лишено той предзаданности, которую в телеге культурного наследия субъект волочёт за собой. В конечном счёте субъекту не приходится искать его где-то в другом месте, кроме как там, где находятся всевозможные геральдические образы - в книге с картинками. Это не естественные, а рукотворные образы, образы, нарисованные рукой человека, имеющие свою историю в том смысле истории, которая складывается из мифологических фрагментов и фольклора. Именно в своей книге, прямо возле картинки с ящиком у аиста на красной дымоходной трубе, маленький Ганс находит изображение лошади, которую подковывают. Мы ясно видим, что речь идёт о лошади нарисованной.
Ничего удивительного, что субъекты регулярно прибегают к формам, которые можно назвать типичными, потому что они всегда возникают в определённых контекстах, в определённых связках или ассоциациях, которые могут ускользать от тех, кто становятся их носителем. Субъект выбирает из них одну, чтобы решить конкретную задачу, которая обеспечивает временную стабилизацию некоторых состояний, в данном случае - состояния тревоги. Для того, чтобы решить задачу по трансформации этой тревоги в локализированный страх, субъект выбирает форму, которая становится точкой фиксации, шарниром, стержнем, на которой крепится всё неустойчивое, всё, что находится под угрозой быть сметённым внутренней волной, возникшей на выходе из кризиса отношений с матерью. В случае маленького Ганса такую роль играет лошадь.
Конечно, это весьма запутывает процесс развития ребёнка, и для его окружения это является паразитическим и патологическим элементом. Но аналитическая установка показывает нам, что наряду с этим оно играет роль зацепки, важнейшую роль держателя. Этот элемент становится пунктом, вокруг которого субъект может продолжать переживать то, что в противном случае давало бы о себе знать невыносимой тревогой.
Весь аналитический прогресс этого случая состоит в извлечении, в выявлении возможностей компенсации кризиса, которые предоставляет ребёнку использование

этого важнейшего означающего. Дело в том, чтобы позволить этому означающему сыграть роль, которую отводит ему ребёнок в конструкции своего невроза, чтобы установить отношения с символическим, принимая его в качестве опоры и ориентира в порядке символического.
Вот чему способствует фобия. Она позволяет ребёнку обращаться с этим означающим и привлекать более широкие возможности для развития, чем те, которые оно в себе несёт. На самом деле само по себе означающее изначально не содержит все те значения, которые мы ему приписываем, оно содержит их скорее в силу занимаемого им места, того места, где должен быть символический отец. В том положении, где означающее метафорически соотносится с отцом, оно позволяет осуществиться любым переносам и любым необходимым преобразованиям в отношениях всего сложного и проблематичного, что записано в знаменателе под чертой, - а именно матери, фаллической функции и ребёнка - отношениях, которые в связи с реальной матерью необходимо выстраиваются каждый раз в отчетливый треугольник. Для этого и возникает нужда в неподвластной ребенку инстанции, в чём-то пугающем или даже кусающем.
Поэтому с другой стороны мы записываем то, что является наибольшей угрозой для ребёнка, а именно его реальный пенис.
______2_______
(М + <Р + а) м ~ т + П
3
Что показывает нам наблюдение маленького Ганса? То, что в подобной структуре нет смысла подвергать нападкам её правдоподобность или неправдоподобность.
Дело не в том, чтобы говорить ребёнку, что это глупость, Dummheit, и не в том, чтобы делать весьма обоснованные замечания о взаимосвязи его прикосновений к делателю-пипи и тем, что он внушает больший страх, чем глупость, как будто таким образом мы серьёзно мобилизуем ситуацию, как раз наоборот.
Если вы прочитаете наблюдение в свете предоставленной мной схемы, вы увидите, что эти вмешательства, которые хотя и не прошли без некоторых последствий, никогда не приобретают прямого побудительного значения, не имеют желательной для нас действенности. Напротив, весь интерес наблюдения состоит в том, что оно ясно показывает, что в таких случаях ребёнок реагирует, усиливая сущностные элементы своей собственной символической формулировки проблемы. Он заново разыгрывает со своей матерью драму появления-исчезновения фаллоса У неё есть? У неё нет?, ясно показывая, что это символ, что он принял его как таковой, и это вовсе не дезорганизует его. Поэтому эта схема имеет такое важное значение.
Вот о чём для нас идёт речь в анализе; возможно, это в действительности и есть эволюция этой схемы, позволяющей ребёнку развивать обширную систему значений, а не просто придерживаться временного решения быть маленьким фобиком, который боится лошадей. Но это уравнение может быть решено только по своим собственным правилам, которые являются правилами определённого дискурса, одной конкретной и

никакой другой диалектики. Нельзя к нему подходить, не принимая в расчёт того, что это уравнение направлено на поддержку символического порядка.
Теперь мы можем представить общую схему того, что представляет собой этот порядок в развитии.
Неспроста вмешивается отец - как большой символический Отец, Фрейд, так и маленький отец, любимый отец, который имеет лишь один, хотя и большой недостаток, состоящий в неспособности его выполнять функцию отца и хотя бы на время функцию отца или бога, который был бы ревнив, eifern, в чём его и обвиняет маленький Ганс.
Отец говорит с ним очень ласково и проникновенно (dévouement), потому что не способен быть чем-то большим, чем был до сих пор, потому что он остаётся отцом, не выполняющим в реальном свою роль до конца, то есть как реальный отец он неполно исполняет свою функцию. Что касается ребёнка, то он делает со своей матерью буквально всё, что ему в голову взбредёт, например, отправляется в её кровать без оглядки на отца. Это не означает, что он не любит своего отца, но показывает, что отец не исполняет для него функцию, которая обеспечивала бы прямой и соответствующий схеме выход из сложившейся ситуации. Таким образом, мы имеем дело со следующим затруднением: отец, следуя инструкции Фрейда, прямо начинает с термина П, и это доказывает, что тот ещё не составил себе о ситуации окончательного представления.
Мы бы могли погрузиться по этому поводу в детальные описания, которые позволили бы нам предельно строгим образом сформулировать, о чём идёт речь, прибегнув к серии алгебраических формулировок, трансформирующихся одни в другие. Я с этим немного повременю из опасения, что ваши умы могут быть ещё не вполне готовы для того, что, я думаю, ждёт нас в будущем в клиническом и терапевтическом порядках анализа случаев. Любой случай, по крайней мере на своих основных этапах, должен, по идее, быть сформулирован в серии преобразований.
В прошлый раз я приводил вам пример, написав на доске исходную формулу:

И далее конечную формулу:
/ ‘I \
\М + (р + а/ М~
т + П
И ещё одну:
р(М)(М')~(|)п
Всё это взято в большой Л логификации.

Как только мы об этом договорились и эта Л заняла место между большим Р и малым р, мы могли бы задуматься о том, в какой решающий момент происходит трансформация. Когда малое р оказывается здесь, в m+П, а большое Р - на уровне большого ‘I? До настоящего момента я не касался этих последовательных трансформаций, но ничто нам не мешает сделать это, проследив за происходящим в наблюдении и за тем, каким образом развивается ситуация.

Сразу же после вмешательства Фрейда, 5 апреля появляется фантазм, который играет главенствующую роль и который даст впоследствии место всему, что будет проходить под знаком Verkehr, то есть транспорта, с учётом двусмысленности значения слова. Можно сказать, что определённым способом в этом фантазме весьма чётко воплощается первый термин нашего уравнения.
И действительно, тогда Ганс развивает фантазм о телеге, на которую он забрался, чтобы поиграть, и которая, влекомая лошадью, неожиданно трогается. Этот фантазм подтверждает трансформацию его страхов и представляет собой первую попытку диалектизации фобии, которую можно записать так:

М + ср + ос
Лошадь является здесь элементом, приводящим в движение, тогда как маленький Ганс располагается в самой телеге, нагруженной тюками, которые, как наблюдение в дальнейшем продемонстрирует, представляют собой возможных воображаемых детей матери. Для него не было ничего более страшного, чем снова увидеть мать нагруженной, beladen, то есть беременной, несущей детей в своём животе, как все эти наполненные грузами экипажи, которые так его пугают. Далее, как покажет нам наблюдение, экипаж и иногда ванна репрезентируют мать. Таким образом, фантазия означает: «Мы положим туда кучу этих маленьких детей, я сам их положу, и мы их перевезём».
Можно сказать, что речь идёт о первой образной реализации. Образ, который я вам здесь представил, размыт, насколько это вообще возможно в любого рода естественности психологической реальности, и, напротив, чрезвычайно отчётлив с точки зрения структуры означающей организации. Маленький Ганс извлекает здесь первую выгоду из диалектизации функции лошади, этого сущностного элемента своей фобии.
Мы уже видели маленького Ганса весьма приверженным применению символической функции, например, в одном из его фантазмов о жирафе. Здесь во всём том, что следует после вмешательства Фрейда, мы видим, как он пробует все возможные варианты этой группировки. Сначала маленький Ганс оказывается на телеге в окружении этих пёстрых элементов и так боится, что мать может увезти его от всех бог весть куда, ведь она для него отныне представляет собой лишь бесконтрольную, непредсказуемую силу, с которой он больше не играет, или, употребив более выразительный жаргон, с которой закончилась вся любовь, то есть нет больше правил игры, потому что вмешиваются другие - потому что маленький Ганс сам усложняет эту игру, привлекая не только символический фаллос, играя в его присутствие-отсутствие с матерью, и маленьких девочек, но и маленький реальный пенис, за который его бьют по рукам.
Это показывает нам, что если ребёнок и не поверил абсолютно ничему из того, что сказал ему месье, который общался с ним, как милостивый Бог, но лишь нашёл, что тот

говорил хорошо, то этого оказалось вполне достаточно, чтобы он сам заговорил, то есть начал рассказывать сказки.
Первым делом он подчеркнёт разницу, которая хорошо показывает отличие реальной схемы от схемы символической. Он скажет своему отцу: «Почему ты сказал мне, что я люблю маму, хотя я люблю тебя?» Так он решает часть задач.
Что это в итоге даёт? Маленький Ганс запускает движение своей фобии, получая от лошади всё, что та может дать, используя все возможности воображения. Лошадь может быть запряжённой и распряжённой, кусающей и падающей и так далее. Вот откуда появляются все эти парадоксы.
Не забывайте, что даже в период между 3 и 10 марта, когда Ганс больше всего боится лошади и она в целом означает любую возможную опасность, он непринуждённо играет с лошадью в компании новой няни, когда ему выпадает случай предаваться с ней всевозможным безобразиям - самым бесцеремонным образом угрожать ей, что разденется и она увидит его Wiwimacher. Всё это вполне вписывается в роль, которую играют няни у Фрейда. Вы видите, что в этот момент лошадь совсем не страшит его.
Полностью поддерживая функцию лошади, Ганс, таким образом, использует любую возможность, которую она предлагает ему для понимания и прояснения проблемы. В общем, он уловил суть ситуации - с того момента, как множество подчиняется логике, можно приступить к игре, то есть осуществить ряд замен и перестановок таким образом сгруппированных означающих. Это отправной пункт трансформации. В ином случае непонятно, зачем мы вообще тратим время, вникая в то, что ребёнок рассказывает.
То же самое обнаруживаем мы и в отношении трансформации, которая оказалась решающей, превращения укуса в отвинчивание ванны. При этом меняются взаимосвязи между всеми персонажами. Одно дело - жадно укусить мать, воспринимаемую в естественном её значении, опасаясь ответа в виде пресловутого укуса лошади, а другое дело - отвинтить, развинтить и развенчать её (déboulonner), втянуть её в это дело, заставить и её включиться в состав системы, впервые превратив её в мобильный и тем самым эквивалентный другим элемент. Так система предстаёт большой игрой в шары, где ребёнок старается восстановить устойчивое положение и даже ввести новые элементы, которые позволят ему заново структурировать (recristalliser) ситуацию.
Что как раз и происходит в фантазме о ванне. Это можно точнее записать, используя перестановку, что будет выглядеть примерно так:
/ ‘I \
I гт—----- ) П ~ М (т)
\М + <р + а/ \ '
Символ П представляет сексуальную функцию маленького Ганса, маленькая m -мать, поскольку он ввёл её в диалектику съёмных элементов, что сделало её таким же объектом, как и другие, и в таком качестве позволило манипулировать ей. Таким образом, мы можем сказать, что весь прогресс в анализе фобии сводится к своего рода ослаблению матери по отношению к ребёнку, он постепенно получает над ней контроль.
Очередной этап, который я подытожу в следующий раз, целиком разворачивается в воображаемом плане. С одной стороны, относительно того, что произошло к

настоящему моменту, он регрессивен, но с другой стороны, он отчётливо указывает на прогресс.
Маленький Ганс вводит в игру свою сестру - как элемент слишком болезненный, чтобы справиться с ним в реальном, она появляется в измерении воображаемого. Он разворачивает вокруг неё удивительную конструкцию, великолепный фантазм, который состоит в предположении, что она всегда, едва ли не от века, пребывала в большом ящике.
Это предполагает наличие у него весьма продвинутой означающей организации. В каком качестве сестра ещё до того, как родилась, уже могла присутствовать в этом мире? В качестве чего-то воображаемого, это слишком очевидно. По этому поводу у нас есть разъяснение Фрейда. Нечто представлено здесь в воображаемой, бесконечно повторяющейся, постоянной, незыблемой форме, в форме постоянного припоминания (réminiscence). Маленькая Анна всегда там была, в большом ящике в багажнике повозки, или, в зависимости от обстоятельств, путешествовала отдельно; Маленький Ганс тем больше настаивает, что она находится там, чем знает в реальности, что её там нет. Именно в первый год, когда она ещё не родилась, он настаивал, что она уже появилась и занималась всем тем, чем логически, диалектически занимался он сам в своих речах и своих играх в первой части лечения.
В другой раз он рассказывает нам, что она рядом с ямщиком скачет без стремян и держит вожжи: «Нет, - говорит он, - она не держит вожжи». При этом есть какая-то сложность в различении действительности и вымысла, двусмысленность, на которую Фрейд указывает между Wirklichkeit и Phantasie. Но именно при посредничестве этого воображаемого ребёнка, который был всегда и всегда будет, маленький Ганс продолжает свою фантазию и намечает отношения, также воображаемые, с помощью которых он стабилизирует связь с материнским объектом. Этот объект вечного возвращения прокладывает путь к той женщине, к которой этот совсем маленький мужчина должен получить доступ.
Маленький Ганс буквально пользуется своей сестрой в качестве своего рода Я-Идеала (idéal du moi). Она становится госпожой означающего, госпожой лошади, она берёт верх, и именно при её посредничестве маленькому Гансу удаётся самому отстегать (cravacher) эту лошадь, справиться с ней, оседлать её, стать её хозяином. Так он отныне обнаруживает себя в качестве господина по отношению к тому, что впишется в дальнейшем в ряд творений его ума - господином того воображаемого другого, которым станут для него женщины его фантазмов, которых я назвал бы «девушками его грёз». Он всегда будет иметь дело именно с этим нарциссическим фантазмом, в котором воплощается властный образ. Полностью решая его вопрос обладания фаллосом, этот образ сохранит нарциссический и воображаемый по сути своей статус властной позиции, которую субъект занимает в критический момент.
Вот что внесёт глубокую двусмысленность во всё, что произойдёт далее в плане исхода или нормализации ситуации. Этапы достаточно чётко обозначены в наблюдении. После игрового развития своих фантазмов и сведения (réduction) к воображаемому элементов, однажды зафиксированных в качестве означающих, устанавливается фундаментальное отношение, позволяющее ему принять свой пол. Он принимает его таким образом, который, насколько бы нормальным он ни был, оставляет возможность предположить в нём некоторый изъян.

Я смогу расставить все акценты только в следующий раз, но уже сегодня укажу вам на изъян того пункта, которого достиг ребёнок, чтобы удержать своё место.
В этом отношении нет ничего более значимого, чем то, что нашло выражение в завершающем фантазме отвинчивания, где ребёнку меняют его зад на больший. Зачем? Чтобы заполнить место, которое он приспособил для обращения, ту ванну, где может быть диалектически развита и удалена при удобном случае тема падения. Здесь становится заметным нетипичный, ненормальный, почти что вывернутый наизнанку характер ситуации.
Нормальная формула комплекса кастрации предусматривает, что мальчик, если ограничиться только им, обладает своим пенисом только при условии, что он, будучи утрачен, возвращается ему заново. В случае маленького Ганса комплекс кастрации непрестанно призывается ребёнком, он сам предлагает формулу, сам ищет для него образы. Он почти требует от своего отца подвергнуть его испытанию или, наоборот, подстрекает и организовывает ему испытание на соответствие образу отца, он ранит его, он желает ему пораниться. Не поразительно ли то, что после всех тщетных усилий по осуществлению этой фундаментальной метаморфозы субъекта в конечном итоге происходит то, что затрагивает не его половой орган, а его зад, то есть его отношения с матерью?
Теперь маленький Ганс сможет как-то обустроиться, но этот результат обязан своим появлением тому, что не представлено в рассмотренной перспективе. Речь идёт о диалектике отношения субъекта к его собственному органу. И здесь, поскольку сам орган не изменяется, субъект сам к концу наблюдения берёт на себя роль своего рода мифического отца таким, каким он его себе смог представить. И отец этот, Бог свидетель, совсем не такой, как другие, поскольку этот отец из фантазмов Ганса способен рожать. Как говорит муж в «Грудях Тиресия»:
Revenez dès ce soir voir comment la nature
Me donnera sans femme une progéniture. [I, 8]
Сегодня вечером взгляните как природа
Без женщины даст мне потомство в родах
Вот почему нельзя сказать, что взаимоотношения полов и остающийся после интеграции этих отношений провал усвоены субъектом вполне.
Как можно судить о результате аналитического прогресса, если не по парадоксальной инверсии определённых терминов, записываемой символически с помощью знаков плюса и минуса? В данном случае можно сказать, что маленький Ганс не прошёл через комплекс кастрации, но последовал другому пути. И этот другой путь, как показывает миф об установщике, заменившем ему зад, привёл его к трансформации в другого маленького Ганса.
Вот полный смысл финальной черты, которую приводит Фрейд в эпилоге случая. Встретив его позже, Ганс, уже взрослый, скажет ему при встрече: «Я больше ничего из этого не помню». Здесь мы видим знак и свидетельство о моменте принципиального отчуждения.

Вы знаете историю о том субъекте, который уехал на остров, чтобы кое-что забыть. Люди, которые его обнаружили, подошли к нему и спросили о том, что он хотел забыть, и он не смог ответить. Как повествует финал истории - он забыл.
В случае маленького Ганса кое-что побуждает нас всё-таки скорректировать акцент, я бы сказал даже, изменить формулу этой истории. Если есть как в анализе маленького Ганса, так и в эдипальном разрешении, которое оставила после себя фобия, некоторый стигмат незавершённости, то состоит он в следующем. Все эти благотворные манёвры означающего, которые постепенно свели на нет фобию, которые сделали недейственным означающее лошади, если они подействовали, то не потому, что маленький Ганс «забыл», а потому, что он «забылся».
26 июня 1957

| Мадонна в скалах |
|---|
 |
Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом


| эскиз, хранящийся в Берлингтон Хаус |
|---|
 |
| Иоанн Креститель |
|---|
 |

Посвящение

глава 24 От Ганса-фетиша к Леонардо-в-зеркале
Выход через материнский идеал
Ганс - дочь двух матерей
Коршун был ястребом
Большой Другой, ставший маленьким Воображаемая инверсия Леонардо
Сегодня последняя встреча нашего семинара в этом году. Я не захотел сегодня повторяться, подводя итоги, хотя с методической точки зрения это небесполезно, к каким бы результатам ни приводило.
В прошлый раз я обошёл стороной некоторые вещи, из-за чего не смог довести до конца свой анализ.
Я задействовал в формализации маленькие буквы и попытался показать вам, в каком направлении можно приложить усилия для освоения такой формы записи отношений, которая дала бы нам чёткие ориентиры, к обсуждению которых можно было бы снова не возвращаться и которых, раз установив их, нельзя было бы избежать, воспользовавшись чрезмерной тонкостью в столь важной для понимания нашего опыта игре между воображаемым и символическим.
Поэтому я начну с первого этапа этой формализации. Я прекрасно понимаю, что недостаточно обосновал все термины. Поэтому вам может показаться, что способу связать их между собой присуща некоторая неопределённость. Нельзя за один раз объяснить всё. В статье, которая появится в третьем номере журнала Психоанализ под названием Инстанция буквы, вы найдёте, возможно, более строгое обоснование некоторых из этих формул, а именно формул метафоры и метонимии.
На данном этапе важно, я полагаю, что вам была подсказана возможность применять подобные формулы для описания отношений между субъектом и различными модусами другого, которые не могут быть артикулированы иначе, поскольку обычный язык не предоставляет основы, необходимой для того, чтобы это сделать.
Таким образом, я прошёл мимо некоторых вещей. В конце концов, почему бы мне мимо них не пройти? Откуда берётся, например, в случае маленького Ганса желание достичь исчерпывающего решения поднятого в нём вопроса?
Вы знаете, что я намерен продолжить свой комментарий, ориентируясь на вопросы, которые поставил Фрейд. Это вовсе не означает, что я хочу сделать из каждого его произведения, и тем более из всех его произведений, полную, замкнутую систему. Важно, чтобы вы достаточно хорошо усвоили и с каждым днём усваивали всё лучше, что Фрейд меняет саму основу психологического исследования, вводя в него чуждое ему измерение. Чужеродный характер этого измерения по отношению к любому психологическому определению объекта составляет оригинальность нашей науки и базовый принцип, по которому мы должны оценивать свой прогресс.
Попытка замкнуть область начатых Фрейдом поисков, свести их к уровню психологии приводит к тому, что я без обиняков назвал бы бредовым психогенезом (psychogenëse). Вы каждый день наблюдаете этот имплицитно развивающийся психогенез в той манере, в которой психоаналитики рассматривают факты и объекты, с которыми они имеют дело. Один лишь факт его существования настолько парадоксален,

настолько чужд всем смежным концепциям, настолько шокирующ и в то же время настолько признан, что должен принадлежать к самой сути вопроса и должен быть включён в то решение, которое мы ищем для проблемы найденного Фрейдом измерения, то есть бессознательного.
1
Так что в случае Ганса я оставил в стороне всю эту игру, которую сейчас вы уже можете проследить.
Вы знаете достаточно элементов, чтобы, перечитывая текст, увидеть мифическую игру, в которой происходит всё то, что я назвал сведением (réduction) к воображаемому последовательности материнского желания, записанной мной в формуле как M ф а, где учтены отношения матери с воображаемым другим, являющимся её собственным фаллосом, и в дальнейшем с новыми привходящими элементами, то есть другими детьми, в данном случае с младшей сестрой Анной.
Инфантильная мифологизация в воображаемой игре, инициированная, скажем так, терапевтическим вмешательством, демонстрирует нам феномен, оригинальность которого должна быть принята в качестве сущностного элемента аналитической проработки, Verarbeitung. Это динамический и структурообразующий элемент символического прогресса, в котором и состоит аналитическое лечение как таковое.
Хотя дальше я в анализе продвигаться не стал, мне всё же хотелось бы указать вам на ряд не рассмотренных мной элементов. На самом деле я мимоходом говорил о них, но не объяснил вам их точную функцию по отношению к мифотворческой деятельности, которой предаётся ребёнок под стимулом аналитического вмешательства.
Один такой элемент соответствует большому мифическому изобретению в сюжете рождения и постоянного присутствия маленькой Анны, которое так замечательно развивается Гансом в его мифотворческой спекуляции. Это исполненный в по-настоящему лучших традициях чёрного юмора таинственный персонаж аиста - этот аист приходит в маленькой шапочке, стучит в дверь и, когда ему никто не отвечает, вставляет ключ в замок. Он представляет совершенно неординарные аспекты, если только мы расслышим то, что сказал маленький Ганс. «Он укладывает Анну в твою кровать», -говорит он. Иначе говоря, на твоё место. Затем он поправляется: «В её кровать». Потом аист без ведома других удаляется, хотя и наводит при этом шороху, встряхнув весь дом перед уходом. Короче говоря, этот персонаж, который приходит и уходит с невозмутимым, даже зловещим видом, безусловно, является одним из наиболее загадочных творений маленького Ганса и заслуживает, чтобы мы задержали на нём наше внимание подольше. Стоит указать на его значение в общей экономике случая в этот момент прогресса маленького Ганса.
Маленький Ганс, подвергаясь внушению со стороны отца-психотерапевта, который сам курируется Фрейдом, сумел инициировать свою воображаемую манипуляцию различными имеющимися в его распоряжении терминами, лишь обратившись к тому, о чём прямо и непосредственно объявляется накануне большого мифического творения -к рождению Анны и заодно к появлению аиста. В одном высказывании Ганса, которое передаёт отец, мы встречаем тему смерти в связи с палочкой, которая есть у маленького Ганса - неизвестно, почему мы раньше никогда не говорили об этой палочке - он ударяет ей о мостовую и спрашивает, нет ли внизу мертвецов.

Присутствие темы смерти строго коррелятивно теме рождения. Это важнейшее для понимания и продвижения данного случая измерение. На самом деле эта тема жизни и смерти, бытия (existence) и ничто (néant), эта сила творения, возведённого в ранг мистерии, поднимает особые вопросы, отличные от вопросов, связанных с введением означающего лошади. Это не гомология, но нечто другое, что, возможно, мы рассмотрим в следующем году и что я оставлю пока про запас. Весьма вероятно, что тема, которую я возьму для работы в следующем году, будет следующей: образования бессознательного.
Также я ещё раз подчеркну важность того, что маленький Ганс в конце кризиса, в котором разрешается и растворяется фобия, приходит, что очень существенно, к твёрдому отказу от новых рождений, заключая с матерью, а также с аистом, своего рода договор. Теперь вы понимаете смысл отрывка о том, как связаны мать и Бог в сюжете появления ребёнка на свет, который так элегантно комментирует по ходу наблюдения Фрейд: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». И действительно, именно так сказала ему мать: «В конце концов, это зависит от меня».
Вообще-то маленький Ганс высказывает желание иметь детей и в то же время не хочет, чтобы появились другие. Он хочет воображаемых детей, это говорит о том, что вся ситуация разрешается для него посредством идентификации с материнским желанием. У него появятся дети в его грёзах, в его мыслях. Прямо говоря, у него будут дети, структурированные по типу материнского фаллоса, который в конечном итоге станет объектом его собственного желания.
Но, конечно, новых детей не будет, и очевидно, что эта идентификация с желанием матери как с воображаемым желанием образуется лишь как возвращение к маленькому Гансу, каким он когда-то был, играя с маленькими девочками в ту раннюю (primitif) игру появления-исчезновения (cache-cache), объектом которой был его половой орган. Теперь Ганс совсем не думает играть в игру появления-исчезновения, точнее, больше не собирается им ничего показывать, за исключением своей прекрасной фигуры маленького Ганса, то есть того персонажа, которым он, с некоторой точки зрения, в итоге стал, - вот к чему я клоню - чем-то вроде объекта фет и ша.
Маленький Ганс располагает себя в определённой пассивной позиции, и каким бы гетеросексуальным ни был выбор объекта, мы не можем признать, что он до конца узаконенность его позиции объясняет. Так он присоединяется к типу, который в нашу эпоху не кажется странным, типу поколения определённого стиля, известного нам как стиль 1945 года, времени этих очаровательных молодых людей, которые ждут инициативы от другой стороны, которые ждут, попросту говоря, что с них снимут штаны. Таков стиль, в котором мне видится будущее этого очаровательного и, как может показаться, совершенно гетеросексуального маленького Ганса.
Поймите меня правильно. Ничто в наблюдении не позволяет нам даже на мгновение заподозрить, что оно решается как-то иначе, нежели господством материнского фаллоса, поскольку Ганс занимает его место, он с ним идентифицируется, он им овладевает. Всё, что может соответствовать фазе или комплексу кастрации, сводится к тому, что предстаёт в наблюдении в виде камня, о который можно пораниться. Я бы сказал, что ему больше соответствует образ не зубастой вагины, но зубастого фаллоса. Этот вид застывшего предмета является воображаемым объектом, жертвой повреждения о который станет любое мужское посягательство.

Именно в этом смысле мы можем сказать, что эдипов кризис маленького Ганса в действительности не приводит к образованию типичного Сверх-Я; я имею в виду такое Сверх-Я, которое возникает в соответствии с механизмом, обозначенным как то, что мы изучили здесь как Verwerfung в формулировке «то, что отвергнуто в символическом, возвращается в реальном». Вот настоящий ключ для лучшего приближения к тому, что происходит после эдипального Verwerfung.
На самом деле как раз по той причине, что комплекс кастрации и пройден, и в то же время не может быть полностью усвоен субъектом, происходит идентификация с образом отца в грубой его форме, образом, который включает в себя его реальные особенности, где они отмечены тяжестью или даже подавлением. Так, мы видим, как ещё раз обновляется механизм повторного появления в реальном, но в реальном на границе психического, внутри пределов собственного Я, в реальном, которое навязывается субъекту в квазигаллюцинаторной форме по мере того, как субъект этот отрывается от символической интеграции процесса кастрации.
Ничего подобного в этом случае нет. Конечно, маленькому Гансу не нужно терять свой пенис, поскольку он никогда его не обретал. То, что маленький Ганс идентифицируется с материнским фаллосом, не означает, что он может принять функцию своего пениса. Нет никакой фазы символизации пениса. В некотором смысле пенис оказывается выдворенным как нечто позорное, порицаемое матерью, и это непозволяет Гансу интегрировать свою мужественность никаким другим образом, как только посредством механизма идентификации с материнским фаллосом, который принадлежит совершенно иному порядку, нежели Сверх-Я, нежели эта, без сомнения, подрывная, но в то же время уравновешивающая функция, какой является Сверх-Я. Эта функция принадлежит порядку Я-Идеала (idéal du moi).
Благодаря тому, что у маленького Ганса есть определённая идея о своём идеале, который является идеалом его матери, а именно заменой фаллоса, маленький Ганс осваивается в существовании. Скажем, что если бы у него вместо еврейской матери, не чуждой прогрессу, была бы набожная мать-католичка, то вы можете представить себе механизм, который при случае мягко подвёл бы маленького Ганса к священному сану, если не к святости.
В случаях, подобных этому, где субъект попадает в нетипичные эдиповы отношения, материнский идеал совершенно точно является тем, что влечёт за собой определённый тип ситуации и её разрешения в отношении субъекта к половому органу. Выход осуществляется посредством идентификации с материнским идеалом.
Таковы приблизительные наброски тех условий, в которые я помещаю для вас итог случая маленького Ганса. На протяжении всего наблюдения нам предоставляются подтверждающие это признаки, подчас весьма трогательные.
Так, в конце маленький Ганс, решительно обескураженный отцовской несостоятельностью (carence), сам фантазматически проводит собственную церемонию инициации. Он, полностью раздевшись, едет - словно желая, чтобы отец двинулся в путь, - в маленьком вагончике, в котором проводит в дозоре всю ночь, как юный рыцарь, после чего платит несколько монет проводнику поезда - это те же деньги, которые послужат умиротворению ужасающей мощи Storch, - и вот маленький Ганс уже едет по большому кругу железной дороги. Дело улажено. Маленький Ганс будет никем иным, как рыцарем, рыцарем, более-менее освоившимся в социуме, но всё-таки рыцарем, и у

него не будет отца. И я полагаю, что ни в каком новом опыте существования он не сможет его найти.
Сразу же после этого происходит несколько запоздалое вмешательство отца. То, как у отца постепенно по ходу наблюдения складывается понимание, вещь не самая безынтересная. После своей игры начистоту, будучи железно уверенным в истинах, которые он получил от своего учителя Фрейда, отец по мере их применения видит, насколько эти истины гораздо более относительны. И когда маленький Ганс начнёт производить свой большой мифический бред, он обронит едва заметную в тексте, но очень важную фразу.
Речь идёт о моменте, связанном с игрой словами, когда маленький Ганс постоянно противоречит сам себе и говорит: «Это правда, это не правда, это шутка, но всё равно очень серьёзно». Отец, не будучи дураком, улавливает суть и говорит: «Всё, что говорится, - всегда немножко правда». И тогда отец - который не способен занимать свою позицию, и, скорее всего, именно его и нужно было заставить пройти анализ -пытается исправить положение и, хотя уже слишком поздно, говорит маленькому Гансу: «В конце концов, ты злился на меня».
Во время этого с опозданием дошедшего до маленького Ганса вмешательства один очень милый маленький жест проливает на наблюдение особый свет - в тот самый момент, когда отец говорит с ним, он роняет маленькую лошадь. Поезд ушёл, разговор уже не актуален, маленький Ганс уже утвердился в мире в своей новой позиции.
Отныне маленький Ганс - человечек, плодящий детей, способный непрерывно порождать их в своём воображении, полностью удовлетворённый своими творениями. И такой в его воображении живёт мать.
Как я вам уже говорил, он, маленький Ганс, не дочь одной матери, но дочь двух матерей. На этом примечательном, загадочном пункте наблюдения я уже останавливался в прошлый раз. Конечно, он получил слишком много поводов и причин уяснить для себя присутствие и могущество другой матери, матери отца. И всё же тот факт, что субъект принимает эту двойственность, это удвоение материнской фигуры, которое становится условием окончательного равновесия, представляет собой одну из структурных проблем, которые здесь при наблюдении возникают.
На вышеупомянутом я остановился в позапрошлый раз, сделав сопоставление с картиной Леонардо да Винчи, а заодно и со случаем Леонардо да Винчи, которому Фрейд не случайно уделил столько внимания.
Этому тексту мы и посвятим сегодня время, которое у нас осталось. Конечно, мы не претендуем на то, чтобы исчерпывающим образом проработать Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи за одну встречу. Это будет небольшой разговор перед каникулами, который в процессе моих семинаров я привык проводить в более расслабленной манере для группы таких внимательных слушателей, как вы, в знак моей благодарности.
Оставим маленького Ганса на волю его судьбы. Но прежде чем его покинуть, я уточню, что если я сделал намёк на отношение его случая к определённой эволюции, произошедшей в отношениях между полами и сослался при этом на поколение 1945 года, то точно не для того, чтобы поговорить о чём-то чрезвычайно актуальном. Заботу описать и определить то, что может представлять собой нынешнее поколение, я оставляю другим, скажем, Франсуазе Саган. Я не случайно ссылаюсь на это имя, не от одного только чаяния быть актуальным, но для того, чтобы посоветовать вам в качестве

чтения на каникулы номер Критики (Critique) за август-сентябрь 1956 года, где под названием Последний новый мир (Le dernier monde nouveau) Александром Кожевым опубликована статья по двум книгам, Здравствуй, грусть и Смутная улыбка, принадлежащим перу того успешного автора, которого я только что назвал. Вы сможете увидеть, что строгий философ, который привык располагать себя на уровне мысли Гегеля и самом высоком уровне политики, может извлечь из произведений, на первый взгляд столь легкомысленных.
Это станет для вас напутствием. И, как говорится, хуже точно не будет, вы ничем не рискуете. Психоаналитиками не становятся те, кто полностью, без остатка посвящает себя поветриям моды в вопросах психосексуальности. Вы для этого слишком хорошо сориентированы и не слишком сведущи в темах такого рода. Это чтение может быть полезным для вас тем, что окунёт вас в актуальные вопросы современности, освежит ваш взгляд на то, что вы делаете, и лучше подготовит вас к тому, что вы можете порой услышать от ваших пациентов. Также это покажет вам, что мы должны принимать во внимание глубокие изменения, произошедшие в отношениях между мужчиной и женщиной за период не дольше того, что отделяет нас от времени Фрейда, когда всё, чему предстояло стать нашей историей, было уже на подходе.
Также это покажет вам, что донжуанство, возможно, ещё не сказало своего последнего слова, что бы ни говорили аналитики. Если они привнесли нечто интересное, если нечто дельное и промелькнуло в вопросе гомосексуальности Дон-Жуана, то, конечно, это не стоит понимать так, как обычно это понимают.
Я глубоко убеждён, что Дон Жуан слишком далёк от нашего культурного уклада, чтобы аналитики могли точно его распознать. Дон Жуан Моцарта, например, эта вершина того персонажа, который знаменует, прямо скажем, кульминацию вопроса в том смысле, в котором понимаю его здесь я, представляет собой нечто совершенно отличное от персонажа-отражения, которого пожелал сконструировать для нас Ранк. Совершенно точно он не может быть осмыслен исключительно под углом и в аспекте двойника. Вопреки тому, что о нём говорят, Дон Жуана нельзя считать попросту соблазнителем, который прибегает к мелким трюкам, которые каждый раз срабатывают, более того, я полагаю, что он весьма от этого далёк. Я думаю, что Дон Жуан любит женщин, я бы даже сказал, что он любит их настолько, что умеет иногда об этом промолчать, и что он любит их настолько, что, когда он им об этом говорит, они ему верят.
Важно и очень показательно то, что ситуация всегда остаётся для него безвыходной. Я думаю, что объяснение этому следует искать в направлении понятия фаллической женщины.
В отношениях Дон Жуана с его объектом, конечно, есть нечто, связанное с вопросом бисексуальности, но именно в том смысле, что Дон Жуан ищет женщину и что это фаллическая женщина. Поскольку он действительно её ищет, идёт за ней, не удовлетворяется ни ожиданием, ни созерцанием, он её не находит или находит её в конце концов лишь в облике этого зловещего гостя, который на самом деле является другой, неожиданной для него стороной женщины и который неспроста оказывается отцом. Но не будем забывать, что предстаёт он - любопытная деталь - в форме каменного гостя, персонажа из камня в его абсолютно мёртвом и замкнутом качестве, по другую сторону всей природной жизни. Именно там Дон Жуан окажется сломленным и найдёт завершение своей судьбы.

Совсем другую проблему представляет нам Леонардо да Винчи.
2
Нам не стоит задаваться вопросом, что именно могло заинтересовать Фрейда в Леонардо да Винчи. Почему всё пошло так, а не иначе, должно занимать нас в последнюю очередь. Фрейда заинтересовал Леонардо да Винчи просто потому, что Фрейд - это Фрейд.
Сейчас дело в том, чтобы понять, как он им заинтересовался и чем именно мог Леонардо да Винчи быть для Фрейда. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нет ничего лучше, чем прочитать Одно детское воспоминание. Я предупредил вас загодя, чтобы те, кто это сделает, смогли составить для себя представление о глубоко загадочном характере этого произведения.
Вот Фрейд в 1910 году, достигший того, что мы можем назвать вершиной успеха. По крайней мере внешне всё выглядит именно так и, честно говоря, он сам не упускает случая это подчеркнуть. Он получил международное признание и ещё не познал драмы и печали расставаний со своими самыми многообещающими учениками; он на пороге больших кризисов, но к этому моменту, можно сказать, наверстал всё упущенное им за все годы своей жизни.
Таков Фрейд, который берётся за тему Леонардо да Винчи. Его предпочтения в культуре, его любовь к Италии и Ренессансу позволяют нам предположить, что он был заворожён этим персонажем. Но что он сам скажет нам по этому поводу? В том, что он нам говорит, мы не найдём ни особых сведений об этом персонаже, ни внимания к его отличительным чертам.
Тем не менее в целом текст Фрейда о Леонардо да Винчи перечитывается с интересом, и с годами интерес к нему только возрастает. Даже если это одно из наиболее критикуемых произведений Фрейда - а парадокс состоит в том, что этот текст входит в число тех, которыми он сам больше всего гордился, - специалисты по живописи и истории искусства, люди - Бог тому свидетель, примеров этому немало, - наиболее осторожные в подобных случаях, признают со временем, несмотря на обнаруженные в нём грубейшие ошибки, его важность. Историки искусства почти единодушно не приняли работу Фрейда, отнеслись к ней с пренебрежением, даже с презрением, и всё же, несмотря на постоянные нападки, которые спровоцировало появление новых документов, подтверждающих, что Фрейд допустил ошибки, остаётся фактом, что есть и другие мнения, как, например, у Кеннета Кларка, бывшего директора National Gallery. В своей не столь давней работе он очень заинтересовался анализом Фрейда картины, которую я вам как-то раз показывал. Это Святая Анна из Лувра, дублируемая знаменитым картоном, который находится в Лондоне. Опираясь на эти два произведения, Фрейд произвёл или полагал произвести углублённое исследование случая Леонардо да Винчи.
Мне кажется, нет надобности резюмировать для вас ход рассуждения этой небольшой работы.
Сначала Фрейд кратко представляет случай Леонардо да Винчи и его странные черты. Мы ещё вернёмся к этой странности своими собственными путями, и совершенно очевидно, что Фрейд в целом сфокусирован на загадке его личности. Далее он упоминает особые врождённые черты этого художника, его предрасположенности и его

парадоксальную деятельность. Я говорю теперь этого художника, хотя одновременно Леонардо да Винчи занимался не только живописью, но и многими другими вещами. Наконец Фрейд подходит к эпизоду, которому уделяет так много внимания во всех своих дальнейших рассуждениях, а именно к единственному дошедшему до нас детскому воспоминанию Леонардо да Винчи: «Мне, кажется, заранее было суждено заниматься коршуном. В одном из моих первых детских воспоминаний, когда я ещё лежал в колыбели, ко мне прилетел коршун, открыл мне своим хвостом рот и много раз толкнулся хвостом в мои губы».
Вот в высшей степени тревожащее детское воспоминание, говорит нам Фрейд и присоединяет новое звено, и мы следуем за ним от звена к звену, туда, куда он собирается нас привести. Мы следуем за ним, потому что привыкли к фокусам наложения друг на друга в диалектических рассуждениях того, что на опыте и в клинике часто путают, хотя принадлежит это по, сути дела, двум совершенно различным регистрам. Я не хочу сказать, что Фрейд распоряжается этим ненадлежащим образом, напротив, я полагаю, что он работает здесь блестяще, то есть он идёт прямо к сути явления. Только вот мы совершаем ошибку, когда, ленясь умом, заранее принимаем всё, что он говорит, на веру, тогда как речь здесь идёт о совмещении и наложении друг на друга отношений с материнской грудью и фелляции, по крайней мере воображаемой, которую Фрейд здесь с самого начала усматривает, придавая ей смысл настоящего сексуального вмешательства (intrusion).
Фрейд сразу же полагает это как данность и именно на этом основании выстраивает своё рассуждение, постепенно подводя нас к разработке глубоко загадочных отношений с матерью в случае Леонардо да Винчи. Он объясняет этими отношениями все особенности своего странного персонажа: его вероятное целомудрие и своеобразное, уникальное отношение к собственным произведениям, которое проявляется в постоянной деятельности на пределе осуществимого и, как пишет он сам, невозможного, его тенденцию прерывать работу, пускаясь каждый раз в новые предприятия, своеобразие, резко выделяющее его в среде современников и превращающее его уже при жизни в легендарного персонажа, в обладателя всевозможных навыков и умений, в универсального гения. Вся та идеализация, которой подвергался Леонардо да Винчи уже среди современников, выводится Фрейдом из его отношений с матерью.
В качестве отправной точки, как я уже сказал, он принимает одно детское воспоминание. Этот коршун с трепещущим хвостом, бьющим по губам ребёнка, сконструирован, говорится нам, в качестве покрывающего воспоминания (souvenir-écran), в котором отражается фантазм фелляции. Фрейд ни на мгновение в этом не сомневается, тем не менее, непредвзято взглянув на вещи, стоит признать, что здесь как минимум возникает проблема - ведь весь ход фрейдовского исследования как раз и демонстрирует, что до возраста примерно трёх-четырёх лет Леонардо, весьма вероятно, не знал другого присутствия, кроме присутствия материнского, а значит, не знал ни других элементов сексуального соблазнения, кроме тех, которые он называет страстными поцелуями матери, ни других объектов, способных быть объектами его желания, кроме материнской груди. В конечном счёте, демонстрацию того, что могло предвосхитить будущее, сам Фрейд располагает в плане фантазма.

В общем, всё опирается на один пункт - на отождествление коршуна с матерью, поскольку только её образ мог быть источником воображаемого вмешательства (intrusion).
Давайте скажем прямо, в этом деле случилось то, что можно назвать случайностью, даже ошибкой, но это счастливая случайность. Фрейд читал это детское воспоминание только в виде отрывка, процитированного у Герцфельд, то есть он прочитал его на немецком. Так вот, Герцфельд перевела как коршун то, что коршуном совсем не является. Этот факт подтверждается множеством эрудитов, совсем недавно Месье Мейером Шапиро в статье, опубликованной в Journal of History of Ideas, №2, 1956.
Фрейд мог получить повод для сомнений на этот счёт, поскольку обыкновенно он, как всегда, скрупулёзно подходил к своей работе, а перевод содержит ссылку на страницы манускрипта, в данном случае Codex Atlanticus, то есть на рукопись Леонардо да Винчи, которая находится в Милане. Она была переведена почти на все языки, есть, кстати, и французский перевод, весьма сомнительный, но полный, под названием Carnets de Léonard de Vinci. Это собственноручные записи Леонардо, часто сделанные на полях его рисунков. Таким образом, Фрейд мог обратиться по этой ссылке к записям Леонардо да Винчи, которые, как правило, состоят из пяти, шести, семи строк, занимающих максимум половину страницы, вперемешку с рисунками. Нужная запись располагается рядом с рисунком на листе, где речь идёт об исследовании полёта птиц, к которому Леонардо возвращается в разных частях этой работы. Леонардо да Винчи пишет: «Мне, кажется, заранее было суждено заниматься ...», но не «коршуном», а именно тем, что нарисовано рядом, ястребом.
То, что ястреб может представлять особый интерес для изучения полёта птиц, отмечено уже Плинием Старшим. По его мнению, ястреб должен привлекать внимание авиаторов по той причине, что движения его хвоста являются особенно наглядным образцом для понимания действий руля. Леонардо да Винчи занимается этим же. Весьма занимательно проследить сквозь века приключения этого ястреба, известного со времён Античности, упомянутого множеством авторов - некоторых из них мне нужно будет сейчас мимоходом упомянуть - и оказавшегося, как меня заверили, в наши дни в руках Месье Фоккера, который занимался изучением движений его хвоста в период между двумя войнами, рассчитывая занятные подготовительные маневры для перевода самолёта в пике и создавая по-настоящему отвратительную пародию - я надеюсь, что вы разделяете моё мнение на этот счёт - на естественный полёт. От человеческой извращённости большего ждать не приходится.
Кстати, этот самый ястреб хорошо годится для того, чтобы её спровоцировать. Это животное, в котором нет ничего особенно привлекательного. Белон, написавший прекрасную работу о птицах и побывавший по поручению Генри II в Египте и в других уголках мира, видел в Египте этих ястребов, которых он изображает мерзкими и злыми.
Должен признаться, на мгновение у меня появилась надежда, что всё приходит в порядок, и что коршун Фрейда, каким бы ястребом он ни был, всё же может иметь отношение к Египту, и что, в конце концов, это всё же египетский коршун. Видите, как я постоянно пытаюсь привести всё в порядок. К сожалению, ничего подобного.
В Египте есть ястребы, и даже я могу рассказать вам, как однажды удивился, когда, завтракая в Луксоре, увидел краем глаза нечто, прошелестевшее сбоку и удирающее с апельсином с моего стола. Сначала я подумал, что это был сокол, но сразу же понял, что это не так. Это был не сокол, потому что сей зверь устроился на углу крыши и поставил

перед собой маленький апельсин, чтобы показать, что всего лишь пошутил, и было хорошо видно, что он имеет специфический ярко-бурый окрас. Я тотчас убедился, что это ястреб. Видите, насколько это изученная, поддающаяся наблюдению птица.
Но вопрос непростой. Есть египетский коршун, который очень на него похож, именно он и может исправить недоразумение. Именно о нём говорит Белон и называет его священной птицей египтян, которая упоминается со времён Геродота под именем Мегах. Он очень распространён в Египте и, действительно, почитается как священный. Геродот, наставляя нас, говорит о том, что в Древнем Египте убивший его попадает в наихудшие неприятности. Он немного похож и на ястреба, и на сокола. Именно он соответствует букве алеф в египетских идеограммах, на которые я ссылаюсь, когда говорю об иероглифах и их показательной для нас функции. Вот коршун, то есть священная птица египтян, о котором идёт речь:
Le vautour ÉGYPTIEN
Всё было бы хорошо, если бы именно он служил богине Мут, которую, как вы знаете, Фрейд упоминает в связи с коршуном. Но это не так, и Фрейд действительно был не прав, поскольку коршун, который служит богине Мут, выглядит так:
ГГУт Le Gyps fulvus
Этот второй не является, подобно первому, фонетическим знаком. Он служит детерминативом, добавляемым элементом. Или сам по себе обозначает богиню Мут, и в этом случае к его изображению добавляется маленький флажок. Или он целиком вписывается в символ, означающий Мут, после чего следует маленький детерминатив. Или можно удовлетвориться тем, чтобы использовать его в качестве эквивалента М, добавив сразу же маленькую т для фонетизации термина. Мы находим его во многих ассоциациях, где всегда фигурирует богиня-мать.
Этот коршун совершенно иной, он настоящий Gyps (гриф), он совершенно не похож на предыдущего, сходного с ястребом, соколом и другими соседними видами животных. Именно к этому коршуну относится все то, что Фрейд нашёл в традиции обращения к жизни зверей, например, в текстах Гораполлона, относящихся к эпохе египетского упадка. Из писаний последнего, кстати, фрагментарных, тысячу раз перетасованных, переписанных и искажённых, в эпоху Возрождения был составлен ряд сборников, куда гравировщики того времени внесли небольшие эмблемки, которые должны были бы сообщать нам о значении главных египетских иероглифов.

Есть работа, изданная Альдо Мануцием в 1519 году при жизни Леонардо. Эта книга должна быть знакома всем вам, потому что именно из неё я позаимствовал рисунок, украсивший номер La Psychanalyse. Именно Гораполлону принадлежит приведённая здесь фраза: «Нарисованное ухо означает сделанную работу или то, что её нужно сделать».
Но не будем позволять себе увлекаться пагубными привычками эпохи, в которой не всё стоит подражания.
Именно у Гораполлона Фрейд находит связь коршуна с обозначением матери, но здесь же он обнаруживает гораздо более интересное замечание, которое толкает его на диалектический шаг, дело в том, что речь идёт о животном, у которого существует лишь женский пол. Это старая зоологический ошибка, которая, как и многие другие, возникла очень давно; её можно найти в Античности, хотя и не у лучших авторов, но тем не менее она стала общепринятым заблуждением для средневековой культуры. Фрейд допускает, что поскольку Леонардо читал их, он должен был знать эту историю. Такая вероятность есть, в этом нет ничего необычного, поскольку тема была весьма распространённой, но доказательств этому нет. И тем более нет резона это доказывать, если дело не в коршуне.
Я поделюсь с вами тем фактом, что святой Амвросий воспринимает историю о принадлежности коршуна к женскому полу как пример, который природа специально даёт нам, чтобы облегчить понимание концепции непорочного зачатия Иисуса. Фрейд, кажется, признает, что эту легенду можно найти едва ли не у всех отцов Церкви. Должен признаться, что я не проверял, поскольку только сегодня утром узнал, что она есть у святого Амвросия. Но, честно говоря, я уже встречался с ней, поскольку некто Пьеро Валериано, собравший коллекцию этих легендарных свидетельств в 1566 году, показался мне источником, к которому следует обратиться за сведениями о том значении, которым мог обладать в то время ястреб и ряд других символических элементов, а он сообщает, что об этом говорит святой Амвросий. Он упоминает также Василия Великого, но не всех Отцов Церкви, как, видимо, пишет автор, на которого ссылается Фрейд.
Коршун мог быть только женского пола, так же как улитка могла быть только мужского. Это было традиционным представлением, и здесь интересно сопоставить одно с другим, ведь улитка ползает по земле, а коршун, соответственно, парит в небе и, широко раскрывая свой хвост, отдаётся ветру, о чём свидетельствует замечательная картинка.
История о коршуне по-своему интересна, как и множество других историй такого плана, которыми переполнены тексты Леонардо да Винчи, поскольку он очень интересовался разного рода баснями на основе этих историй. Например, в его записях можно прочитать, что ястреб - это очень завистливое животное, которое плохо обращается со своими детьми. Посмотрите, что бы вышло, наткнись Фрейд на другую возможную интерпретацию отношений с матерью.
Пытаюсь ли я показать вам, что всё это пустое, что вся эта часть фрейдовской разработки не содержит ничего ценного? Нет, не по этой причине я вам это рассказал. Я не позволил бы себе пользоваться выгодным положением для критики гениального изобретения задним числом. Как часто происходит с разного рода ошибками, видение гения может руководствоваться интересом гораздо более далёким, нежели его

маленькие исследования, он может покидать твёрдую почву и выходить далеко за пределы досягаемости возможного влияния случайных обстоятельств.
Вопрос в том, чтобы выяснить, что это значит, что это позволяет нам понять.
3
Через шесть лет после публикации Трёх очерков о теории сексуальности и через десять или двенадцать лет после появления первых представлений, которые сформировались у Фрейда о бисексуальности, - к тому, что Фрейд уже прояснил о функции комплекса кастрации, с одной стороны, и о важном значении фаллоса, фаллоса воображаемого, в качестве объекта Penis-neid женщины, с другой, - что нового появляется в эссе о Леонардо да Винчи?
В мае 1910 года Фрейд предельно чётко формулирует значение функции фаллической матери и фаллической женщины. Не для субъекта этой функции, а для ребёнка, который от этого субъекта зависит. Вот грань, которую добавляет нам Фрейд в этом тексте.
То, что ребёнок связан с матерью, которая, с другой стороны, связана с воображаемым измерением фаллоса как нехватки, - вот отношения, которые вводит Фрейд, и это абсолютно отличается от всего того, что он сказал раньше о связи женщины и фаллоса. Эта оригинальная структура является той самой, вокруг которой вращается вся принципиальная критика объектных отношений, предпринятая мной в этом году, поскольку она призвана установить определённые отношения между полами, основанные на символической связи. Я полагаю, что у вас была прекрасная возможность выявить эту структуру в анализе маленького Ганса, где мы обнаруживаем её в мысли Фрейда, и только она одна позволяет получить доступ к тайне позиции Леонардо да Винчи.
Другими словами, факт того, что ребёнок, оказавшийся в замкнутой ситуации дуального противостояния с женщиной, неожиданно сталкивается с проблемой фаллоса, обнаруживает его как нехватку своего женского партнёра, то есть в данном случае материнского партнёра, вот то, вокруг чего вращаются мысли Фрейда по поводу Леонардо да Винчи. Вот то, что придаёт рельеф и оригинальность этому наблюдению, которое, кстати, не случайно оказывается первым текстом, где Фрейд использует термин «нарциссизм». Таким образом, речь идёт о начале структурной проработки регистра воображаемого во фрейдовском творчестве.
Теперь нам нужно на мгновение задержаться на том, что я назову контрастным и парадоксальным характером личности Леонардо да Винчи, и задаться вопросом о другом термине, который Фрейд вводит здесь не впервые, но на этот раз особенно настойчиво его использует - речь идёт о сублимации.
Фрейд время от времени обращает внимание на то, что можно назвать невротическими чертами Леонардо да Винчи. Я имею в виду, что он постоянно старается найти следы какого-нибудь критического отрывка, отношений, проявляющихся в повторении терминов и ошибочных действиях. То парадоксальное, что даёт себя знать в жажде знания Леонардо, в его cupido aciendi, как обычно называли подобное присущее ему любопытство, предстает у Фрейда чертой навязчивости - недаром он называет её навязчивыми раздумьями, Grubelzwang. Нельзя сказать, что здесь нет некоторого намёка. Тем не менее вся личность Леонардо да Винчи не объясняется

только неврозом. И в качестве одного из важнейших способов справиться с последствиями культивируемой и закрепившейся в случае Леонардо да Винчи тенденции Фрейд не без опоры на то, что было им изложено в Трёх очерках по теории сексуальности, вводит понятие сублимации.
Как вы знаете, кроме того, что сублимация представляет собой тенденцию по отношению к объектам, которые являются не объектами примитивными, но объектами по человеческому и общечеловеческому разумению наиболее возвышенными, позже Фрейд сделал к этому несколько дополнений, показав роль, которую может играть сублимация в утверждении интересов собственного Я.
С тех пор термин сублимация был подхвачен рядом авторов психоаналитического сообщества, которые связывают её с понятием нейтрализации и деинстинктуализации инстинкта. Нужно сказать, есть некоторые вещи крайне сложные для понимания, типа делибидинизации либидо или деагрессивации агрессивности. Таковы славные термины, которые постоянно расцветают под пером Хартманна и Лёвенштейна. Всё это вряд ли как-то проясняет механизм сублимации.
Интерес к исследованию, подобному работе Фрейда со случаем Леонардо да Винчи, состоит в том, чтобы усвоить некоторые идеи, по меньшей мере запустить процесс мышления, который может позволить нам найти для термина сублимации более надёжную, более структурированную базу, нежели понятие деинстинктуализирующегося инстинкта или же объекта, который становится, как говорится, более возвышенным (sublime) - поскольку похоже, что наши эго-психологи считают, что именно это должно быть stuff сублимации.
Леонардо да Винчи сам был объектом идеализации, если не сублимации, которая началась ещё при жизни и возвела его в статус универсального гения и к тому же поразительного провозвестника современной мысли. Так же, как и Фрейд, это утверждают одни, в том числе наиболее эрудированные специалисты, которые начали разбираться в проблеме. Другие говорят то же самое о достижениях Леонардо в других областях, помимо искусства. Дюгем считал, что Леонардо да Винчи предвидел открытие закона падения тел, даже принципа инерции. Более строгая проверка с точки зрения истории науки показывает, что это не так. Ясно, разумеется, что Леонардо да Винчи сделал поразительные открытия, и наброски чертежей, которые он нам оставил в области кинематики, механики, баллистики часто обнаруживают чрезвычайно обоснованные, намного опередившие его время представления, но это вовсе не даёт основания полагать, будто во всех этих областях не было до него работ, уже тогда использовавших достаточно сложный математический аппарат, особенно в части, например, кинематики.
Тем не менее пережиток аристотелевской традиции, то есть традиции, основанной на определённых экспериментальных подтверждениях, повлиял на то, что не произошло никакого сопряжения этой традиции с той достаточно продвинутой математической формализацией, которая применялась для любых абстрактных кинематических расчётов, то есть не произошло сопряжения математической формализации с областью опыта реальных и существующих тел, подчиняющихся, на первый взгляд, закону тяжести - закону, чья кажущаяся экспериментальная очевидность столь овладела умами, что, как вы знаете, ушло очень много времени на то, чтобы удалось его правильно сформулировать. Подумайте, например, о таком замечании, которое мы находим у Леонардо да Винчи в его рисунках и сопутствующих им

комментариях: «Более тяжёлое тело падает с большей скоростью». Это не только высказано им эксплицитно, но и подразумевается в его работах. Полагаю, что вы помните школьную программу по физике достаточно хорошо, чтобы понимать глубокую ошибочность такой теоремы, хотя так называемый опыт, опыт, основанный на массе повседневных явлений, её, казалось бы, подтверждает.
И всё же, что определяет оригинальность этих рисунков? Если мы обратимся к тому, что он нам оставил, например, к рисункам в столь удивительной инженерной работе, которая заворожила как его современников, так и последующие поколения, мы обнаружим в ней множество очень необычных вещей, опередивших время, но не способных перейти за некоторые ещё не преодолённые границы в части практического использования и в части, если можно так выразиться, живого применения математики для анализа феноменов реального.
Другими словами, он демонстрирует нам абсолютно восхитительную изобретательность, созидательность, творчество. Достаточно взглянуть, например, с какой элегантностью он формулирует теорему, которая может послужить базой для оценки прогрессирующего изменения силы, воздействующей на тело при повороте, то есть на тело, вращающееся вокруг оси. Эта сила воздействует на руку, и рука поворачивается. Как будет меняться воздействие этой силы по мере поворота рычага? Вот проблемы, для решения которых Леонардо де Винчи применяет то, что я назвал бы визуальным представлением о силовом поле, которое определяется не столько его расчётами, сколько его рисунками. Короче говоря, интуитивный элемент, элемент творческого воображения, связан у него с определённым приоритетом принципа экспериментального подтверждения и является источником всевозможных блестящих, но всё-таки частичных догадок, которые остались на уровне инженерных эскизов.
Это не пустяки. Важная черта, отличающая чертёж от инженерного эскиза, говорит нам историк науки Койре, состоит в том, что инженерный эскиз, если и может отобразить разного рода интуитивные элементы, некоторое качества или свойства, воображаемые или реализуемые в единой композиции устройства, не способен решить определённых проблем на более высоких, исконно символических, уровнях. И в конечном счёте мы видим у Леонардо да Винчи недостаточно обоснованную, даже ошибочную теорию наклонной плоскости, которая получит своё решение только с Галилеем или, говоря вновь на языке Койре, с той революцией, которую представляет собой математизация реального, тот факт, что исследовали решаются радикально очистить метод, то есть поверить опыт математическими терминами и в постановке проблемы смело исходить из заведомо невозможного.
Поймите, для того чтобы формализовать гипотезу, необходимо сначала избавиться от любого рода интуитивных притязаний на постижение реального, отказаться, например, от такой очевидной закономерности, что более тяжёлые тела падают быстрее. Только так можно найти другую отправную точку и оттолкнуться от верного предположения о гравитации, то есть исходить из формулы, условиям которой опыт никогда удовлетворить не может, поскольку у нас никогда не бывает условий для чистого эксперимента, чтобы реализовать её.
Именно в силу того, что мы отправляемся от чистой символической формализации, становится возможным корректное осмысление опыта и математический аппарат находит своё применение в физике. Спустя века предпринятых в этом направлении усилий можно сказать, что мы не преуспели до тех пор, пока не решили начать с

разграничения символического и реального - разграничения, которого поколения исследователей, следуя логике своих экспериментов, проб и ошибок, за которыми мы следим теперь со столь захватывающим интересом, не умели осуществить. В этом прослеживании весь интерес истории науки и заключается. До тех пор мы оставались в этой промежуточности, в этой неполноте, в частичном, образном, ошеломляющем, блестящем, в том, что побудило самого Леонардо сказать - вот к чему я веду, - что в целом его позиция сводилась к подчинению природе.
Понятие природы играет важнейшую роль в произведениях Леонардо да Винчи. Природа всегда являлась для него инстанцией, чьё присутствие необходимо постигать постоянно. Это абсолютно изначальный элемент. Природа - это другой, которому мы противостоим, чьи знаки мы призваны расшифровывать, сделав его своим двойником и, если можно так выразиться, со-творцом. Все эти термины вы можете найти в записях Леонардо да Винчи.
В этой перспективе он обращается к природе, и дело доходит до воображаемого недоразумения, до путаницы между другим и тем радикальным Другим, с которым мы имеем дело и которого я научил вас рассматривать как место бессознательного. О каком другом идёт речь?
В связи с этим очень важно отметить, как сильно Леонардо да Винчи настаивает на том, что у природы нет голоса; он доказывает это так занимательно и забавно, что стоит отметить его навязчивое упорство в попытке продемонстрировать, что не может быть никого, кто бы мог ответить ему, того, в кого, однако, все верят, духа, чей голос словно бы разлит в воздухе. Он настаивает на этом, он часто к этому возвращается, и были на самом деле люди, которых его утверждения возмущали.
И всё же Леонардо да Винчи обращается к природе как к другому, который, не будучи субъектом, в то же время имеет свои разумные основания, которые можно прочесть. Я говорю так, потому что он так и пишет: «Природа полна бесконечных разумных оснований, которых в опыте никогда не найти».
Парадокс этой формулы, если мы, как это часто происходит, сделаем из Леонардо да Винчи провозвестника современного эскпериментализма, состоит в том, что она показывает дистанцию, которая отделяет нас от него, и демонстрирует, насколько трудно нам задним числом, когда способ мышления уже стал иным, понять, чем занята была мысль того, кто считается её, этой мысли, предшественником.
Позиция Леонардо да Винчи по отношению к природе - это позиция отношения к другому, который не является субъектом, но обладает историей, признаками, артикуляцией, речью, которые следует изучать, постигая его творческую мощь. Короче говоря, этот другой трансформирует радикальный характер инаковости абсолютного Другого в нечто доступное нам посредством определённого рода воображаемой идентификации.
Я хотел бы, чтобы вы имели в виду этого другого, рассматривая картину, на которую ссылается Фрейд, обращая внимание на загадку спутанных, слабо отличимых друг от друга тел Святой Анны и Мадонны.
И действительно, повернув зеркально рисунок, вы получите картину из Лувра и заметите, что ноги Святой Анны находятся там, где прежде располагались вполне естественным образом и приблизительно в том же положении ноги Мадонны, а там, где сейчас находятся ноги Мадонны, были прежде ноги Святой Анны.

Не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело с неким двойственным существом, в котором выделяются, одна позади другой, две фигуры. Не менее поразительно при этом то, что ребёнок на лондонской картине находится на продолжении материнской руки, словно марионетка, движимая рукой того, кто ей управляет. Обратите также внимание, что другая женщина, непонятно, впрочем, которая, поднимает рядом с ребёнком указательный палец жестом, который делают и другие персонажи картин Леонардо да Винчи - Святой Иоанн Креститель, Вакх, ангел «Мадонны в скалах». Этот указующий перст также является одной из его загадок. Всё это очень хорошо выражает двусмысленность матери реальной и матери воображаемой, реального ребёнка и сокрытого фаллоса. И если я придаю пальцу значение фаллического символа, то не по причине грубого соответствия форм, но потому, что этот палец, изображённый у Леонардо да Винчи повсюду, есть указание на нехватку-бытия, которое мы встречаем во всём его творчестве.
Речь идёт об определённой позиции, занимаемой субъектом по отношению к проблематике Другого, который представляет собой либо абсолютного Другого, это замкнутое (fermé) бессознательное, эту непроницаемую женщину, либо стоящую за ней фигуру последнего абсолютного Другого, смерти. То, как опыт находит с этим последним термином человеческих отношений общий язык, то, как он вводит в отношения с ним путём воображаемых обменов целую жизнь, то, как он смещает радикальные и предельные отношения с по сути своей иным, населяя их всевозможными миражами, -всё это и есть сублимация. В произведениях Леонардо его гений и его творчество дают этому постоянный пример.
Полагаю, это же изображено на рисунке, своеобразной криптограмме, рисунке, который является не оригиналом, но дубликатом другого рисунка, сделанного для картины, так и не написанной Леонардо да Винчи для церкви Сервитов. На нём запечатлены Святая Анна, Мадонна, Дитя и четвёртая фигура, которую мы обсуждали, а именно Святой Иоанн Креститель в виде ягнёнка.
Совершенно очевидно, что мы должны обнаружить в четвёртом термине этой четырехсторонней композиции - как это происходит, о чём я говорил каждый раз, когда отношения четырех терминов получают своё воплощение, - мотив смерти. Где он? На самом деле он везде, он курсирует от одного к другому.
Именно смерть умерщвляет сексуальность Леонардо да Винчи, это его основная проблема, вокруг которой Фрейд разворачивает своё исследование. В жизни Леонардо да Винчи мы нигде не находим подтверждения настоящей связи, настоящего притяжения, отличного от двусмысленного и мимолётного увлечения.
Но в конечном счёте не этим впечатляет его история, а скорее мечтой об отцовстве. Он покровительствовал юношам, которые в большом количестве появлялись в его жизни в качестве изысканных декораций, однако его отношение не было отмечено какой-то значительной к ним привязанностью, - и если уж кого-то и можно классифицировать как гомосексуалиста, то скорее таковым был Микеланджело.
Не смерть ли является ему в виде этого двойника, именно того, что стоит перед ним и с такой лёгкостью подменяется ягнёнком?
8 августа 1501 года Пьеро Новеллара написал Изабелле д’Эсте, что вся Флоренция в течение двух дней прошла перед этим эскизом для главного алтаря Аннунциата во Флоренции, работу над которым Леонардо так никогда и не выполнит. И каждый склонился над квартетом этой сцены, где мы видим, как мать придерживает ребёнка в

момент, когда он собирается оседлать ягнёнка, и задаёмся вопросом о смысле этого сюжета. Все понимают, что это символ его драмы, его страсти, его будущей судьбы, однако Святая Анна, властвующая над всем, останавливает мать, чтобы она не препятствовала его судьбе и его жертве. И именно в сюжете отделения от матери Фрейд видит отправную точку всей драмы в жизни Леонардо да Винчи.
Последний персонаж, наиболее загадочный из всех, - это Святая Анна, восстановленный и утверждённый в чисто женских, материнских отношениях Другой, Другой с большой буквы, необходимый для того, чтобы придать сцене нужное равновесие.
Вопреки тому, что говорит Месье Крис, Святая Анна очень далека от того, чтобы быть выдумкой Леонардо. Даже Фрейд ни на одно мгновение не допускал, что сюжет Святой Анны, Мадонны, Младенца и четвёртого персонажа, который в нём появляется, сконструирован исключительно самим Леонардо да Винчи.
Если четвертый персонаж и привносит в историю религиозных мотивовдовольно специфичную проблему Леонардо да Винчи, то о совместном изображении Святой Анны, Мадонны и Младенца этого сказать нельзя. Достаточно иметь малейшее представление о том, что происходило в то время, достаточно чуть-чуть почитать не важно какую историческую литературу, чтобы узнать, что именно в этот период, между 1485 и 1510 годами, почитание Святой Анны достигло в Христианстве высшей степени и было связано с догматическими положениями о Непорочном Зачатии Богородицы. Здесь нужно иметь в виду вопрос духовности и ещё одной вещи, помимо духовности, поскольку это было время кампании индульгенций, когда Германию заполонили разного рода маленькие листовки с изображением Святой Анны, Мадонны и Ребёнка, приобретением которых можно было обеспечить себе десять и даже двадцать тысяч лет прощения в мире ином. Таким образом, не Леонардо изобретает этот сюжет, и неправда, что Фрейд приписал ему это изобретение. Есть только Месье Крис, который утверждает, что Леонардо да Винчи единственный, кто представляет подобное трио, притом что будет достаточно просто открыть Фрейда, чтобы увидеть сюжет этой картины под названием Anna Selbdritt, то есть Анна-втроём, по-итальянски, Anna Metterza.
Троица Анны возникает, несомненно, в критический момент, и дело не в том, чтобы переосмыслить его значение, поскольку у нас нет возможности слишком вдаваться в область исторического исследования христианской веры. Скажем только, что мы встречаем в истории устойчивый мотив такой троицы, получивший полное своё развитие, найдя у Леонардо да Винчи своё полное психологическое воплощение.
Что я хочу этим сказать? Безусловно, Леонардо был человеком, оказавшимся в процессе полового созревания в далеко не типичной позиции, контрастирующей и несимметричной другой его стороне - сублимации, достигшей у него чрезвычайной степени активности и реализации. Конечно, в работе над своим творением, которую он с настоящей одержимостью сотню раз начинал заново, ничто не могло обрести структуру без воспроизведения этих отношений собственного Я с маленьким другим и без необходимости в большом Другом. То и другое вписано в схему, к которой я вас попрошу обратиться, чтобы в отношении этих проблем наглядно сориентироваться.

| Agneau ч |
|---|
 |
| (Messie) |
Mère phallique
d’inversion
Anna Selbdritt
L’inversion de Léonard
Что мы можем понять по поводу атипичности, получившей своё воплощение в таком необычайно драматичном способе включения субъекта в воображаемое? Что вдохновение для своих основных творений он черпает в этой тринитарной сцене, обнаруженной нами в конце случая маленького Ганса, - это одно. Но разве не проливает это свет в то же время на соответствующее нарушение в собственной позиции субъекта? Я хочу сказать, на его инверсию.
Инверсия Леонардо да Винчи, если мы можем говорить о его инверсии, далека от того, чтобы мы могли свести её лишь к парадоксу или даже аномалии в области его аффективных отношений. В любом случае этот регистр выглядит для нас отмеченным особого рода заторможенностью, исключительной для столь всесторонне одарённого человека, как он.
Возможно, уже слишком много сказано на тему отсутствия в творчестве Леонардо да Винчи эротического мотива. Это, возможно, слишком далеко идущее мнение. Ведь известно, что во время Фрейда не была ещё открыта тема Леды, прекрасной женщины и лебедя, который почти сливается с ней в волнообразном движении, не менее изящном, чем её формы. Довольно удивительно, что в этом воображаемом фантазме птица представляет мужской персонаж. Но оставим это.
Если мы имеем дело с материалом, который предоставляет нам опыт Леонардо, мы не можем исключить из него один элемент. Это его рукописи.
Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь листать издание копий. Когда видишь записи человека, писавшего через зеркало, сразу же возникает определённый эффект. Потом вы читаете и понимаете, что человек этот постоянно разговаривает сам с собой, обращаясь к себе самому на ты: «Ты сделаешь это, ты узнаешь у Жана да Пари секрет сухой краски, ты отыщешь две щепотки лаванды или розмарина в магазине на углу». Всё перемешано, как тут самому не оказаться в замешательстве?
Прямо говоря, отношения отождествления собственного Я с маленьким другим, установленные в данном случае, представляются мне принципиально важными для понимания того, как образуются идентификации, исходя из которых развивается собственное Я субъекта. Так, похоже, что мы приходим к мысли, что параллельно любой сублимации - то есть процессу десубъективации или натурализации Другого, в котором заключается её суть, - происходит на уровне воображаемого в более или менее выраженной форме, в зависимости от того, насколько эта сублимация является совершенной, инверсия отношений собственного Я и маленького другого.
Тогда мы действительно получаем того, кто, как в случае Леонардо да Винчи, обращается к себе и даёт себе распоряжения от имени своего воображаемого другого. Его способ письма через зеркало прямо и непосредственно связан с его собственной позицией, занятой по отношению к себе самому. Перед нами то же радикальное

отчуждение, что и то, о котором я говорил в связи с амнезией маленького Ганса, подводя итог нашей предыдущей встречи.
Это было вопросом, который я тогда поставил. И сегодня я тоже остановлюсь на одном вопросе. Вопрос этот заключается в следующем: не предполагает ли то, что мы называем сублимацией, или психологизацией, или отчуждением, или Я-изацией (токайоп) (себяизацией) самой направленностью своей соответствующее этому
явлению измерение - измерение, посредством которого субъект забывает себя самого, выступая в качестве воображаемого объекта другого.
Существу действительно дана фундаментальная возможность - возможность забвения в своём собственном воображаемом Я.
3 июля 1957

Представление Семинара IV. Ж.-А. Миллер
перевод Мощенко С.
редакция и коррекция Кольцова И., Золотарёв В.
Под редакцией Жака-Алена Миллера вышел в свет Семинар IV Лакана «Объектные отношения». По этому случаю и для того, чтобы представить этот текст, мы публикуем обширную выдержку из лекции под названием «Введение в логику лечения маленького Ганса согласно Лакану». Эта лекция прозвучала на открытии второго ежегодного конгресса EOL в Буэнос-Айресе и была целиком оформлена и опубликована на испанском языке в собрании Orientación Lacaniana под названием «La lógica de la cura». То, что вы найдёте на этих страницах, является переведённой выдержкой, несколько адаптированной для изложения в письменном виде Пьером-Жилем Геганом с разрешения Жака-Алена Миллера, который, тем не менее, текст не перечитал. Он будет предложен читателям La lettre mensuelle в двух выпусках (в этом номере и в следующем). Отметим, что он замечательным образом перекликается с частью его курса этого года под названием «Donc», которую автор посвятил Семинару «Объектные отношения».
Часть I
Центральной фигурой Семинара IV Лакана является мать. Вопреки предубеждению в том, что Лакан ничего не говорит о матери, ограничивающему лакановское учение лишь обращением к функции отца, Семинар IV от начала и до конца посвящён теории матери. Если бы мне потребовалось обозначить связующую нить, соединяющую все выбранные Лаканом примеры, я бы сказал, что речь идёт об ужасающих для каждого субъекта клинических последствиях женской сексуальности, поскольку у каждого субъекта есть мать. В центре Семинара располагается то, что Лакан назвал DM, -Желание Матери. Как я часто подчёркиваю, это желание матери не является тем, что мы узнаем в Образованиях бессознательного, которые Лакан разработал только в следующем году; речь не идёт о желании, коррелирующем с требованием, которое сущностно связано c разрывом между означающим и означаемым (именно в Семинаре IV у Лакана появляется термин «требование», когда он говорит, что в английском языке потребность обозначается как demand и подразумевает в том числе аппетит). Желание в «Образованиях бессознательного» представляет собой ту самую часть, которая всегда подлежит интерпретации таким образом, что Лакан подводит итог: «Желание является своей собственной интерпретацией». Это не желание матери. DM представляет собой другую вещь: желание матери отсылает к матери как женщине.
Это означает, что оно связано с женской кастрацией или с матерью как с субъектом, коррелирующим с нехваткой, являющейся не нехваткой бытия, но нехваткой объекта. Что формирует первую часть семинара, которую я озаглавил «Теория нехватки объекта». В этом пункте Лакан противостоит ансамблю теоретиков объектных отношений.

В своей разработке он исходит из различных модальностей этой нехватки: кастрации, фрустрации, лишения. Мне кажется, что устройство этой таблицы достаточно на слуху, но чему она в этом семинаре служит? Она нужна для разворачивания тезиса, согласно которому отношения женщины с её нехваткой являются для субъекта фундаментальными. Возможно, что формулой

можно записать отношения субъекта женского пола с нехваткой, и не абы какой, но нехваткой, которая обозначена как - ф. Вот вопрос, над которым Лакан работает в этом Семинаре, фундаментальный для детского психоанализа вопрос: каким образом ребёнок вписывается в эти отношения? Таким образом, мы можем описать юного субъекта как артикулированного в записи субъекта женского пола и его нехватки

По этой причине основополагающая теоретическая разработка первой части Семинара посвящена фрустрации. Разумеется, речь идёт о фрустрации ребёнка по отношению к матери. На самом деле на этих страницах Лакан даёт новую интерпретацию Fort-Da. Поскольку Fort-Da он использует в Семинаре II, чтобы проиллюстрировать повторение, и к нему же обращается в Семинаре IV, чтобы показать, что за повторением стоит фрустрация субъекта, но также и то, что по ту сторону фрустрации юного субъекта стоит фрустрация матери как женщины. Это проходит через весь семинар.
Мы научились распознавать особый лик женской сексуальности, дополнительный лик прибавочного наслаждения. Но в Семинаре IV мы имеем дело с другой стороной, то есть - согласно Лакану - с конститутивной неудовлетворённостью субъекта женского пола. В этом свете центральной главой Семинара предстаёт 11-ая глава, названная мной Фаллос и ненасытная мать. Лакановская мать отвечает формуле quaerens quem devoret, она ищет, кого поглотити (позже Лакан снова обращается к этой теме, представляя мать как крокодила, в разверстой пасти которого оказывается субъект). Таким образом, в устройстве таблицы и её перестановок присутствует центральный глубинный элемент поглощения - оральные отношения с матерью, как поглощение матери и поглощение матерью.
Так во всём, что относится к комплексу лошади (или скорее комплексу лошадей, как говорит Фрейд), укус становится элементом, который, Лакан удостаивает в итоге матемы, обозначая буквой m. Этот элемент также присутствует во всём пассаже о лошадином копыте. Настолько, что для него детский вопрос в том виде, в котором он его располагает (и здесь мы приближаемся к возможности говорить о «детском вопросе» так же, как говорим о вопросе истерика или вопросе навязчивого), является стремлением узнать, как утолить желание матери в отношениях с её нехваткой.
В Семинаре Лакан обращает внимание на множественные преобразования и перестановки означающих элементов. В числе этих преобразований есть одно, которое выглядит для меня центральным, проясняющим, где в разговоре о материнском укусе

определяющую роль играет демонтаж ванны. Для Лакана демонтаж ванны, который осуществляется в суматохе, является в некотором роде тем, что воплощает переход от воображаемого к символическому. Как он сам об этом говорит: «Не одно и то же - кусать мать и бояться укуса, воплощением чему служит лошадь, или демонтировать мать таким образом, чтобы заставить её войти в систему как подвижный и эквивалентный другим элемент».
Об этом можно сказать, что наиболее продвинутый пункт, достигнутый Гансом, - и следует принять формулу такой, какая она есть, - это пункт преобразования укуса в отвинчивание ванны. Это означает, что приходящая и уходящая мать в её непроницаемом, угрожающем могуществе, которое заполняет весь дом (с чем и связан страх маленького Ганса), путём отвинчивания превращается в отдельное устройство, уже являющееся не целым домом, но этой ванной, которая даёт место ему, Гансу. Он замечает, что в действительности в этом месте, в ванной, отвечающей его чаяниям, его задница может точно устроиться.
Таким образом, Семинар IV - это Семинар о женской сексуальности. Когда я приступил к работе с ним, я понял, что принципиально важным для детского психоанализа вопросом является вопрос женской сексуальности. Речь идёт не о женщине в её отношениях с наслаждением, речь идёт о женщине в её отношениях с фаллосом, то есть с фаллическим означающим, которое наделяет её существо нехваткой. И при этом, безусловно, присутствуют отношения между этой фаллической нехваткой и дополнительностью наслаждения, место которого Лакан определит спустя много лет.
Этот семинар также и о ребёнке, в силу того, что ребёнок является разрешением женской нехватки. В этом пункте Лакан, конечно, обращается к равнозначности, к уравнению, к Gleichung, сформулированному Фрейдом: ребёнок = фаллос. Это не что иное, как замещение. Сам Фрейд вводит ребёнка только как неудовлетворительную замену. Так мы можем записать, помимо отцовской метафоры, женский вариант детской метафоры, которая будет другой формой фрейдовского уравнения E / -ф и которая находится в соответствии со статусом ребёнка как объекта а, разработанного Лаканом гораздо позже. Тогда возникающий вопрос состоит в том, чтобы узнать, как ребёнок открывает, что он не способен заткнуть собой дыру, как он открывает, что партнёром матери как женщины является её нехватка, имеется в виду нехватка фаллоса. Именно это направляет исследование Лакана. Он в деталях задаётся вопросом, каким образом ребёнок открывает отношения матери с фаллосом и обнаруживает свою собственную нехватку. А также существует ли первичная, взаимная любовь («primary love»).

Часть II
Эта статья является продолжением лекции, прочитанной Жаком-Алленом Миллером в Буэнос-Айресе, первая часть которой была опубликована в La lettre mensuelle n 128.
Текст не был прочитан автором.
Параллельно со случаем маленького Ганса Лакан приводит случай фобии маленькой англичанки, фобии, которая развязывается, когда мать показывает себя ослабшей в своём могуществе, где он заключает, что движущей силой стало проявление материнской нехватки. То же самое справедливо и для выбора случая юной гомосексуальной пациентки: когда она оказывается перед фактом получения матерью её воображаемого ребёнка от отца (которого она в свою очередь воплотила под видом соседского ребёнка, которым она занимается), происходит клиническая перемена, проясняющая фрейдовское равенство ребёнка и фаллоса.
Это равенство также подтверждается в главах, которые Лакан посвящает перверсии, перверсивным путям и объекту-фетишу, то есть клинике, где обнаруживает себя субъект, идентифицирующий себя с фаллосом матери или идентифицирующий себя с матерью в регистре воображаемого. Здесь Лакан представляет фетишизм как возможное решение для ребёнка, который открывает для себя отношения матери с нехваткой. По этой причине он подчёркивает превалирование воображаемого в перверсиях, в этом пункте я позволил себе (в последней главе) подчеркнуть формулу, аналогичную формуле Джойс-фантом: Ганс-фетиш. Ганс-фетиш, но не Ганс-фетишист, - ровно напротив, и Лакан чётко это определяет. Есть целая часть маленького Ганса, которая связывается с панталонами матери. Лакан показывает, что они имеют значение в зависимости от означающей оппозиции, что они отличаются по тому, надеты ли они на матери или существуют сами по себе и тогда маленький Ганс их отбрасывает. Лакан по этому поводу замечает, что здесь фундаментальная ориентация ребёнка уже представлена: он не станет фетишистом или во всяком случае он будет нормальным фетишистом, то есть для него фаллос будет вписан в уравнение girl = phallus из статьи Фенихеля, которую Лакан цитирует. Точное название, которое я дал главе о Гансе-фетише: От Ганса-фетиша к Леонардо в зеркале. Лакан действительно заканчивает семинар случаем Леонардо. Он оставляет подвешенным вопрос сексуальной инверсии Леонардо да Винчи и использует этот термин, чтобы выделить превалирующий для Леонардо характер воображаемых отношений.
На самом деле Леонардо имел обыкновение обращаться к себе самому, говоря ты, и даже писал целые страницы, разговаривая с самим собой как с ты. Лакан обнаруживает тот факт, что он делал всё исходя из Природы не большого Другого, но другого маленького и симметричного; таким образом он располагает Леонардо в своей схеме Z.
Как раз в случае Леонардо, согласно Фрейду, мы встречаем фигуру удвоенной матери, Девы Марии и Святой Анны, и эта удвоенная мать соотносится с удвоенной

матерью маленького Ганса. Именно так Лакан определяет перекос отцовской метафоры у Ганса, который вместо того, чтобы в полной мере принять Имя Отца, удваивает мать, добавляя к своей матери мать отца, бабушку, которая обладает властью (Лакан обозначает её ММ’), ту, которой каждое воскресенье отец и маленький Ганс наносят визит; Лакан указывает на признак силы, власть этой дамы.
В этот же ряд мы можем поставить удвоенную мать Андре Жида, которую Лакан распознаёт в фигурах его биологической матери и его тёти. Таким образом, получается тройка Ганс-Леонардо-Андре Жид; это в дополнение к тому, что я, не имея достаточно времени, сказал на своём семинаре о Жиде. И, скажем так, эта удвоенная мать представляет собой перекошенную формулу отцовской метафоры, которая пригождается, когда форклюзии Имени Отца как таковой не происходит, но выглядит так, что передача Имени Отца проходит не через отца реального, в том смысле, в котором Лакан в тот период использует термин Реальное.
Я должен сказать, и это меня удивляет, что прошли годы с тех пор, как был признан клинический вклад Лакана, касающийся Другой женщины в истерии, тогда как никто до сего дня не придаёт значения удвоенной матери, функции удвоенной матери. Эта удвоенная мать не соотносится с бредом ребёнка, но представляет собой изобретение, которое позволяет ему обрести женское ответвление Имени Отца. Разумеется, в каждом случае последствия будут разными, но таким образом мы можем уловить, что Лакан не колеблется в том, чтобы обозначить несостоятельность реального отца. На самом деле в случае маленького Ганса есть постоянное обращение к Имени Отца, постоянное обращение к ужасающему отцу вместо того слишком мягкого отца, который, как только что-то от него услышит, тотчас передаёт это профессору Фрейду.
В случае Жида мы также видим, что отец присутствует, но это игрушечный отец, в то время как именно мать поддерживает императивы закона и власть символического. Безусловно, последствия отличаются: Ганс будет любить женщин, а Андре Жид -юношей. Однако Лакан не настаивает на их различении на основании пола объекта выбора. Напротив, гетеросексуальность маленького Ганса не мешает ему на фундаментальном уровне занимать женскую позицию до такой степени, что Лакан представляет его как дочь двух матерей. Что касается Жида, то он показывает, что тот способен наслаждаться своим пенисом, как женщина, переполненная наслаждением.
Таким образом, мы можем сказать, что встречаем удвоенную мать каждый раз, когда отцовская метафора реализуется с женскими элементами, включёнными в историю субъекта.
Маленький Ганс, согласно Лакану, не покинул пространство материнской империи, это означает, что сын, который сопровождает исследование «Объектных отношений», является сыном материнского могущества, охарактеризованного как-то раз Лаканом как могущество господина, господина-матери. Оно-то и остаётся в его теории в выражении «реальная мать», то есть мать не только ненасытная, но и могущественная, и именно это делает фигуру лакановской матери ужасающей.
В этой фигуре отчётливо угадываются очертания кляйнианской фигуры матери, и в определённом смысле в Семинаре IV мы находим переработку Лаканом доктрины

Мелани Кляйн. Мы не очень хорошо её распознаём, потому что читаем о ней в Ecrit в форме изложения диалектики требования-желания. Но в Семинаре IV мы убеждаемся в усилиях, направленных на согласование с теорией Кляйн, которые лучшим образом дают о себе знать в том маленьком пассаже, где Лакан склоняется к сопоставлению своей стадии зеркала с депрессивной позицией. Это почти что забавно, поскольку лакановский ребёнок у зеркала совершенно противоположен кляйнианскому ребёнку. Кляйнианский ребёнок депрессивен, тогда как фундаментальный опыт лакановского ребёнка - это ликование, триумф от того, что он испытывает в проживании полноты своего образа, и от доминирующей позиции этого образа. Сначала непонятно, каким образом пожирающая мать может иметь ребёнка-триумфатора, поэтому Лакан объясняет, что ликующий ребёнок действительно встречает свой целостный образ в зеркале, но, с другой стороны, когда он встречает этот образ в форме материнского тела, то он заключает, что этот образ ему не подчиняется, и материнское могущество возвращается к нему в форме депрессивной позиции. Коротко говоря, субъект может испытать чувство триумфа в отношениях с тем, что является его собственным образом, но для того, чем он является в отношениях с образом матери, он остаётся фундаментально депрессивным.
Маленького Ганса скорее следует расположить на стороне лакановского ребёнка, где ему по большей части удаётся защититься, но, конечно, этот ребёнок находится под угрозой, воплощаемой лошадью. В силу чего можно сказать, что у Лакана здесь случается кляйнианская коррекция стадии зеркала. Но я не думаю, что сегодня это имеет большое значение.

Итак. Логика лечения. Ж.-А. Миллер
(неопубликованный курс, 1993-1994)
Встречи 1Х-Х111 (комментарий Семинара IV)
перевод Мощенко С.
редакция и коррекция Кольцова И., Золотарёв В.

встреча IX
Что ж, Семинар IV вышел в свет. Теперь и вы можете его прочитать - прочитать, как я его прочитал. Конечно, многие из вас его уже прочли, поскольку записи циркулируют. Но теперь вы можете прочитать его иначе. Что на самом деле добавляет редакторская работа? Она привносит исправления, но это не главное. По части исправлений всегда есть что доделать. Перечитывая заново, я постоянно нахожу что-то ещё. Так что это не заканчивается. Я полагаю, что главное - это как раз пунктуация, пунктуация, которую Лакан упоминает на странице 313 Écrits.
В третьей части Римской речи, посвящённой взаимосвязи интерпретации и времени, Лакан делает пунктуацию главенствующим концептом интерпретации. Я зачитаю вам этот короткий отрывок:
Хорошо известно, что в практике создания текстов символических писаний, будь то Библия или китайские канонические книги, отсутствие пунктуации является источником двусмысленности, расставленная пунктуация фиксирует смысл, тогда как её изменение этот смысл обновляет или меняет на противоположный, ошибка в пунктуации эквивалентна искажению смысла.
Скажем так, то, что может повлиять на разницу между вашим чтением до и после редакции Семинара, - это именно сделанный мной выбор по части пунктуации, пунктуации в тексте Семинара, разделения его на части и именования того, что стало главами. Пунктуация внедряется также и в главы, разделяя каждую на три части. Далее пунктуация переходит на уровень параграфов, поскольку, вообще говоря, в стенограмме параграфов нет, хотя, конечно, паузы и отмечены. Наконец, пунктуация доходит до уровня предложения, поскольку и предложений в стенограмме нет - там нет специально выстроенных предложений. Так вот, я бы не хотел перечислять все эти выборы. Возможно, их и можно посчитать, я не знаю, но их слишком много.
Функция времени здесь представлена как непричастная аналитической интерпретации. Лакан подчёркивает функцию пунктуации, обосновывая переменную длительность сеанса, стараясь также показать, что аналитик не может оставаться безучастным к моменту прекращения сеанса, поскольку если это так или если применяется стандартное хронологическое правило, то он наиболее надёжным образом лишает себя возможности на интерпретацию. Он не распознаёт структуру логического времени. Он неудачно вмешивается в то, что Лакан называет моментами поспешности (moments de hâte) субъекта, то есть, прямо говоря, он может тем самым убить истолкование (conclusion). Именно здесь Лакан применяет слово истолкование -истолкование, в направлении которого устремляется субъект. Есть риск в конце сеанса зафиксировать заблуждение или создать повод для ответной уловки, что не предполагает редакторской работы, так как функция времени проникает в это

измерение прежде всего как то время, которое необходимо, чтобы именно её и совершить. Эта тема питает почву множества претензий, но, в конце концов, прошло уже достаточно времени, чтобы мы смогли констатировать, что таким образом я никак не отвлекаюсь от моего собственного ритма во мне.
Определённо, и расстановка пунктуации может привести к заблуждению. Вот почему есть насущная необходимость иметь одну идею, которая приводит в движение все Семинары. Речь идёт именно о том, чтобы уловить в каком направлении они устремлены, чтобы появилась возможность привнести минимум пунктуации. Таким образом, правило расстановки пунктуации прекрасно задаётся ретроактивной моделью, представленной Лаканом. На самом деле, именно отталкиваясь от истолкования (conclusion), к которому устремлён дискурс, может быть зафиксирована очерёдность элементов фразы, и главы, и всего текста.
схема 1
В то же время эта схема хорошо применима для чтения, которым мы сейчас занимаемся, то есть мы не можем не читать этот Семинар - который, будучи актуальным сегодня, был прочитан давным-давно - по причине того, что мы знакомы с более поздним учением Лакана. Сегодня я хотел бы заняться именно таким упражнением, используя эту актуальность, чтобы включить теперь данный Семинар в этот курс. Такой обычай я завёл, начиная с выпуска одного Семинара, которому в своё время я посвятил одну или две встречи. Сейчас это тем более обосновано тем фактом, что вторая половина текста представляет собой комментарий к наблюдению случая маленького Ганса Фрейда.
То, чем наполняется это наблюдение, то, что наблюдается - и я сохранил в названии этой части термин наблюдения, используемый Лаканом и Фрейдом, - это появление, установление и исчезновение фобии в чётко определённый период с января по начало мая 1908 года. За этот срок фобия исчезла и похоже на то, что юный субъект нашёл некоторый баланс, смог, попросту говоря, жить без особых мучений, без той страстной интеллектуальной деятельности, которую мы могли отследить в кругу внешней для него среды, что даёт право сказать, что в этом случае было найдено чёткое лечебное решение (nette résolution curative), применяя здесь выражение Лакана, которое он использовал в кратком резюме этого случая в Инстанции буквы, которое вы найдёте на страницах Ecrits и которое прозвучало на лекции того же года. Исходя из того, что имело место очевидное терапевтическое лечебное решение, наблюдение случая маленького Ганса можно представить в качестве парадигмы аналитического лечения. В любом случае к этому есть предпосылки ввиду того измерения полноты, которое оно демонстрирует. Тем не менее я позаботился о том, чтобы сохранить термин наблюдение, поскольку вопрос ставится таким образом, чтобы понять, было ли это лечением. В целом мне показалось чрезмерным и рискованным использовать в качестве

названия этой части Лечение маленького Ганса. Лечение ли это? Ответ на этот вопрос не прост. В любом случае таких ответов много.
Да, это лечение! И чем бы это могло быть другим? Имел место патологический феномен, и этот феномен исчез. Он не исчез сам по себе, хотя мы обоснованно могли бы задаться вопросом, не исчез бы он сам по себе, если бы мы оставили его в покое. Ведь мы наблюдаем большое количество случаев детской фобии, в которых, как кажется, спешить некуда. Порой мы видим, что такой феномен отступает без специального терапевтического вмешательства. Но в этом случае феномен отступил только в условиях довольно сложных отношений с агентами, представляющими собой агентов терапии, со специально мобилизованной вокруг феномена терапевтической проблемой. Таким образом, если мы заключаем, что исчезновение патологического феномена посредством терапевтических отношений, терапевтической деятельности или в условиях такой деятельности предполагает лечение, тогда речь идёт о лечении.
Нет, это не лечение! Это не лечение, потому что агентом терапии выступает отец. Именно он ведёт основную часть терапевтического диалога. Отец является персонажем истории маленького Ганса. Это не профессионал со стороны, здесь нет возможности судить о его невовлечённости, о его доброжелательном нейтралитете, о всём том, что связано с его дезимпликацией
5 [вынесенностью вовне, безучастностью], о продуктивных для субъекта эффектах в случае диалога с дезимплицированным по отношению к его истории персонажем. Напротив, это персонаж, принимая во внимание, каким образом он исполняет свою отцовскую функцию, несёт, несомненно, наибольшую ответственность за возникновение феномена фобии. Иначе говоря, этот агент терапии появляется в ходе самого наблюдения как агент неистово патогенный. И несомненно, что ключевым словом здесь является несостоятельность (carence). По крайней мере, именно это слово я приметил в высказываниях Лакана, чтобы включить в название главы XXI Панталоны матери и несостоятельность отца. На самом деле в этой главе развивается постоянно звучащая в важных высказываниях маленького Ганса тема о разных панталонах его матери. Очевидно, что это не может не срезонировать у нас с вопросом о том, кто носит не панталоны (les culottes), а брюки (la culotte) в доме родителей маленького Ганса. Таким образом подготавливается вторая часть названия о несостоятельности отца.
Несостоятельность ( œrence ) - это слово, означающее нехватку. Оно происходит от латинского сагеге, глагола со значением упустить. Несостоятельность должника означает отсутствие ресурсов для оплаты долга, в более общем смысле - уклонение от своих обязательств, или, по меткому выражению Ле Робер, подразумевает не справиться со своей задачей. Добавим также, что на органическом уровне несостоятельность - это отсутствие элементов, веществ, которые способствуют питанию органической ткани. Таким образом, это слово, смысл которого может быть обсуждаемым, является тем не менее принципиально важным для установления механизма фобии. Это слово можно найти в резюме Лакана на страницах 519-520 Ecrits,
5 см. дезимпликация знания и истины в «Лекциях о Воле к знанию» Фуко

где он говорит о маленьком Гансе пяти лет, брошенном на произвол судьбы вследствие несостоятельностей его символической среды.
Конечно, стоит прокомментировать каждый термин этого тщательно взвешенного выражения, обобщающего представление Семинара IV. Брошенный на произвол судьбы (laissé en plan) маленький Ганс напоминает нам о ситуации председателя суда Шребера. Это прямое заимствование из словаря Шребера, когда он после ухода божеств в ужасе обнаруживает себя осиротевшим, брошенным на произвол судьбы, поддаваясь наслаждению, которое для него переходит в реальное. Таким образом, это выражение заимствуется из дискурса самого председателя суда Шребера, из самого психотического дискурса.
Есть также прилагательное символический, которое имеет важное значение, поскольку благодаря ему мы избегаем того, чтобы поместить эту несостоятельность в простой регистр реальности. Если Лакан впоследствии отказался от термина «несостоятельность» и даже критиковал его, то лишь постольку, поскольку он может навести на мысль, что нехватка в реальности окружения - отсутствие отца, матери или такого-то элемента семейной констелляции - могла ipso facto иметь патогенные последствия. Здесь Лакан не говорит о реальности окружающей среды, он не говорит об отсутствии или присутствии какого-либо персонажа в реальности, он говорит о символической среде. Другими словами, речь идёт не столько о персонажах, сколько о символических функциях, которые им следует более или менее хорошо исполнить. Там в тексте уточняется, что речь идёт о несостоятельности как несостоятельности символической и возможном провальном отсутствии того или иного персонажа на месте символа. На самом деле Лакан указывает на отсутствие реального отца, отца в реальности на месте символа, на провал символической функции отца. И Лакан расшифровывает скрытое постоянное, по крайней мере регулярное воззвание маленького Ганса к отцу, чтобы он эту функцию исполнил.
Почему несостоятельностей? Почему в тексте Ecrits множественное число, а в Семинаре IV мы находим этот термин в единственном? Потому что сущностная несостоятельность определяется смещением всех персонажей, призванных исполнять функции, составляющие этот символический антураж, - это то, что Лакан описывал по другим поводам, ссылаясь на конфигурацию, предшествующую рождению субъекта, используя выражение означающей констелляции. Здесь, поскольку маленькому Гансу уже пять лет, используется выражение символического антуража.
Таким образом, в этом Семинаре есть знаки дисфункции символического антуража. Тогда как один автор, критикуемый Лаканом в первой главе, пеняет на недостаток точности наблюдения за родительской парой, указывая на то, что Фрейду следовало бы сказать больше об отношениях родителей; Лакан, напротив, с удовольствием отмечает оставленные Фрейдом намёки, порой мимолётные, которые дают нам представление об этой паре. Дело не только в том, что отец Ганса слишком добр, ведь Ганс прямо упрекает его в этом и просит быть злым. Лакан ссылается в этом месте на статью, опубликованную в International Journal, в которой упоминается та самая большая беседа Ганса с его отцом, где этот пятилетний малыш использует похожие на

библейские выражения, объясняя отцу, чего он от него ждёт. Так что дело не только в том, что отец слишком добр к маленькому Гансу и что последний требует от него более жёсткого или даже более жестокого исполнения этой функции, дело в том, что он, несомненно, как отмечает Лакан, точно так же несостоятелен в отношениях с матерью, которая, кажется, делает всё, что ей заблагорассудится. До такой степени, что мы можем отметить отсутствие в наблюдении и в комментариях Фрейда, отсутствие вообще-то весьма примечательное, каких-либо намёков на наблюдение пресловутой первосцены. У нас не складывается впечатления, что в случае этой пары есть основания предполагать возможность того, что маленький Ганс мог случайно наблюдать совокупление отца и матери. Этот вопрос в какой-то момент возникает, делается намёк, на что отец отвечает: «Совершенно исключено!» Связано ли это с особыми мерами предосторожности, которые, как сообщается, были приняты в этом отношении? Лакан думает иначе. Он предполагает, что если у Фрейда нет в этом сомнений, то потому, что он знал, о чём идёт речь, поскольку мать маленького Ганса была его пациенткой, и, конечно, он имел возможность выслушать её жалобы на отсутствие желания у отца. Очевидно, что для того, чтобы таким образом скомпоновать эти данные, при чтении требуется обратить на них пристальное внимание, и один из интересов, которому стоит следовать в прочтении этого тщательного комментария Лакана, заключается в том, чтобы увидеть, как он использует эти мимолётные намёки Фрейда. Чего нельзя отрицать, так это того, что является горизонтом этого наблюдения, а именно разделения родителей. После того, о чём повествует наблюдение случая, отец и мать разойдутся, и в некотором смысле можно сказать, что фобия маленького Ганса предвосхищает это событие.
Итак, я сказал, что нет, это не лечение, потому что отец - и ещё как! - вовлечён в патологию этого случая. Также я сказал, что да, это лечение. Это лечение, потому что присутствует Фрейд и отцом, агентом терапии, периодически дистанционно руководит Фрейд. Кроме того, существует огромный перенос на Фрейда у всей семьи: у отца, у матери и у малыша. Это были первые последователи Фрейда в то время, когда в Вене 1908 года его детище обрело свой полный смысл, который необходимо было отстаивать. Они были пионерами психоанализа. Маленький Ганс оказался сразу внутри. Он, должно быть - почему бы и нет? - слышал, как его родители говорили о Фрейде за столом, его не пришлось уговаривать как-нибудь зайти к профессору самому. На протяжении всего наблюдения мы замечаем, что он сам понимает, что все его высказывания передаются Фрейду. Если мне не изменяет память, как-то раз, когда отец делал заметки, маленький Ганс сказал ему: «Запиши это как следует, чтобы рассказать профессору». Другими словами, он действительно постоянно предполагает довлеющее присутствие Фрейда. Кроме того, если Фрейд сам - когда он обращается к маленькому Гансу, применяя ту самую знаменитую конструкцию ещё до того как ты родился, Милостивый Бог уже знал, что появится маленький мальчик, которого назовут Ганс, и у него будут такие-то и такие-то отношения с папой и мамой..., - если Фрейд сам занимает эту позицию Бога-Отца, чтобы научить маленького Ганса, чтобы предоставить ему эту по-настоящему массивную порцию знания, то делает он это, понимая, что лечение происходит через посредника, которым является отец, он усиливает свою интервенцию, укрепляет её,

делает её массивной, чтобы она утвердила его в качестве субъекта, предположительно знающего, на весь период наблюдения. Если Фрейд во время случившейся встречи говорит с маленьким Гансом в таком тоне, с таким нажимом и в такой довольно прямой манере, можно предположить, что он знает, что делает, и делает это для того, чтобы одним махом перескочить через отца и обеспечить гарантию терапии как гарантию происходящего процесса. Таким образом, дело не только в дистанционном руководстве и своего рода раздвоенной между отцом и Фрейдом фигуре терапевта, но и в том, что весьма похоже, что Фрейд делает всё от него зависящее, чтобы занять отчётливо асимметричную позицию и несколькими словами зафиксировать своё положение в качестве поворотной оси всего процесса. Кроме того, мы хорошо видим, что внимание, уделяемое маленькому Гансу, приводит к производству необычайного изобилия продуктов. Он идёт на поправку. Речь набирает обороты. Несомненно, всё это предлагается к обсуждению. В наблюдении присутствует нечто искусственное, поскольку маленький Ганс в действительности поощряется к развитию фобии, но, по сути, это лишь точно отражает сам аналитический элемент наблюдения, а именно то, что его наделили желанием говорить - эта искусственная уловка, в конце концов, является не чем иным, как следствием самого по себе аналитического ухищрения. Почему бы, в самом деле, не признать, что этот симптом приобрёл более плотную форму в результате проводимого терапевтического вмешательства? Итак, это лечение постольку, поскольку в нём присутствует Фрейд, причём присутствует и в той позиции, которая была ему предложена, и в той позиции, которую он сам акцентировал и усилил.
Я только что сказал, что это наблюдение, по представлению самого Лакана, ценно своей полнотой. Оно действительно выглядит как завершённый в терапевтическом измерении путь. На страницах своего текста Инстанция буквы Лакан подчёркивает его завершённость, когда отмечает, что Маленький Ганс развивает все возможные комбинации ограниченного числа означающих. Я акцентирую здесь внимание на слове все. Или опять же Лакан упоминает - я уже цитировал это - исчерпание всех возможных форм невозможности в этом наблюдении. В этом заключается ценность наблюдения, но в то же время Лакан ставит под сомнение то, что в нём можно увидеть парадигму аналитического лечения. Он не уверен, и здесь возникает вопрос: можно ли в рамках, собственно говоря, аналитического лечения представить себе такое исчерпание, такую полноту? В любом случае это повод для вопросов и сопоставлений. В каком смысле мы можем сказать о самом аналитическом лечении, что в нём исчерпываются все возможные формы? В этом заключается ценность наблюдения, но в то же время поднимается вопрос, уместно ли здесь говорить о завершении анализа в том смысле, как мы говорим об исцелении в процессе лечения (résolution curative), и соответствует ли то, что является завершением анализа, этому критерию полноты. Другими словами, вопрос ставится таким образом: относится ли «итого пасса» (le donc de la passe) к типу наблюдения за маленьким Гансом? Означает ли это «итого» завершение исчерпания или нет? И в какой степени, в каком смысле в аналитическом опыте существует ограниченное число означающих?

Если рассмотреть само продвижение наблюдения в целом и комментарий, который можно к нему дать, то этот вопрос о соотношении между лечебным разрешением и завершением анализа, конечно, остаётся открытым. По сути, этот комментарий состоит в том, чтобы вернуться от патологической проблемы фобии к психической проблеме. Те самые термины, которые использует Лакан, такие как решение, разрешение, уравнение этого решения, пример которого есть в этом Семинаре, - уравнение, предвосхищающее знаменитую формулу отцовской метафоры, - все эти термины, которые там используются, показывают, что за этим феноменом стоит одна проблема. Фобия - это не проблема. Фобия - это попытка решить проблему. Конечно, это неприемлемое решение. Оно неприемлемо, потому что приводит к недееспособности маленького Ганса. Оно мешает ему гулять, изолирует его в кругу семьи. Это решение, которое принесёт ему много страданий. Можно сказать, что оно делает его нежизнеспособным. Нежизнеспособность решения должна быть подчёркнута как таковая. Лакан говорит, что когда Маленький Ганс выходит из фобии, он восстанавливает жизнеспособныйрегистр объектных отношений. Итак, перед вами прежде всего нежизнеспособность. Все невротические патологические феномены можно рассматривать в качестве попыток найти решение, которое поверяется тем, приемлемо ли оно для жизни или нет. Итак, что там в этой пригодности для жизни и нежизнеспособности? В чём смысл этой несколько громоздкой и расплывчатой отсылки? Можно было бы начать с того, что сказать, что в конечном итоге речь идёт о связи с наслаждением, водворяющемся в субъекте.
Если фобия - это не проблема, но попытка решения проблемы, то в чём состоит проблема? По сути, с одной стороны, проблема - это некая символическая проблема. Это можно обобщить с помощью выражения символическая несостоятельность отца, означающего, что символическая среда маленького Ганса способна предложить ему лишь неисправно работающий аппарат. Можно сказать, что проблема в этом. Но и не совсем так, потому что символ, как Лакан формулирует его в этом Семинаре, - это скорее решение, это скорее средство решения. Несомненно, проблема в том, что у маленького Ганса нет символических средств решения и что в своей речи, активированной терапевтическим вмешательством, он ищет символические элементы решения. Действительно, можно сказать, что в ходе преобразований его речи наблюдается постепенная символизация различных элементов, с которыми он имеет дело. Видно, как ситуация, с которой он имеет дело, помещается в символические элементы. В этом Семинаре можно увидеть, как элементы, грубо говоря, воображаемые, мало-помалу символизируются. Несмотря на то, что символическое является средством решения, проблема ещё не решена - как раз эта проблема и мобилизует символическое в качестве средства решения. Но сама проблема ещё не решена. Проблема здесь - это проблема наслаждения. И гораздо позже, когда Лакан в эпоху узлов в нескольких предложениях резюмирует случай маленького Ганса, именно на этом он сделает акцент: на проблеме наслаждения, стоящей перед маленьким Гансом. Последний мобилизует символические средства решения, но на уровне этих средств нечто оказывается недоступным, что вынуждает его к временному решению.

Эту проблему наслаждения можно назвать проблемой фаллического наслаждения. Это вопрос, который ставят перед маленьким Гансом особенные ощущения, приходящие от его полового органа. В тексте Инстанция буквы Лакан, чтобы обозначить эту проблему, говорит так: «Внезапно актуализировавшаяся для него загадка его пола и его существования». Очевидно вместе с тем, что здесь мы ещё довольно далеки от того, чтобы сформулировать вещи в терминах проблемы наслаждения. Существование - это то, что нужно отнести к вопросам маленького Ганса в стиле: где я? кто я такой? почему я? Можно сказать, что ансамбль этих вопросов представлен в его жизни присутствием младшей сестры, маленькой Анны. Примечательно, что, во всяком случае, для Фрейда это отношение старшего к младшему всегда было особенно важным пунктом, которому он приписывает множество особых трудностей в психическом развитии старшего.
Вы можете взять текст Фрейда, который называется Конструкция в анализе, где он показывает нам конструкцию в том виде, в каком аналитик может её разработать и сообщить пациенту как дополнение воспоминания, у которого не получается вернуться, как заполнение дыры в последовательности воспоминаний - конструкция в анализе располагается там, где прерывается цепочка воспоминаний. Какой он приводит пример? Какой пример для этой функции конструкции приводит Фрейд в этом тексте? Так вот, это тот факт, что вы хотели забыть момент, когда рождение ещё одного ребёнка помешало вам остаться единоличным владельцем матери. Это и есть дыра или воспоминание, которое нужно вернуть. Этот отрывок кажется намёком на случай маленького Ганса, и это, нужно сказать, весьма примечательно, поскольку выглядит так, что лишает старшего ребёнка обладания матерью не отец, не функция отца, но появление младшего ребёнка. Вот смысл этой конфигурации в разработке Фрейда. В приведённом им примере конструкции именно на появление другого ребёнка возлагаются функции, которые можно было бы считать функциями эдипального отца. Итак, вот какой смысл это может приобрести. Таким образом, мы можем сказать, что для Ганса вопрос существования здесь в первую очередь поддерживается появлением этого другого ребёнка.
Когда Лакан говорит о загадке его пола, это не означает, что Ганс затрудняется непосредственно в отношении того, какого он пола. Речь не идёт непосредственным образом об истерии Ганса. Напротив, на протяжении всего наблюдения он совершенно уверенно проявляет свою мужественность по отношению к маленьким девочкам, дамам, которые могут появиться в его жизни, горничным и так далее. Нельзя сказать, что вопрос пола для Ганса стоит именно таким образом: мужчина я или женщина? Вопрос пола здесь не является истерическим вопросом половой идентичности, но вопросом: что делать с наслаждением полового органа? Но также можно сказать, что этот вопрос пола как вопрос выбора между двумя полами появляется у Ганса, когда в одном моменте он колеблется: отец он или мать. Лакан придаёт большое значение упомянутом выше вопросу.
Если бы я хотел резюмировать проблему и решение, вытекающие из наблюдения, я бы записал это как отношение между фаллическим наслаждением - я ставлю ромб, означающий отношение, - и Именем Отца. Воззвание, которое делается в процессе

наблюдения к Имени Отца как к решению, происходит от проблемы, проистекающей из фаллического наслаждения.
J ф ◊ NP
Если я перефразирую тезис, развивающий этот Семинар Лакана, то прозвучит он как то, что проблема фаллического наслаждения неразрешима в эпоху правления матери, когда эта проблема даже не может быть поставлена. И именно поэтому она имеет статус тайны (énigme). Я придаю большое значение этому слову, которое Лакан использует в Ecrits по поводу маленького Ганса. Она имеет статус тайны, то есть это ещё даже не проблема. Это становится проблемой только благодаря символизации, прогрессу символизации. Она разрешима только в эпоху правления отца. Представление о том, что на этом уровне есть тайна, мы найдем в развернутой формуле метафоры отца, когда Лакан в качестве означаемого Желания Матери (DM) запишет х. Желание матери имеет, в качестве означаемого для субъекта, х, который представляет собой матему тайны. Назначение этого х в формуле отцовской метафоры - быть матемой тайны.
DM ф х
Только посредством функционирования отцовской метафоры, то есть замещения означающим Имени Отца означающего Желания Матери - и в этой дробной записи [ NP / DM ] черта имеет другое значение, нежели разделяющая означающее и означаемое черта сопровождающей её [в формуле отцовской метафоры] другой дроби [ DM / x ], вот в чём дело, поэтому я провёл такую стрелку, тогда как там [в первой дроби] черта - это черта замещения, что создаёт двусмысленность в применении Лаканом черты, которая не всегда имеет одно и то же операциональное значение - итак, только посредством замещения Именем Отца означающего Желания Матери эта тайна уступает место фаллическому значению - фаллическому значению, которое Лакан в отцовской метафоре записывает словом фаллос побуквенно - phallus вместо х
NP phallus
- - -
DM
Он пишет фаллос полностью, потому что на самом деле там тоже есть происходящая замена. Если проследить ход этого Семинара, становится заметным, что воображаемый фаллос заменяется на символический. И поэтому в своей формуле, которую Лакан даёт в Ecrits, обозначая фаллос полным словом, он фактически подвёрстывает всё то, что является операцией замещения, которую мы можем

проследить в этом Семинаре, - замены воображаемого статуса фаллоса на
символический.
Сказать, что наблюдение маленького Ганса, несмотря на его полноту, представляет нам парадигму аналитического лечения, парадигму завершения анализа, мешает то, что решение, о котором идёт речь, решение посредством фобии - это комплекс Эдипа, это позиция эдипова комплекса. Действительно, всё наблюдение в том виде, в каком его комментирует Лакан, показывает нам субъекта, ищущего комплекс Эдипа. Он не ищет потерянного времени, вернее, он ищет потерянное время в начале, ищет рай детской любви с матерью, а затем он оказывается на пути к комплексу Эдипа. Другими словами, фобия в её структурированном виде появляется как призыв эдипова комплекса, воззвание к основополагающему замещению Именем Отца (NP) Желания Матери (DM). Таким образом, мы можем сказать, что клинической основой отцовской метафоры Лакана является наблюдение за маленьким Гансом.
Это такое воззвание к эдипову комплексу, в котором, представив нам означающее лошади как способное принимать чрезвычайно разнообразные значения, Лакан, когда формулирует уравнение решения маленького Ганса и предшествующих ему перестановок, в конечном итоге делает лошадь заменой Имени Отца. Лошадь, фобический объект маленького Ганса, является - если использовать термин Фрейда -эрзацем Имени Отца. Это, кстати, гораздо позже приведёт Лакана к вопросу о том, не является ли на самом деле любое Имя Отца подменным Именем Отца. Когда он задастся этим вопросом, он проведёт семинар Неодураченные заблуждаются (Les non-dupes errent) - конечно, в названии присутствует экивок [название полностью омофонично Les noms du père], но также важно множественное число, которым наделяется Имя Отца. Тогда как в Семинаре IV эта функция, которая пока ещё не названа как таковая (и возникает ближе к концу тома), с необходимостью фигурирует в единственном числе как основная точка пристёжки всей артикуляции, хотя если посмотреть на случай маленького Ганса с другой стороны, то уже можно уловить намёк, что вообще-то Имя Отца является лишь одним Именем Отца в числе других. За этим может последовать переоценка найденного маленьким Гансом решения. В конце концов, он нашёл, в сущности, Имя Отца для себя самого. То, что исчезает в Именах Отца во множественном числе, - это идея типичного решения, тогда как один из постоянно появляющихся комментариев Лакана по поводу найденного маленьким Гансом в процессе лечения решения заключается в том, что он оценивает его относительно типичного решения комплекса Эдипа. То, что Лакан называет типичным решением эдипова комплекса, - это истинное Имя Отца, занявшее своё место, чего, по его мнению, с маленьким Гансом не происходит.
Таким образом, сама идея типичного решения может быть поставлена под вопрос, и она подвергается сомнению, когда Лакан умножает Имена Отца, используя форму множественного числа. Эта лошадь, бесспорно , является могуществом и в то же время переходящим могуществом, которое выступает в качестве связующего элемента, поскольку, с одной стороны, несомненно, она олицетворяет отцовское могущество - на довольно продвинутом этапе наблюдения маленький Ганс отмечает красивую поступь,

горделивость и сияющий ореол лошади, сопоставляя эти черты с чертами отца, -лошадь кажется ему олицетворением отцовского могущества - но, с другой стороны, она заимствует могущество у матери. Одна из её существенных черт - это на самом деле укус, тот укус, которого он боится, имеющий настолько важное значение, что Лакан удостаивает его матемы, поскольку в предложенных им формулах мы в какой-то момент обнаруживаем маленькую букву m, которая является матемой укуса. Укус - это своего рода матема оральных отношений. Существует представление об оральных отношениях, которое заключается в том, чтобы одновременно пожирать и быть сожранным, и этот возврат к оральным отношениям с матерью заключается в том, чтобы пожирать её и бояться, в свою очередь, быть ею сожранным - вот что воплощает собой страх укуса лошади. Как я отметил с помощью размещённой на задней обложке Семинара цитаты, поворотным пунктом является момент, когда этот укус, который отражает сущностное качество оральной матери, становится символизированным и входит в комбинаторный цикл.
Скажем так, в том измерении, где завершение лечения маленького Ганса вращается вокруг разработки Эдипова комплекса, трудно усмотреть в нём лишь понятную парадигму аналитического опыта. С другой стороны, Лакан обращается - я уже говорил об этом - к диагностической оценке решения маленького Ганса. На странице 383 вашего Семинара есть предложенное им толкование одного из последних диалогов маленького Ганса и его отца от 30 апреля, где подчёркнуто, что это не типичное решение Эдипова комплекса, но что отец окончательно и бесповоротно несостоятелен, то есть не в состоянии исполнить посредническую функцию третьей стороны, и что в символической среде маленького Ганса только бабушка, мать отца, оказывается воплощением этой функции. Другими словами, в конечном счете маленький Ганс находит как Имя Отца только бабушку, которая является матерью отца.
Таким образом, когда он признается своему отцу, что он не мать, а отец, что он намеревается быть мужем матери, а сам отец будет дедушкой - это его решение - Лакан интерпретирует эти бескомпромиссные утверждения как то, что на бессознательном уровне имеет выражение: итак, я - мать (donc je suis la mère). Я не привожу демонстрацию целиком, но давайте просто скажем, что она сводится к фразе итак, я мать и к тому факту, что в конечном счёте он останется привязанным на протяжении всего своего существования к воображаемому созданию материнского типа. Вот что стало для него решением проблемы наслаждения - Имя Отца, но Имя Отца, воплощённое матерью отца.
Я оставлю на потом - поскольку я хочу ещё задержаться на этом Семинаре -вопрос, который возникает в связи с этим, по поводу завершающего итак (donc) анализа. То, что возникает в связи с этим, следует тщательно взвесить, и вопрос звучит следующим образом: в какой мере завершение анализа завязано на принятие комплекса Эдипа? Конечно, можно сказать, что в учении Лакана преобладающее значение эдипова комплекса в вопросе завершения анализа сохраняется в течение довольно долгого периода, даже в то время, когда прямые отсылки к Эдипу прекращаются. Например, когда Лакан чуть позже формулирует окончание анализа на

основе фаллической дезидентификации - нужно, чтобы субъект смирился с тем, что он не является фаллосом, хотя его фундаментальное желание заключается в том, чтобы им быть, он должен отказаться от своего итак, я - фаллос, - можно сказать, что это всё ещё каким-то образом относится к структуре комплекса Эдипа. Это опять-таки соотносится с некоторой незавершённостью отцовской метафоры, что оставляет субъекта всё ещё в плену отождествления с фаллосом в желании матери. Другими словами, даже когда проблематика в терминах идентификации и дезидентификации, как кажется, противопоставляет субъекта и фаллос, в конечном итоге всё равно остаётся отсылка к какого-то рода незавершённости в отцовской метафоре. Я оставляю этот вопрос открытым, потому что речь идёт о том, вписывается ли проблематика завершения анализа в Эдип, в том числе в его производные версии, такие как фаллическая дезидентификация, или она решительно выходит за эти пределы.
Я хочу ещё задержаться на этом Семинаре, чтобы сделать попытку раскрыть логику определённого хода, - логику, которая начинается не со случая маленького Ганса, который представляет собой завершающий его этап, - и сначала я хотел бы прояснить место этого семинара в учении Лакана.
Можно сказать, что в разработке лакановского учения первый и второй Семинары идут вместе, как идут вместе Семинары III и IV. Семинар I отправляется от аналитической техники точно так же, как Римская речь в её первой части берёт своё начало от полной и пустой речи. Отправная точка, расположенная в аналитическом опыте, позволила затем осуществить разработку, основная задача которой заключалась в том, чтобы показать разделение воображаемого и символического регистров, то есть шаг за шагом вывести символический регистр из воображаемого регистра, чтобы показать, исходя из этого, структурно определяемую разницу между собственным Я и субъектом. Именно на этой основе Семинар II представляет собой разработку символического, которая акцентирует функцию означающего и конструирует автономию этого измерения.
Именно в этом смысле, хотя, судя по названию, этот Семинар посвящён Я, его сердцевиной является повторение как повторение символическое, поэтому я тогда решил не иллюстрировать его обложку Нарциссом, - есть очень красивая картина Караваджо Нарцисс, которая привлекла моё внимание, - но использовать игральные кости - игральные кости, с помощью которых солдаты разыгрывают мантию Христа, -потому что это Семинар о комбинировании означающих функций. Именно в нём Лакан выстраивает схему из маленьких букв. Именно в нём он ссылается на Украденное письмо, и можно сказать, что завершением этой разработки становится схема в форме Z, которая противопоставляет воображаемую ось и символические отношения. Это схема, которую вы найдёте в тексте Лакана об Украденном письме, и именно её Лакан упоминает уже в начале Семинара IV. Таким образом, это схема, которая иллюстрирует, и прежде всего на основе аналитического опыта, разделение между воображаемым и символическим.
Семинар III и Семинар IV, скажем вкратце, это, с одной стороны, психоз, психозы, а с другой стороны, фобия. Отправной точкой является не аналитический опыт и не метапсихология, как в Семинаре II, а действительно две клинические структуры - две

клинические структуры, которые друг друга дополняют. Результатом - я накануне представил его именно таким образом - комбинации Семинара III и Семинара IV (Семинара IV, в основе которого лежит вопрос о фобии) является текст Лакана под названием О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза, который включает в себя формулу отцовской метафоры. То, что мы узнаём о фобии, -это прямое дополнение к расшифровке психоза: именно сочетание этих двух элементов позволяет Лакану сформулировать отцовскую метафору, добавив к ней тот сторонний элемент, которым является статья Якобсона о метафоре и метонимии.
По сути, если в Семинаре III так много говорится об означающем и означаемом, то потому, что он должен показать, что означающее и означаемое всегда предполагают нечто вроде точки пристёжки. Этот семинар движется к этому предположению -предположение (supposition), слово, которое использует Лакан, и оно так и закрепится, - предположению, что психоз является следствием нехватки первичного означающего. Лакан прорабатывает Verwerfung, отбрасывание, как механизм - механизм отказа от означающего - ещё до того, как скажет, что это за означающее. Выдающейся примечательной чертой этого Семинара III является то, что Лакан развивает механизм как таковой вне зависимости от того, к чему он применяется. Выуживая у Фрейда термин Verwerfung, механизм отказа от первичного означающего, Лакан представляет его как предполагаемый фундаментальный механизм, лежащий в основе паранойи. Это то, что он пытается обосновать, и когда ему нужно привести пример, к чему он прибегает в Семинаре III? Он прибегает к истерии. Он прибегает к истерии, чтобы показать, что символизации женского пола как таковой не существует.
Другими словами, если проследить ход этого Семинара, можно заметить, что там, где нужно воплотить то, чем может быть отсутствие означающего при психозе, происходит отсылка к истерии, чтобы показать, что она действительно является меткой того, что в некотором пункте символическому не хватает материала и что, следовательно, можно помыслить такую вещь, как нехватка означающего.
Срезая углы, можно сказать (хотя сам Лакан так не говорит), что это уже демонстрация нехватки означающего женщина - то, что он позже сформулирует как женщины не существует. Это уже присутствует в двух главах о том, что такое женщина, в Семинаре III. Только в конце Лакан подчёркивает функцию означающего быть отцом, приводит пример столбовой дороги и так далее. Также он приводит хороший пример -вы найдёте его на странице 230 [стр. 272-273 в русском издании] - о том, каким образом происходит компенсация у субъектов, которым не хватает означающего быть отцом, у субъектов, у которых невозможно предположить реализацию означающего отец на символическом уровне. Он показывает, в каком смысле он остаётся образом, остаётся отношением к образу могущества, парализующим отношением, отношением подавления и подражания перед означающим могущества, тогда как на самом деле имеет место примитивная обделённость означающим, которая вызывает компенсации.
Именно в это движение вписывается Семинар IV Объектные отношения. В сущности, при развитом психозе, при развязанном психозе, который преодолел все компенсации, которые могли бы ограничить его мощь, это уже свершилось. Когда

берутся за случай Шребера, это уже свершилось. И, кроме того, мы имеем дело прежде всего с причинным местом какой-то вещи, которой там нет, и мы всегда оказываемся только где-то в окрестностях. То есть точно так же - как в Мемуарах Шребера есть одна недостающая глава - можно сказать, что в самом психозе самое сложное состоит в том, что то, о чём идёт речь, пробило брешь и что мы всегда находимся где-то на её краю. Это уже свершилось, это прописано.
Фобия, с другой стороны, переносит нас в эпоху разработки отцовской метафоры, и те несколько месяцев, четыре или пять месяцев жизни маленького Ганса, - это тот благословенный момент, когда мы становимся свидетелями окончательной разработки отцовской метафоры, когда ещё есть пространство игры. Есть как бы переходное пространство маленького Ганса, где это ещё не свершилось. Несомненно, происходит окончательная фиксация, но в течение четырёх или пяти месяцев есть ощущение, что происходит игра, - игра в позиции маленького Ганса по отношению к его фундаментальным означающим. В то время как фундаментальным механизмом психоза является отбрасывание, которое в Семинаре III обозначено как отцовское, можно сказать, что здесь вместо этого мы имеем нечто, для обозначения чего у Лакана не нашлось другого слова, кроме как несостоятельность. Не отцовский Verwerfung, а отцовская несостоятельность.
Следует отметить, что в этом Семинаре IV отцовская несостоятельность ещё не вполне приобретает консистентность механизма. Нельзя сказать, что несостоятельность означает, что у маленького Ганса нет означающего отца, но есть некоторый сбой на уровне воплощения этого означающего, как бы несостоятельность воплощения (carence d'incarnation). Здесь и там в этом Семинаре можно обнаружить то, что подпитывает эту концепцию несостоятельности воплощения, которая не сформулирована как таковая и которая в некоторой степени является одной из нехваток этого Семинара, заключающейся в том, что механизм фобии не совсем последователен [не приобрёл консистентности, не доработан]. У нас есть механизм фобии в том смысле, что фобический объект предлагается в качестве эрзаца Имени Отца. Фобический объект -это означающее. Это означающее, которое заменяет операцию Имени Отца, которое совершает её по-своему, но точного представления о несостоятельности воплощения у нас нет. Что создаёт ту особого рода трудность, которая не позволяет отцу в реальности удовлетворительно воплотить символическую функцию? Я не осмелюсь сказать, что это проблема воплощения, которая в других дискуссиях резонирует совершенно иначе, но в некотором смысле это суть вопроса.
Итак, у нас есть отец и его несостоятельность, и, скажем так, нужно понимать, что то, что мы видим на протяжении всего этого Семинара, по крайней мере, второй его части (и это никак не было представлено в Семинаре III, мемуары Шребера не могли бы к этому подвести), то, что мы видим в нём, - это совместное торение концептов отца и фаллоса. Нужно понимать, что до Лакана эта связка, ставшая для нас такой привычной, не имела никаких предпосылок. Вот почему мне подумалось, что главам XII и XIII этого Семинара должны выпасть именно те названия, которые я им дал. Я говорю выпасть [как будто они разыгрываются] потому что в конце концов, когда дело доходит до

выбора названия, не всегда есть очевидный вариант. Не всегда удаётся найти очевидное название для лекции Лакана, исходя из того, что в ней звучит. На определённом уровне прочтения создаётся ощущение того, что он последовательно затрагивает несколько тем, и, только пытаясь простроить содержание главы и найти её место во всём тексте, мы можем уловить или предположить, что уловили, вокруг чего балансирует смысл. Мне показалось выигрышным назвать эти две главы так, как я это сделал: глава XII О комплексе Эдипа, глава XIII О комплексе кастрации.
Потому что на самом деле их два, и Лакан подчёркивает, что его намерение заключается в том, чтобы тесно их увязать, сочленить один с другим. Он говорит об этом на странице 216. Кстати, там есть небольшая ошибка. Он говорит: «Кастрация является знаком драмы Эдипа, поскольку она является вписанным в неё стержнем». Ошибка в опубликованном тексте состоит в том, что там осталось написано он является вписанным в неё стержнем. Он вместо она. В предыдущей версии я, должно быть, написал: «Комплекс кастрации является знаком драмы Эдипа, поскольку он является вписанным в неё стержнем», - после чего я, должно быть, подумал, что это неверно, поскольку это не комплекс кастрации является знаком и стержнем, а сама по себе кастрация, поэтому я удалил комплекс кастрации, чтобы заменить его кастрацией, упустив необходимость заменить местоимение он на она. Так что на странице 216 вы уже можете внести одно исправление.
Лакан уточняет (...вообще-то, Лакан в моей редакции): «Хотя это нигде не сформулировано таким образом, это буквально вписано во все тексты Фрейда». Другими словами, это уже дедукция Лакана - связать Эдипа и кастрацию таким образом. И можно сказать, что секретное название этого Семинара: Функция кастрации. На самом деле это переворачивает всё, о чём идёт речь в Объектных отношениях. На этом этапе Лакановской разработки этот Семинар вносит то, что объект организован кастрацией, что любой вопрос объектных отношений возникает на фоне кастрации.
В том числе это возражение, которое Лакан адресует самому себе. Я озаглавил первую часть Теория нехватки объекта. И первая глава - это возражения и разнообразные насмешки, которым Лакан подвергает других авторов, дураков и идиотов объектных отношений. Ха-ха-ха. Он называет их тексты скопищами перлов. Но, возможно, нам не следует так уж увлекаться этой постановкой, которая была актуальна в то время. В действительности идея нехватки объекта - это в первую очередь возражение, которое Лакан выдвигает против самого себя. Поскольку, чем до этого был для него объект? До этого момента для Лакана объектом было малое а, симметричное а', то есть собственное Я. Его основным примером было то, что мы можем найти в структуризации Стадии зеркала (о чём мне нужно будет сказать несколько слов чуть позже). Он продумывал объектные отношения, прежде всего исходя из нарциссизма. В соответствии с тем, что говорит Фрейд, либидо собственного Я перетекает, инвестируется в объект, может возвращаться в собственное Я и так далее. Точно так же желание до сих пор для Лакана было связано прежде всего с образом, оно принадлежало воображаемому регистру. И если задаться вопросом, где находится желание на схеме Лакана, можно сказать, что сначала оно находится между а и а', между

собственным Я и воображаемым объектом. Однако Семинар IV приведёт к совершенно другой схеме - двухэтажной схеме, которую Лакан любопытным образом назовёт Графом желания.
Почему он назовёт это Графом желания? Из-за того принципиально важного новшества, которое вносит этот Семинар IV, коим является изменение статуса объекта желания и самого желания. Конечно, в Семинаре IV Лакан говорит о воображаемом объекте желания, которым является фаллос в качестве фаллоса воображаемого, он тем более воображаемый, поскольку первый фаллос, о котором заходит речь, это фаллос женский. Но этот Семинар проводится для того, чтобы показать, что этот объект желания связан с символическим. Связка объекта желания и символического - вот что называется кастрацией. Дело в том, что мы не можем клинически позиционировать объект желания просто как один из полюсов этого движения либидо взад-вперёд, как то, что наполняется или опустошается либидо в воображаемом регистре, дело в том, что объект желания занимает своё место благодаря символической кастрации. Итак, первый шаг, который делается в Семинаре IV, состоит в том, чтобы показать, каким образом объект желания, каким бы воображаемым он ни был, занимает своё место в связи с символическим и символической кастрацией.
Вторым моментом, который будет окончательно сформулирован в Семинаре V, станет демонстрация символического статуса самого желания, а именно того, что желание не находится на воображаемой оси, что желание - это определённое отношение означающего и означаемого. Об этом не идёт речи в Семинаре IV, но в следующем будет показано, что желание следует расположить в символическом, что это определённое отношение означающего и означаемого и даже что в схеме отношений означающего и означаемого желание можно рассматривать как означаемое требования или как вытеснение требования:
s d
Этой фундаментальной матемы отношения требования и желания нет в Объектных отношениях, но она является компасом Лакана в Семинарах V и VI, где выстраиваемым фундаментальным концептом становится концепт желания - как вы знаете, Семинар VI называется Желание и его интерпретация. По сути, в Семинаре IV мы становимся свидетелями перехода от воображаемого объекта желания к символическому, что происходит в следующей последовательности. Во-первых, воображаемый объект желания - это фаллос. Во-вторых, фаллос - это прежде всего то, чего не хватает. И, в-третьих, только с помощью символического можно осмыслить функцию этой нехватки, поскольку символ - это убийство вещи. В этом смысле Семинар IV представляет собой возражение, выдвинутое Лаканом против Лакана. Основополагающим в объекте не может быть то, что притягивает желание, поскольку,

напротив, и особенно в случае фобического объекта, мы не желаем с ним встречи, таким образом Лакан возражает против простой прямой реверсии объекта и собственного Я.
В следующий раз я продолжу обсуждение этого вопроса и попытаюсь показать, где именно в Объектных отношениях скрывается, хотя, как кажется, его там и в помине нет, объект а Лакана - что станет ещё одним возражением этого Семинара.
2 марта 1994

встреча X
В прошлый раз я сказал, что настоящее название Семинара IV - Функция кастрации. Это было образным выражением того, что если мы, снова взявшись за чтение этого Семинара, пытаемся понять, в чём состоит его новизна, то мы можем сказать, что таковой является введение кастрации в центр аналитической теории объекта. Новизна в том, что аналитическая теория объекта раскручивается вокруг кастрации. Это означает, что превалирующим объектом является фаллос. Можно сказать, что в этом Семинаре завершается наделение фаллоса в психоанализе тем значением, которое в дальнейшем сохранится в качестве неизменной черты учения Лакана. Таким образом, этот Семинар занимает, если можно так выразиться, место на стыке этого учения. Это очень просто заметить, если обратиться не к Семинарам в их последовательности, а к текстам Ecrits Лакана: одна часть этого Семинара включена в текст о психозе - где этот Семинар завершает начатое в Семинаре III и позволяет вывести формулу отцовской метафоры, а другая часть включена в текст Направление лечения -последующий текст, в который замешиваются результаты Семинара Образования бессознательного, который станет Семинаром V.
Похоже на то, что этот Семинар отмечает своего рода брешь в линии последовательного продвижения, которой следует Лакан. В самом деле, первые три Семинара определённо посвящены комментарию текстов Фрейда. Первый обращается к текстам Фрейда, посвящённым технике психоанализа. Текстом, к которому отсылает Семинар II, становится По ту сторону принципа удовольствия. В Семинаре III рассматривается Случай Шребера. А этот Семинар IV принимает в качестве отправного совершенно другой пункт - нечто современное Лакану той эпохи, а именно работу его оппонентов из Парижского Психоаналитического Общества в сборнике текстов, получившем статус манифеста под названием Психоанализ сегодня, который Лакан избегает прямо называть, даже когда его цитирует. Впрочем, я тоже счёл не обязательным добавить в текст Семинара упоминание этой работы, поскольку Лакан тщательно этого избегал. Конечно, в контексте того времени ни у кого не могло возникнуть сомнения в идентификации этого текста, но мне показалось, что будет более точным и более забавным, несмотря на прошедшее время, сохранить манеру прозрачных намёков, которой изобилует стиль Лакана, указав всё-таки в отдельной сноске, сделанной мной в конце, о какой работе шла речь.
По ходу этого Семинара обнаруживается беспокойство, разочарование его слушателей от мысли о том, что он отказывается от комментария Фрейда. Тем более, что ещё до семинаров в госпитале Святой Анны, где этот Семинар был четвёртым, Лакан провёл у себя дома несколько частных семинаров, стенограммы которых не сохранились. Они также были посвящены случаям Фрейда, вероятно, случаю Доры, человеку-крысе, человеку-волку. Следы этих частных семинаров мы находим в его ранних произведениях: в Слове о переносе по поводу случая Доры, в развёрнутых упоминаниях человека-волка и человека-крысы в Римской речи. Таким образом, до сих пор выглядело так, что стиль Лакана определялся комментарием фрейдовских текстов,

и Семинар IV, похоже, от этого отходит. Но на самом деле б о льшая часть этого семинара отведена комментариям Фрейда - комментарию случая юной гомосексуальной пациентки и обширному комментарию случая маленького Ганса, занимающему половину тома. Но отправная точка в любом случае другая, она обозначена чётко и с самого начала придает этому семинару полемический характер.
Я хотел бы снова рассмотреть с вами предпринятое Лаканом вмешательство в психоанализ, чтобы ещё раз определить для этого Семинара его точное место. Говоря в самых общих чертах, первое вмешательство Лакана в психоанализ ознаменовалось тем, что можно назвать антибиологизмом, и отказом подходить к теории Фрейда с точки зрения развития личности. В этом отношении конфронтация Лакана с теорией объектных отношений ожидалась с самого начала его вмешательства в психоанализ. Первое его вмешательство, оформившееся сразу после Второй мировой войны и до начала семинаров в госпитале Святой Анны, использует против биологизации психоанализа то концептуальное оружие, которое представляет собой интерсубъективность. Он сосредотачивается на том, чтобы продемонстрировать, что любой момент индивидуального развития отмечен интерсубъективностью. Это ориентир, который предлагает Стадия зеркала. Стадия зеркала как феномен развития известна давно. Этот феномен был упомянут Дарвином, а затем подхвачен Валлоном, но у Лакана он встраивается в Гегеля - Гегеля-Кожева. Он встроен в отношения Господина и Раба. Такая стадия зеркала конституируется в переживании момента, отмеченного преобладанием видимого, образа, и этот момент Лакан комментирует одновременно как диалектический момент, он открывает всё богатство интерсубъективной диалектики.
Второе вмешательство Лакана, если датировать его Римской речью и Семинаром I, состоит, в сущности, в том, что я назвал бы расщеплением интерсубъективности. Та простая интерсубъективность, соотносимая со Стадией зеркала, подвергается редупликации, и именно эта редупликация интерсубъективности разработана Лаканом в форме его Z-образной схемы, которая противопоставляет воображаемые отношения а-а' и символические отношения S-A. Проще говоря, там, где до сих пор была только одна интерсубъективность, теперь обнаруживается две - в двух разных режимах, которые Лакан на протяжении первых трёх Семинаров развивает, дифференцирует, противопоставляет один другому.
Ретроспективно, когда мы привыкаем к Лакану этого второго вмешательства, к Лакану этой двойной интерсубъективности, мы видим путаницу, которая была раньше, когда мы пытались рассматривать явления с помощью простой интерсубъективности. Мы видим, например, что Лакан должен был прибегнуть к такому термину, как имаго -термин, подобный летучей мыши, который, с одной стороны, является воображаемым, но представляет собой стилизованное, означенное воображаемое, что одновременно наделяет этот термин имаго качествами и функциями символического типа. Мы также видим, что прежде Лакан диалектически выстраивал само воображаемое и мог проиллюстрировать свою теорию Я примером диалектики закона сердца у Гегеля. Другими словами, раньше воображаемое было заполонено символической

диалектикой и не отличалось от неё. В том, что Лакан, строго говоря, называет своим учением, восторг открытия вызывает разделение, осуществляемое между этими двумя типами интерсубъективности. То есть восторг повторяется снова и снова по мере научения тому, как различаются воображаемое и символическое.
Итак, что позволяет и даже делает необходимым это удвоение интерсубъективности? Заметим, что здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, которые Фрейдом вообще не затронуты. Введение интерсубъективности в центр аналитического опыта - это уже привнесение Лаканом тех тем, которые превалировали в то время в философии, в наследии феноменологии, которые, разумеется, были переосмыслены и переработаны для применения в психоанализе. Здесь разработанное и введённое Лаканом разделение между воображаемым и символическим, которое производит экстраординарную трансформацию самого прочтения фрейдовских текстов, было сделано, так сказать, с точки зрения, которая сама по себе является внешней по отношению к эксплицитной проблематике Фрейда.
Итак, что же позволяет осуществить это расщепление интерсубъективности? Скажем, что то, что позволяет это осуществить, - это концепт структуры. Структура, которая вводит необходимость дискретных, отделённых друг от друга элементов, то есть означающих, которая вводит само понятие места и перестановки элементов на местах -перестановки определённого количества элементов, определённого словарного значения в определённом и конечном количестве мест - с момента, когда такая структура с её чисто перестановочным началом появляется у Лакана, она становится константой всего его учения. В этом Семинаре он не только разрабатывает теорию нехватки объекта - кастрацию, фрустрацию, лишение, - демонстрируя в этом отношении распределение трёх порядков: символического, воображаемого и реального. Но также, разрабатывая эту таблицу в течение всего года, он даёт пример структурного и перестановочного функционирования. Это относится к конкретному содержанию, о котором идёт речь, но это также относится и к демонстрации метода, того метода структурных перестановок, который проиллюстрирован в клинике на примере случая маленького Ганса и который не перестанет вдохновлять Лакана на его схемы и матемы, поскольку это же самое вдохновение обнаруживается и намного позже, например, в его теории четырёх дискурсов, которые также определяются порядком мест и перестановок, определённым словарём означающих, занимающих эти места. Этот концепт структуры с отдельными элементами, местами и перестановками имеет совершенно иной порядок, нежели воображаемый. Его уже нельзя смешивать с тем, что является воображаемым. В воображаемом нет отдельных элементов, но есть преобладание непрерывного и массивного, а также преобладание визуального над означающим.
Именно в своем втором Семинаре Лакан разрабатывает эту схему двойной интерсубъективности как таковую, и каноническая форма этой схемы в форме Z даётся в его работе, которую он посвящает Семинару об Украденном письме, на странице 53 Ecrits. На тот момент именно она представлена как результат разработки Лакана. Поскольку эта форма принята за образец, именно её я посоветовал редактору

использовать в начале Семинара IV, когда Лакан ссылается на эту схему. Семинар II, в котором разрабатывается и разъясняется эта двойная схема, целиком посвящён, несмотря на своё название, касающееся Я, демонстрации автономии символического и гетерономии воображаемого, демонстрации того, что символическое доминирует над воображаемым. Текст Фрейда По ту сторону принципа удовольствия становится для Лакана отправным пунктом, чтобы это продемонстрировать. Гораздо позже он воспользуется этой же отсылкой к Фрейду, чтобы выдвинуть концепт наслаждения и его отличие от удовольствия. То есть позже появится новое прочтение Лаканом этого текста Фрейда. Но это первое прочтение, которое происходит во время Семинара II, сущностно подчёркивает повторение - означающее повторение. И оно служит Лакану не столько для разработки теории Я, сколько для разработки теории символической цепи - цепи, относительно которой он приводит ряд примеров, показывая, что только она позволяет осмыслить, как появление в бессознательном одних и тех же элементов или одних и тех же требований может поддерживаться бесконечно долго и что в воображаемом порядке нет ничего такого, что позволяло бы объяснить бессрочное сохранение в памяти одних и тех же элементов. В этом отношении мы можем сказать, что случай встречи Лакана и структуры был для него счастливым, поскольку структура придала его антибиологизму пригодную для применения форму. Память, о которой идёт речь в бессознательном, не является биологической памятью, она постижима только как чисто символическая память.
Этой схемой Лакан подводит итог первых трёх лет Семинаров. Именно об этом он пишет во введении к Семинару об Украденном письме на 53 странице Ecrits, то есть в тексте, повторяющем Семинар II, но написанном в период завершения Семинара III. Лакан заключает первые три года Семинаров в одни скобки и называет эти скобки диалектикой интерсубъективности. Об итоге своей работы на Семинарах I, II и III он говорит следующим образом: «...это та диалектика интерсубъективности,
необходимость применения которой мы продемонстрировали в течение последних трёх лет наших Семинаров в госпитале Святой Анны, начиная с теории переноса до структурыпаранойи».
Можно допустить, что теория переноса является предметом Семинара I, что на Семинаре III - это структура паранойи, а в центре в качестве стержня находится Семинар II, где возникла эта схема, которая обосновала автономию символического измерения.
Другими словами, когда мы открываем Семинар IV, это момент, в который только что завершились три года разработки диалектики интерсубъективности, которые, кстати, не обошлись без изменения смысла этой самой интерсубъективности, таким образом, что Лакан постепенно закрепляет концепт интерсубъективности за тем, что имеет место на символической оси, тогда как воображаемые отношения полагаются на ложную интерсубъективность. Вот почему он определяет эти воображаемые отношения парой взаимно обратимой воображаемой объективации, которую мы выявили на стадии зеркала. Он говорит это на странице 53 Ecrits, и, очевидно, что, говоря это, он смещает смысл отсылки к Стадии зеркала, поскольку, когда он ссылался на неё, начиная с 1934 года вплоть до этих лет разработки диалектики интерсубъективности, он

обращался вовсе не к паре воображаемой объективации, но, напротив, показывал, что именно здесь вся диалектика Гегеля. Это было никак не воображаемой объективацией. Наоборот, до сих пор все усилия вкладывались в разработку символической интерсубъективности на Стадии зеркала. Но теперь он может изменить положение вещей и в новой расстановке представить свою Стадию зеркала как взаимно обратимую воображаемую объективацию. Здесь берёт начало то усилие, которое приведёт его к изменению диспозиции воображаемого по отношению к символическому. В этот момент всё ещё можно сказать, что зеркальное отношение к другому [подчиняет] всю фантазматизацию, выявляемую аналитическим опытом. К моменту начала Семинара IV ещё актуально положение, что всё, что относится к категории фантазматического, располагается на а-а', принадлежит собственному Я, именно тому собственному Я, которое осмыслено исходя из нарциссизма. Всё, что является отношениями с другим, упорядочено и подчинено нарциссизму.
В то же время в этот период он методично старается показать, что преобразующим фактором в аналитическом опыте, как и в истории субъекта, которую следует отличать от его развития, является символический порядок. Именно в этом заключается преобразующий субъекта фактор. Согласно этим положениям, внедрение символического осуществляется вплоть до самого сокровенного в человеческом организме. Внедрение означающей структуры осуществляется вплоть до самого сокровенного в организме. То, что в истории субъекта является активным, - это символические элементы. Вот почему главным примером того периода становится Украденное письмо, в котором Лакан стремится показать, что всё, что касается субъекта, строго определяется перемещением буквы, а всё остальное лишь следует за ней. Сам характер субъекта и его позиция строго заданы путём означающего. Что тогда остаётся для воображаемого? Что ж, остаётся его пассивность, остаётся его сопротивление; как-то раз в моём курсе я сослался на очень точное слово, которым Лакан периодически определяет воображаемое в отношениях с этим автономным символическим, - инерция воображаемого. Это то, что мы встречаем у Лакана, когда открываем 11 страницу Ecrits: важно то, что в перемещении означающего [...] воображаемые факторы, несмотря на их инерцию, представляют собой лишь тени и отражения. Что характеризует воображаемое, так это инерция, и символическое настолько сильно, что воображаемые факторы, даже с их инерцией, не могут помешать означающему идти своей дорогой, воображаемое - это всего лишь тень и отражение.
После того, как эта теория была разложена, - и мы можем сказать, что она была разложена благодаря изучению структуры паранойи, которая показывает, как поле большого Другого тотально подчиняет субъекта, - Лакан начинает полемику в Семинаре IV, то есть полемику с доктриной объектных отношений, доктриной, которая стремится свести аналитический опыт только к воображаемому измерению. Именно так Лакан изначально её определил. Аналитики, сторонники объектных отношений, несмотря на разницу в позициях одних и других, все определяются одной и той же формулой: они сводят анализ к отношениям а-а'. Они сводят анализ к тому, что Лакан называет утопической ректификацией воображаемой пары. В связи с этим Семинар направлен

на демонстрацию того, что аналитический опыт требует дополнения, переупорядочения на основе символических отношений. Но, по сути, речь на семинаре идёт не столько об этом. Об этом подробно говорится, например, в Главе V в связи с той статьёй, но можно сказать, что это доказательство Лакан уже продемонстрировал в течение первых трёх лет, когда прицельно откреплял символическую ось от воображаемых отношений. В Семинарах I и II есть гораздо более полемические главы Лакана на эту тему, нежели в Объектных отношениях, но тем не менее этот Семинар представляется полемическим. В прошлый раз я указал на то, что настоящая полемика в Семинаре IV является внутренней в отношении самого учения Лакана. Не то чтобы не было никаких элементов полемики с чем-то вовне, но, в конце концов, если можно так выразиться, скорее для того, чтобы развлечь публику. Это побочный продукт полемической разработки Лакана своего собственного учения.
Поскольку Лакан предлагает нам заключить в одни скобки первые три Семинара как разработку диалектики интерсубъективности, закреплённую в схеме Z, что ж, давайте тогда расположим Семинар IV в следующей тройке: IV, Vu VI - Объектные отношения, Образования бессознательного и Желание и его интерпретация. Действительно, можно сказать, что концепт третьего вмешательства Лакана - это концепт желания. Именно в этом концепте желания сосредоточены все трудности его вмешательства в психоанализ. После разработки диалектики интерсубъективности, после её удвоения и сосредоточения на символическом возникает трудность с желанием. Вот почему не будет злоупотреблением провести черту таким образом, чтобы отнести этот Семинар IV к разработке, которая, как вы знаете, будет сосредоточена на двухступенчатой схеме, названной Лаканом Графом желания. Он называет её Графом желания, поскольку, несмотря на то что означающее желания тогда не особенно ценилось, именно оно становится поворотным понятием, в котором концентрируются все трудности вмешательства Лакана в психоанализ.
Чтобы подвести итог этого затруднения, я скажу, что оно касается определения положения желания в воображаемом и того, что нельзя избежать размещения желания в символическом. В хитросплетениях и тупиках лакановской разработки что-то в конечном итоге не клеится, и если в тот момент он подходит к объектным отношениям, то именно для того, чтобы можно было это концептуально согласовать, принимая во внимание ряд феноменов.
В прошлый раз я говорил, что желание в тот момент лакановской разработки находится, по сути, на воображаемой оси. Лакан говорит об этом в Семинаре IV: теория, которая была почерпнута у Фрейда в отношении либидо, состоит в том, что Я является резервуаром либидо, которое распространяется на объекты интереса, объекты желания. Таким образом, это отправная точка и для теории желания у Лакана, которую он, однако, дополняет тем, что Я в первую очередь связано с нарциссизмом. Итак, Лакан комбинирует свою теорию желания, взяв главу Теория либидо из Трёх очерков и добавив к ней К введению в нарциссизм. Он постоянно повторяет: давайте в разговоре о либидо не будем забывать, что оно берет своё начало в Я и что Я связано с теорией нарциссизма. Он снова говорит об этом на странице 53 Ecrits: «Для начала мы хотели вернуть

доминирующее положение в определении функции Я важнейшей для Фрейда теории нарциссизма».
До начала Семинара IV позиция Лакана была такова. Вот почему, кстати, в том же тексте он напоминает о глубоко нарциссической природе любой любви. Он напоминает, что любовь у Фрейда - любовь с первого взгляда, влюблённость - по сути своей имеет нарциссический характер. Постоянно напоминает, что либидо придерживается Я, а Я -нарциссизма.
Это означает, что вытесняется всё то, что связано с функцией кастрации. Чем больше он напоминает, что либидо связано с Я и что доминирующим в функции Я является нарциссизм, тем дальше он отходит от любых ссылок на кастрацию. Мы находим это в Вариантах образцового лечения, где Лакан напоминает, что воображаемое у животных гораздо более разнообразно, чем у людей, и что у последних воображаемая функция, по-видимому, полностью направлена на нарциссические отношения, в которых формируется Я. Тот же текст Лакана изобилует ссылками на тот факт, что субъект всегда навязывает другим воображаемую форму своего собственного Я. Вот почему он говорит, что лучшее, на что оказался способен психоанализ после Фрейда и до наших дней, это выстроить естественную историю форм, в которых пленялось желание, то есть эффектов захвата желания воображаемым. Проблема в следующем: желание возвращается к образам, которые его заманивают и захватывают.
Желание - это термин, значение которому придал Лакан, и о котором можно сказать, что он приходит в большей степени от Гегеля, чем от Фрейда, но это не так важно, как важно то, что он всегда учитывает его на воображаемой оси. Желание пленено образами, но с того момента, как происходит раздвоение осей, появляется другое желание, и оно ищет свой статус. И мы можем лучше проследить в Ecrits, чем в Семинарах, как возрастает необходимость другого статуса желания. Это то, что Лакан в первый период, в котором мы и расположились, называет в гегелевских терминах желанием добиться признания своего желания. Несомненно, это приходит непосредственно от Кожева, но вообще-то желание добиться признания своего желания невозможно расположить на воображаемой оси. Дело не в признании одной формы, а в признании в речи, которая гарантируется Другим. Итак, Лакан ещё до Семинара IV в соответствии с идеей об удвоении осей, излагает то, что вы найдёте на странице 431 Ecrits: «Желание признания доминирует [...] желание быть признанным». Важен термин доминировать. Есть одно желание, которое доминирует над другим. Желание в символическом смысле, когда речь идёт о желании признания желания, о желании добиться признания своего желания, которое доминирует над любым желанием, лежащим на воображаемой оси. Лакан, по сути, позиционирует это как принцип, который недостаточно обоснован, не продуман, но который действительно отвечает своего рода логическому требованию. Мы уже можем заметить, как Лакан разводит желание в воображаемом смысле и желание в его символическом статусе. Таким образом, он может говорить о воображаемом моделировании субъекта его желаниями, более или менее фиксированными или регрессивными в их отношении к

объекту. Это также можно найти на странице 431 Ecrits во Фрейдовой вещи, где уже есть не только говорю вам, собственное Я - истина, но и многое другое.
Таким образом, с одной стороны, у нас есть измерение, в котором существует определённая форма отпечатка, который зафиксирован и подчиняет субъекта со стороны преобладающих образов, куда он в большей или меньшей степени регрессирует. Это определённый порядок вещей, который мыслим в воображаемом. Но то, что в воображаемом немыслимо, - это настойчивость повторения желания. То, что в воображаемом немыслимо, так это вечная консервация, если можно так выразиться, желания в символической цепи. То, что в воображаемом немыслимо, так это то, что у субъекта желание является объектом постоянного воспоминания в вытеснении. И так же одним движением, как он постоянно делает, например, во Фрейдовской вещи, Лакан противопоставляет два типа значения. Он противопоставляет значения вины, то есть значения символического долга, о которых он говорит в то время, то есть значения, принадлежащие регистру символического, и значения, которые для него в то время принадлежат регистру воображаемого, то есть значения аффективной фрустрации, инстинктивной недостаточности и воображаемой зависимости субъекта.
Можно сказать, что Семинар IV открывается проблемой согласования и осмысления этой двойственной природы желания. Как можно осмыслить то, что кажется преобладанием в желании воображаемого, и даже преобладанием в желании нарциссического воображаемого, и в то же время желание во фрейдистском смысле -бессознательное желание, которое передаётся в символической цепочке? Что позволяет согласовать и осмыслить эту двойственную природу желания? Кстати, я процитировал вам этот отрывок из Фрейдовой вещи, потому что в Семинаре IV вы найдёте все те же самые термины аффективной фрустрации, инстинктивной недостаточности, воображаемой зависимости субъекта. Лакан покажет, как именно они соотносятся с символическим и каким образом они в связи с этим совершенно меняют свой статус.
Итак, вот снова этот момент Семинара IV. Таким образом, я надеюсь показать вам, как Семинар отвечает на вопросы, что не подразумевает «Лакан продолжает», но отмечает концептуальную трудность, с которой он сталкивается.
Кроме того, Лакан в Объектных отношениях и в Семинарах V и VI пересматривает пришедшее от Кожева желание добиться признания своего желания. Он сконструирует Граф желания, где желание на символическом уровне больше не будет иметь ничего общего с желанием добиться признания своего желания, и даже напишет в какой-то момент, что как раз это желание структурирует до самых глубин влечения. Это была чертовски смелая затея! Потому что на самом деле - вы можете поискать - с самого начала нет указания на то, что желание добиться признания своего желания представлено во влечениях. По сути, если он так об этом написал, то только из необходимости принять то положение, что символическое до самых глубин структурирует человеческий организм, а следовательно и влечения. Что это должно быть за желание в символическом регистре, чтобы действительно можно было сказать, что оно структурирует влечения? Это можно найти на странице 343 в Вариантах

образцового лечения: «Желание это, в котором с буквальной точностью подтверждается тот факт, что желание человека отчуждается в желании другого, как раз и определяет структуру открытых анализом влечений». Он хочет продемонстрировать здесь, что влечения не являются чистыми и простыми потребностями, но мы должны видеть, что здесь отсутствует сочленение. Отсутствует артикуляция между этим желанием добиться признания своего желания и влечениями.
Я указываю на страницу 343, потому что там сразу видна отчётливая ссылка на перверсию. Прежде всего, это делается для того, чтобы показать, что влечения не являются потребностями естественного удовлетворения, и чтобы показать это, на помощь приходит перверсия. Потом на этой же странице Лакан снова ссылается на перверсию по поводу господства нарциссизма в воображаемом, говоря, что именно это обнаруживается в идеальной амбивалентности позиции, в которой он [субъект] идентифицирует себя внутри первертной пары. Таким образом, здесь есть замечание, которое будет значительно развёрнуто в Объектных отношениях, о том, что переверсия акцентирует воображаемое измерение, что если и существует клиника перверсии, то необходимо учитывать преобладающее место воображаемого в перверсии. Это одна из проблем, которую Объектные отношения попытаются решить: как объяснить это преобладание воображаемого в перверсии?
Я возвращаюсь сейчас к началу Семинара IV, к его основной отправной точке, потому что в полемике Лакана есть что-то вроде ловушки, чучела, которое нужно проткнуть. Я попытаюсь сделать это, разобрав ситуацию таким образом. Во-первых, объектные отношения в том виде, в каком они представлены нам аналитиками Парижского Психоаналитического Общества и их английскими и американскими учителями, находятся на воображаемой оси. Они просто комментируют взаимодополняемость и гармонию, существующую между субъектом и объектом. Во-вторых, поскольку объектные отношения ограничены а-а', они могут дать нам лишь частичное представление об аналитическом опыте и в ходе лечения способны привести лишь к одному существенному результату, а именно к преходящей перверсии. В этом месте связь между перверсией и воображаемым прослеживается в критике направления лечения. Если свести аналитический опыт к воображаемой взаимосвязи, то логично и нормально, что в анализе возникают преходящие перверсии. Но это ещё не всё, есть в-третьих. Если бы на этом всё закончилось, у нас была бы чисто внешняя полемика Лакана. В-третьих, на самом деле здраво принимаемые во внимание объектные отношения, расположенные на своем месте, не находятся на воображаемой оси. Объект не является коррелятом Я. И это то, что составляет суть доказательства Лакана: объект не является коррелятом Я. Его сущность связана с фаллосом. Частичной является не только принятая теория объектных отношений, но и сведение объекта к воображаемой паре а-а'. В объекте есть нечто большее, чем воображаемое. Фактически эту дискуссию вокруг концептуальной трудности согласования желания в его символическом статусе и желания в его воображаемой природе Лакан сосредотачивает, разыгрывает на вопросе об объекте. Именно в разговоре об объекте речь идёт о демонстрации того, что объект по своей сути не является объектом нарциссизма. Он не

является объектом нарциссического Я, он прежде всего объект фаллоса, он - объект в отношениях с фаллосом.
Несомненно, бывают определённые моменты, когда отношения субъекта и объекта кажутся прямыми и беззазорными, как выражается Лакан в первой главе. Бывают моменты, когда это происходит в такой взаимно обратимой и взаимодополняющей форме. Эти моменты есть в опыте. Если мы полагаем, что именно эти моменты дают ключ к объекту желания, мы ограничиваем себя таким опытом. Не следует распространять моменты кажущейся взаимодополняемости субъекта и объекта на всю совокупность отношений субъекта и объекта. По сути, это то же предостережение, которое позже Лакан делает в отношении картезианского cogito. Картезианское cogito - это момент, но, если мы расширяем этот момент от точечной и исчезающей идентичности до совокупности всего Я, мы себя этим ограничиваем. Следовательно, необходимо учитывать момент возможного совпадения субъекта и объекта или их взаимодополняемости, но не распространять его на всю клинику. Истинная предвзятость - это предвзятость более ранней теории объекта Лакана. Дело в том, что в течение многих лет он создавал теорию желания, в которой объект появлялся просто и ясно как часть теории нарциссизма, с постоянным напоминанием: всякая влюблённость носит нарциссический характер, как говорит об этом Фрейд. Постоянная вынужденная мера на тот момент. Но здесь акцент Лакана - хотя, конечно, он отводит место нарциссизму - совершенно противоположен: дело не в том, что объект имеет сущностно нарциссическую природу, а в том, что объект всегда играет свою роль в отношениях с кастрацией. Вот в чём заключается настоящая полемика, о которой идёт речь, в эффекте переключения, которого достигает этот Семинар и который будет длиться, раскручиваться в учении Лакана в течение трёх лет, чтобы всеми возможными способами встроиться и закрепиться, и мы увидим, что объект всё больше и больше интегрируется в символический порядок и всё более и более в этом же порядке разбирается, пока в результате такого символического распада объекта он не появится снова во всём своём достоинстве как объект а. Но для этого потребуется, чтобы Лакан раздробил его в символическом регистре, чтобы он распался, чтобы он исчез до такой степени, что в течение этих последующих трёх лет пришлось бы восстанавливать некоторые из его достоинств, которые таким образом испарились, и тогда возник бы вопрос реального и наслаждения, который Лакан поднимает в уже опубликованном Семинаре VII.
Два объекта, о которых идёт речь в Семинаре IV, - это «объект фобии» и объект фетиша. Фобический объект следует заключить в кавычки. Вы заметите, что я удержался - хотя это было бы не так уж и плохо для разделения на части, которые бы симметрично отражали друг друга, - от того, чтобы поместить фобический объект в название части. Я поместил объект фетиша там, где речь шла о фетише, но я не упомянул объект фобии, исходя из самых лучших побуждений. Но в итоге очевидно, что на первый план выведены два объекта: объект фобии и объект фетиша. И по какой причине эти два? Потому что оба они ставят кастрацию в центр вопроса. Потому что оба, по уже ставшим в психоанализе классическими - просто забытыми и не связанными с другими -

представлениям осмыслены в связи с кастрационной тревогой. Другими словами, стоит только остановить выбор на этих двух объектах, и мы больше не можем полагаться только на привязку объекта к нарциссизму, мы вынуждены связать объект с кастрацией. Уже у Гловера и других авторов фобический объект рассматривается как заслонка, защита от тревоги кастрации. И фетиш тоже. И именно в этом смысле Лакан далее по ходу этого Семинара скажет, что эти два объекта устанавливают границы желания, что они являются двумя крайностями желания, о которых следует сказать, что одну ищут, а другую избегают. Эта симметричная позиция фобии и фетиша и их общая связь с тревогой кастрации объясняют, почему Лакан выбирает их для Семинара и придерживается и того, и другого до тех пор, пока фобия не переходит в широкомасштабную разработку, которой в итоге отводится вся вторая половина года.
Вы знаете, что на последней странице Ecrits, на странице 877, датированной первым декабря 1965 года, то есть почти через десять лет после работы над Семинаром IV, Лакан продолжает проводить параллель между фобией и фетишем. Он ссылается на материнскую кастрацию. Он говорит в точности о нехватке пениса матери, то есть он определяет материнскую кастрацию в терминах реального: «Нехватка пениса матери, в которой проявляется природа фаллоса». Если он может так написать, то потому, что есть Семинар IV. Он раскрывает для нас природу фрейдовского фаллоса, отталкиваясь от материнской кастрации, особенно в случае маленького Ганса, и от того, что субъект расщепляется здесь по отношению к реальности. Поэтому он использует здесь термины Фрейда о фетишизме как для фобии, так и для фетиша. И далее он говорит, что субъект видит разверзающуюся бездну, от которой он будет защищаться фобией [по сути, это краткое изложение некоторой части Семинара IV: фобический объект как оплот против пропасти материнской кастрации], а с другой стороны, прикрывать её той поверхностью, на которой он воздвигнет фетиш, и это очень точная отсылка на Главу VII Объектных отношений, посвящённую функции вуали.
Можно сказать, что на горизонте этого Семинара появляется матема, которую Лакан сформулирует и объяснит гораздо позже в Семинаре Тревога. Матема, намеченная в Семинаре IV, - это матема, в которой объект располагается в качестве коррелята кастрации, как затычка кастрации: а/-ф. Эта матема ещё не сформулирована в Семинаре IV, и она является тем, что превосходит, переступает матему а-а'. Матема а-а' описывает объект прежде всего как зеркальный образ - а' здесь представляет собой собственное Я. Эта матема устанавливает сущностную значимую связь между объектом и собственным Я во взаимной объективации, и то, что начинает раскручиваться в Семинаре IV, - это осмысление объекта через его связь с кастрацией. Понятно, что Лакан сохранит ту же самую маленькую букву, маленькую букву а, обозначавшую воображаемый объект, хотя это две совершенно разные формулировки, два совершенно разных акцента в отношении теории желания. Это случится, если мне не изменяет память, только в Переносе и Тревоге. Семинар Тревога Лакан использует как возможность поправить Объектные отношения.
На самом деле можно сказать, что фобия - это страх вместо тревоги. Это как способ организовать тревогу, тревогу, которая связана с пустотой, безграничностью,

бесформенностью, заменив её страхом, выдумкой объекта, которого можно бояться, -объекта, который сам упорядочивает мир, устанавливает пределы, границы, указывает, какое пространство является безопасным, и таким образом задаёт структуру пригодных для жизни субъекта условий. Так что уже хорошо заметно то, что в операции фобии перекликается с операцией Имени-Отца. Это структурирующая операция. Можно сказать, что фобия осуществляет метафору, в которой страх заменяет тревогу. Также мы можем сказать, что в Объектных отношениях, строго говоря, нет теории тревоги. Скорее это место занимает теория страха. Фобия настолько структурирована, что весь анализ фобии указывает на тот факт, что в конечном итоге фобический объект является заменителем означающего Имени-Отца. Так в этом Семинаре преподнесена окончательная истина фобического объекта - знаменитой лошади - это на самом деле не объект. Дело в том, что на самом деле это означающее. По своей глубинной сути фобический объект является означающим, восприимчивым к различным значениям. В своем Направлении лечения Лакан охарактеризует его как означающее «на все руки». И именно из-за того, что Лакан проясняет в конце Семинара IV, а именно из-за означающей функции фобического объекта, я не хотел проводить параллель, которая, как кажется, напрашивается, между объектом-фетишем и фобическим объектом.
Что привлекает внимание тех, кто последовал учению Лакана, так это то, что он изначально принимает положение о том, что, как выразился Фрейд, тревога без объекта, тогда как у фобии он есть. Это означает, что вопрос об объекте а в смысле, которым его наделит Лакан, не может быть поставлен в этом Семинаре. Тем не менее он уже возникает на полях. Там, на полях, можно отметить тот факт, что в конечном итоге не совсем всё ясно по поводу объекта фобии, который сам по себе хорошо представлен, -это ведь лошадь; привет, лошадь, мы хорошо тебя знаем, - мы узнаём объект, репрезентирующий фобию. Но есть кое-что, что не даёт покоя, преследует и маленького Ганса, и этот Семинар, а именно то, что нет уверенности, что всё, что является тревогой, впитается и превратится в фобию. Это звучит в запоминающихся отрывках Семинара, где Лакан упоминает о чёрном пятне. Он придаёт большое значение черному пятну, которое Маленький Ганс постоянно видит где-то на голове лошади.
Чтобы доставить вам удовольствие, я могу процитировать отрывок. Это страница 244, и именно там, внизу, вы слышите ноту объекта а. Это то, что позже даёт Лакану материал для переработки объекта, чтобы помочь наделить его совершенно иным статусом, нежели репрезентативный объект:
Я не знаю, является ли фобия настолько репрезентативной, потому что очень трудно понять, чего боится ребёнок. Маленький Ганс артикулирует это массой способов [слово артикулировать следует сохранить, поскольку оно хорошо характеризует означающую артикуляцию, означающую маркировку объекта], но всегда остаётся совершенно особенный остаток.
Этот остаток и есть отправная точка того, что Лакан позже назовёт объектом а, а именно остаток после любого воображаемого представления и любой означающей артикуляции. Лакан продолжает:

Если вы прочитали текст, то знаете, что коричневая, белая, чёрная, зелёная лошадь - эти цвета, по-своему, небезынтересны - остаётся загадкой до самого конца наблюдения, и она несёт на своей морде непонятное измерение чёрного пятна, которое превращает её в животное доисторических времён. Отец спрашивает ребёнка: «Это железо у неё во рту?» «Вовсе нет», - говорит ребёнок. «Это упряжь?» - «Нет». - «У лошади, которую ты видел, есть пятно?» -«Нет, нет», - говорит ребёнок. Однажды устав, он говорит: «Да, у неё есть пятно, не будем больше об этом говорить». В чём тут есть определённость, так это в том, что мы не знаем, чем является чёрное пятно на морде лошади.
И Лакан делает ещё одно замечание, которое не развивает в этом Семинаре:
В общем, фобия не так проста, поскольку несёт в себе малоочевидные, практически несводимые к пониманию элементы. Если есть нечто, дающее представление о подобного рода негативном галлюциногенном элементе, о котором в анализе не перестают возникать всё новые теоретические изыскания, то это тот самый неясный элемент, проступающий наиболее отчётливо в виде пятна на голове лошади [...] Возможно даже, что лошади сохраняют на себе след тревоги.
Это означает, что то, что я называл метафорой тревоги, страхом, фобией, не является полным и есть остаток. И след этого остатка в наблюдении случая -беспокойство маленького Ганса по поводу чёрного пятна. Другими словами, здесь Лакан находится на грани обнаружения объекта тревоги, который является нерепрезентативным объектом и который он позже сформулирует именно как объект непредставимый, как объект а - остаток после любого представления. Это будет своего рода расширением этого чёрного пятна маленького Ганса. Размытое чёрное пятно появляется, возможно, не без связи с тревогой, как если бы лошади прикрывали этой расползающейся чернотой нечто проступающее, просвечивающее из-под неё. Но Лакан добавляет: «Но то, что появляется в переживаниях маленького Ганса, - это страх», - так что здесь он останавливается на этом.
Разумеется, это очень привлекало моё внимание, когда я переписывал этот Семинар. Я помнил об этом чёрном пятне, и я хотел удостовериться, насколько это уже было при столь тщательном анализе, проведённом Лаканом, предчувствием элемента, которому сначала он не может дать название и потом ничего особенного с ним не делает, но который он тем не менее выявляет, совершенно не акцентируя на нём внимания, не концептуализируя его, не определяя матемой, - всё это произойдёт гораздо позже. «Этот неясный элемент, - говорит он, - тайна которого напоминает лошадь в верхней части картины Тициана “Венера и Вулкан”». Я подумал: «Ну и прекрасно! Отыщем же эту картину Тициана!» Действительно, есть изображения Венеры и её мужа Вулкана, немного прихрамывающего кузнеца, и, конечно, нет ничего удивительного в том, что может существовать картина Тициана с этими двумя

персонажами и лошадью, которая, по сути, является классическим иконологическим символом необузданной сексуальности. В произведениях эпохи Возрождения лошадь часто имеет это значение. За исключением того, что между Венерой и Вулканом всё совсем не так, поскольку Венера будет искать удовлетворение в этом регистре и порядке скорее с Марсом.
Так что я раздобыл каталог работ Тициана, где всё пронумеровано, и... я не смог найти эту картину! Вообще-то, меня это очень разозлило, потому что я очень хотел получить представление о непредставимом чёрном пятне! Неожиданно в полном каталоге работ Веронезе, то есть не у Тициана, я нашёл кое-что такое, что вполне могло оказаться тем самым. Это картина, которая находится в Метрополитен-музее, на которой изображены Венера и Марс, связанные любовью. Я могу показать вам её издалека, но это мало что даст, потому что она небольшая. В левой части картины мы видим великолепную обнажённую Венеру. Её приподнятую левую ногу обхватывает маленький прекрасный ангелочек, и, поскольку она находится в неустойчивом положении, она томно обвивает левой рукой шею Марса, одетого в доспехи. Это занимает примерно две трети картины, а на одной трети, в самой правой части, если мы стоим лицом к картине, изображена лошадь с фаской и уздой, и тоже с маленьким ангелочком, который, однако, поднимает маленький клинок, чтобы помешать лошади приблизиться. Беда в том, что на этой картине нет черного пятна! Я не вижу на ней ничего похожего. Впрочем, это не так просто, потому что она всё-таки маленькая. Кроме того, эта лошадь выглядит благоразумной, здесь мы ещё находимся на стадии прелюдии к отношениям. В любом случае, я бы не поместил это на обложку семинара, потому что это пресновато, и я думал, что название Объектные отношения, которое выглядит не очень аппетитно, должно быть дополнено изображением, которое действительно донесёт, о чём идёт речь. Поэтому я бы не стал использовать эту картину, тем более я всё ещё задаюсь вопросом, действительно ли это та картина, на которую ссылается Лакан. Я не знаю, прогуливался ли он тогда по Нью-Йорку. Эта картина не входит в число самых известных у Веронезе. Очень возможно, что картина, упоминаемая в этом Семинаре, может быть и картиной Тициана. Вас довольно много, и если кто-то из вас случайно увидит на картинах эпохи Возрождения лошадь с подозрительным чёрным пятном, я прошу вас как можно быстрее мне об этом сообщить.
Чуть позже, на странице 296 Семинара IV, вы найдёте очень сочную интерпретацию этого ожидающего своего появления объекта а, когда игра маленького Ганса с означающим вдохновляет его на остроту. Это глава, которую я назвал Означающее и острота, предвосхищающая Семинар V, который опирается на комментарий Остроумия и его отношения к бессознательному. Это зарождается в работе Лакана о маленьком Гансе с игрой означающего и игрой с означающим, которую практикует этот последний.

| МАРС И ВЕНЕРА ВЕРОНЕЗЕ |
|---|
 |
Итак, в этой главе Лакан показывает, насколько хорошо Маленький Ганс разыгрывает отца:
...это постоянное высмеивание отца, которое сопровождает все высказывания Ганса и задаёт им тон.
Отец спрашивает своего сына: «Что ты подумал, когда увидел, как лошадь упала?» Ганс говорит нам, что подхватил глупость именно в связи с этим падением. «Ты подумал, - ведя себя, как слон в посудной лавке, говорит отец, - что лошадь умерла». Как позже отмечает отец, сначала Ганс с совершенно серьезным видом отвечает: «Да, я действительно так и подумал». А потом вдруг оживляется, смеётся - это записано - и говорит: «Ну нет, это неправда, это просто шутка, Spass, я её только что придумал».
Наблюдение испещрено маленькими штрихами такого рода. Это был только один пример. После того как Фрейд увлёкся на мгновение трагическим отзвуком падения лошади - можно ли быть уверенным, что этот трагический отзвук, как и многое другое, имеет место в психологии маленького Ганса? - он переключается на другой, отцовский, образ, отец с усами и в очках, которого он видит на консультации рядом с Гансом. С одной стороны, очень нарядный, забавный маленький весельчак, а рядом с ним полноватый, щеголеватый, сверкающий своими очками и исполненный добрыми намерениями его отец. Некоторое время Фрейд колеблется. Когда

они задаются вопросом пресловутой черноты над лошадиным ртом и думают, а что бы это могло значить, Фрейд говорит: «Ну вот, вытянутая голова, это ведь осёл». А когда я говорю осёл...
Вы всё равно скажете, что эта неуловимая чернота возле рта лошади представляет собой зияние реального, всегда скрытое за вуалью и за зеркалом, и оно всегда появляется на фоне в виде пятна.
Вот здесь Лакан ближе всего подходит к тому, что назовёт объектом а. Далее он говорит:
Откровенно говоря, возникает своего рода короткое замыкание между божественным характером профессорского превосходства, который не без юмора подчёркивает Фрейд, и тем суждением, которое, судя по признаниям современников, всегда было готово сорваться у Фрейда с губ и которое выражается во французском написании третьей буквой алфавита с последующим троеточием. Ну и м.к, думает Фрейд, говоря себе, что находящееся перед ним пересекается и сходится интуитивным видением бездонности, открывающейся перед ним глубины.
Проще говоря, речь о бездонной глупости. Лакан здесь имеет в виду слово con (фр. абс. лексика, мудак, а скорее пиздюк, поскольку это ещё и вагина - прим. переводчика), позаимствованное, осмелюсь предположить, у материнского пениса. Это слово появляется также не без связи с упомянутой им однажды фразой Ренана Глупость даёт представление о бесконечности, куда Лакан к глупости добавляет и разглагольствования психоаналитиков тоже. В этом уже есть намёк на логическое измерение [консистентность] объекта а, а также предвосхищение того, на что Лакан позже обратит внимание, говоря, что означающее глупо. В любом случае здесь уже заложен краеугольный камень, который заключается в анализе чёрного пятна с уже присутствующим у Лакана представлением о том, что за любым изображением и любым представлением есть непредставимое. И где это было у Лакана до сих пор? Ну очевидно, что именно в форме того, что в любой идентификации Я присутствует смерть - смерть, которая для каждого является чем-то непредставимым. Таким образом, здесь есть определённая нить, ряд намёков, которые могут кристаллизоваться и которые позже кристаллизуются в теории объекта а как непредставимого.
Можно сказать, что этот Семинар посвящён прибытию в батальон ещё одного типа объекта, неизвестного до сих пор. И если мы ещё и не дошли до свержения a' через а/-ф, то всё же есть переход от дуальности a-a' к совершенно другой конфигурации, которая является троичной - фаллос, мать и дитя, - которая уже фигурирует на краю Семинара III. Это означает, что мы с самого начала переходим от представления о взаимно обратимых отношениях объекта с собственным Я, от представления о нарциссической природе объекта, к представлению, которое между парой матери и ребёнка размещает фаллос:

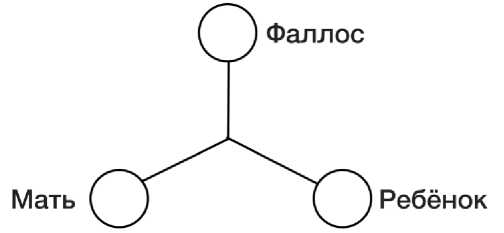
Вы найдёте это начало артикуляции Лакана в более завершённой форме, если обратитесь к схеме R в статье О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психозов, где Лакан описывает треугольник, в котором phi - воображаемый фаллос, m - собственное Я, i - зеркальное отражение, то есть он берёт тройку, представленную в Семинаре IV: малое phi в вершине этого прямоугольного
треугольника и пару а-а', где m - собственное Я и i - зеркальное отражение:

Другими словами, он помещает фаллос в центр воображаемых отношений, между собственным Я и его зеркальным образом и достраивает конструкцию, продолжая линии до пункта М, матери, на верхней линии, и I, Я-идеала или пометки ребёнка, на перпендикуляре

Иначе говоря, на этой схеме, представляющей психоз, есть исправление, касающееся пары а-а', которое состоит в том, что фаллос вписывается в центр согласно схеме в Объектных отношениях, и которое показывает, что пара матери и ребёнка поддерживает и перекрывает отношения собственного Я и его образа. Лакан прямо говорит об этом и именно таким образом меняет схему Стадии зеркала, вводя фаллос и достраивая пару матери и ребёнка на воображаемой паре. По этому поводу он говорит: «Два термина нарциссического отношения, т и I, служат аналогами символических отношений матери и ребёнка, которые его покрывают». Вот тип решения и

согласования, к которому стремится Лакан, вводя фаллос в качестве третьей стороны в отношения, в которых он ранее отсутствовал. Впрочем, вы знаете, что эта схема завершается четвертой вершиной - отцом, то есть позицией Имени-Отца в Другом, предположительно аналогичной тому, что Лакан в то время называл закреплением значения субъекта под фаллическим означающим:
Ф / М
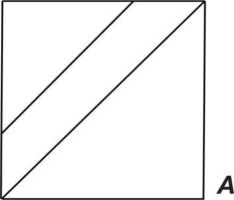 |
| I Enfant désiré Père(Idéal du moi) (Nom du Père) |
Вы знаете, что Лакан сам попытается указать нам, где в этой схеме может присутствовать объект а. Он действительно подчёркивает тот факт, что если соединить m с M и i с I, то получится лента Мёбиуса, и следовательно оставшиеся части подобны оправе, эквивалентной объекту a. Но мы сейчас заняты другим, отметим только, что, когда Лакан занимается этим вопросом, он преследует цель понять, где уже тогда должен был быть расположен объект а. И здесь, на этой схеме, которая самым непосредственным образом вдохновлена Объектными отношениями и которая объединяет этот Семинар со случаем Шребера, мы видим, как Лакан пытается понять, где он уже предвидел объект а. Это сделанное через десять лет топологическое исследование Лакана, направленное на понимание истока его предвидения топологии объекта а, есть у нас в более удобной, более репрезентативной форме в аватарах чёрного пятна. Хотя в то время у Лакана всё ещё не было матемы, чтобы зафиксировать этот феномен, он указывает на него и комментирует его, даже играет с ним, и это урок того, что нужно делать с элементами, которые мы не знаем, куда поместить - не дело прятать их под сукно, гораздо интереснее выложить их на стол, покрутить их немного туда-сюда или, если мы точно не знаем , что с ними делать, возможно, рассказать о них какие-то байки, но точно не забывать о них до лучших времён, так как впоследствии мы сможем от них оттолкнуться.
Всё-таки то, что меня особенно веселит в этом споре Лакана с самим собой, так это видеть, кому в итоге попадает. Кому в итоге попадает? А попадает всегда другим, Парижской Психоаналитической Ассоциации, например, ещё попадает Франсуазе Дольто. Франсуаза Дольто читает лекцию и говорит об образе тела. На самом деле, если кто-то что-то и говорил об образе тела, так это Лакан с его Стадией зеркала. Всё, что он говорил до сих пор, так именно то, что объект - это он по преимуществу и есть. Образ тела - это по преимуществу объект. И тут Лакан вдруг выдаёт: «Ох, что мне пришлось выслушать прошлым вечером? Было сказано, что образ тела - это объект! Но ведь вовсе нет, вовсе нет! Это не объект, нет ничего, что отличалось бы от объекта сильнее, чем

образ тела! Это не только не объект, но и никогда не может им быть!» Лакан опять переобулся и все снова повелись. И напротив, появляется то, что он отмечает в противовес Франсуазе Дольто, - это Винникотт и его переходный объект, который, в частности, является не образом, а, противоположно, краешком объекта - частью объекта, имеющего контрфобическую ценность. Этот выбор в пользу Винникотта и в ущерб Дольто, конечно, направляет учение Лакана к краю.
Что ж, комментируя этот Семинар, я потратил больше времени, чем планировал, и теперь придется посвятить ему ещё и следующий раз, чтобы потом, я надеюсь, перейти к чему-то другому.
9 марта 1994

встреча XI
Не напрасно в прошлый раз я попросил помочь мне разобраться в деле картины вроде бы Тициана, которую я пытался приписать Веронезе. Не напрасно, потому что этот переход от Тициана к Веронезе позволил одному из вас найти ту картину, которая, как я полагаю, и упоминаетсяна самом деле. Она находится не в Метрополитен-музее, а в Турине, и это картина Веронезе. Действительно, гораздо более правдоподобно, что Лакан мог увидеть именно её, учитывая частоту его поездок в Италию, засвидетельствованную в его семинарах.
Я обязан Жаку Бори, аналитику из Лиона, присутствующему здесь, за то, что он прислал мне по факсу копию этой картины Веронезе, которая называется «Венера, Марс, Купидон и лошадь» и которая есть в моем каталоге за несколько страниц до картины, на которую указал я. Жак Бори только что передал мне цветную копию этой картины, и мы видим, что это картина, на которой изображены Венера и Марс, которые гораздо ближе к акту, чем на другой картине; в частности, обнажена не только Венера, но и Марс, и в таком положении, в котором они, ещё не отдаваясь, тем не менее подготавливают момент, их руки соединены, и не для молитвы. Руки Венеры в руках Марса, руки обоих раскинуты, и Венера готова сдаться.
И действительно, здесь мы, как это ни странно, видим лошадиную голову, только слева, а не справа, как на другой картине, которую я показывал в прошлый раз. Видна только голова, а не вся лошадь, - голова лошади, которая вторгается и которую удерживает или приводит маленький Купидон. И на макушке этой лошадиной головы мы видим любопытную черную гриву, которая, непослушно разделяясь, спадает почти на глаза. Это расположено не точно над парой, а левее и всё-таки выше тех двух тел на грани объятия.


Я передам, почему бы и нет, это изображение по рядам, поскольку не могу его спроецировать. Я полагаю, что благодаря Жаку Бори картина найдена, поэтому в будущем издании я думаю, что смогу считать эту проблему решённой, если только другой первооткрыватель не предложит нам более убедительную версию, но, честно говоря, такое мне кажется маловероятным. Вот, я даю её вам, и вы, пожалуйста, передавайте её дальше. Смею надеяться, что в конце концов она вернётся ко мне, в ином случае Жак Бори, я надеюсь, даст мне ещё одну. Она ярче, чем изображение на картине Метрополитен... Послушайте, я не знаю, чем вы там занимаетесь, но если не передавать её быстро, то она не доберётся до последнего ряда. Посмотрите на пятно и передавайте дальше! Я говорю себе, что я должен делать это чаще: просить вас внести посильный вклад, когда я в затруднении.
Я сказал, что Семинар IV больше не читается, как раньше. Подтверждение этому я получаю отовсюду. Подтверждается, что есть старое прочтение и есть новое прочтение. В этом и заключается преимущество пунктуации. Есть чтение I и чтение II для каждого, даже для тех, кто, если можно так выразиться, настроен недоброжелательно. Но то, что я даю вам здесь, на этом курсе, - это элементы чтения III. Я как бы выворачиваю Объектные отношения наизнанку. Я приглашаю вас прочитать этот Семинар с изнанки его замысла, со стороны его основополагающей проблемы. В этом издании, в этом чтении II мы можем дать убаюкать себя образам, которые создаёт Лакан, и тем, что он привносит, чтобы как-то переубедить самого себя, то есть установить, в какой степени он до сих пор шел по ложному пути, и убедиться, что сейчас, в 1956-57 годах, он выбрал верное направление.
В каком направлении было сподвигнуто это клиническое исследование? Этот Семинар указывает нам на него, а именно на то, как объект в психоанализе мигрирует от воображаемого к символическому. Клинические факты, будучи изложенными и упорядоченными Лаканом, говорят о том, что воображаемого недостаточно, чтобы определить объект. Хотя отсылка к воображаемому сохраняется на протяжении всего Семинара, тем не менее значимость объекта не связана с воображаемым, даже если может показаться, что его природа относится именно к этому измерению. Другими словами, пара а-а', связь объекта и собственного Я - связь, которая находит своё обоснование во фрейдовском учении о Я-либидо, - не позволяет поставить на надлежащее ей место функцию объекта. Отсылка, преобладающая в клинических фактах, - это отсылка к символическому. Даже когда кажется, что воображаемое преобладает, само по себе это преобладание в действительности устанавливается в символических координатах субъекта. И это также относится к феноменам, возникающим в аналитическом лечении.
Отсылка к фобии приобретает здесь своё значение, что и продемонстрировано в Семинаре IV, половина которого посвящена разработке объекта фобии. По сути, фобия в этом отношении является пограничным примером, поскольку - и именно на это направлена демонстрация Лакана - сам по себе фобический объект, который мы по понятной причине могли бы считать воображаемым, а именно лошадь - это представление, которое при случае обнаруживается в произведениях искусства, и мы

понимаем, что это не то же самое, что слон в Семинаре I; фобический объект - и в этом состоит демонстрация Лакана - на самом деле является означающим. Именно это соображение заставило меня тщательно избегать изображения лошади на обложке -избегать увлечения внимания изображением лошади, тогда как демонстрация идёт совершенно противоположным путем, а именно в том направлении, что фобический объект - это не образ, а означающее, которое в своей наиболее глубинной сути замещает отцовское означающее.
Другой объект, рассматриваемый в этом Семинаре, пусть и менее проработанный, - это объект фетиша, который, несомненно, в том виде, в каком он предстаёт в чтении II и даже в чтении I, не является означающим, но в отношении которого также нет утверждения, что он целиком и полностью представляет собой образ. Его точный статус покрывает, так сказать, своего рода вуаль. Фобический объект, со своей стороны, в любом случае требует отсылки к символическому, к какому-то подвиду символической кастрации. Это объект, как его с самого начала определил Фрейд, клинический смысл которого остаётся неуловимым, если не связать его с фаллосом, точнее с символической нехваткой фаллоса. Поэтому в прошлый раз мне довелось сказать, что уже на горизонте этого Семинара по поводу объекта-фетиша мы обнаруживаем надобность, которая позже подтолкнёт Лакана произвести запись а/-ф. Эта более поздняя формула специально предназначена для того, чтобы зафиксировать функцию объекта как замены, как восполнителя символической кастрации воображаемого фаллоса.
Так я резюмирую то, что подчеркнул в прошлый раз: основополагающая проблематика этого семинара заключается в вопросе, является ли собственное Я коррелятом объекта в психоанализе. То, что Лакан ставит под вопрос, касается двоичности системы а-а', которая предполагает, что объект коррелятивен собственному Я. И ответ, который Лакан даёт в Семинаре IV, противоречит его собственному предыдущему построению и заключается в том, что коррелятом объекта является фаллос, а не собственное Я. Фаллос как воображаемый, но также и как объект, участвующий в символической кастрации. Это отрицательный фаллос - фаллос, заминусованный (négativé) означающим. Таким образом, недостаточно
довольствоваться очевидностью того, что объект является аттрактором либидо. Для объяснения образования объекта недостаточно предположения о первичном резервуаре либидо, из которого изначальное либидо собственного Я перетекает в объект. Если этот объект и приметен (un appât) для либидо, то с учётом того, что его приметность зиждется на его «нетности» (un «n'y a pas»). Приманка (appât) основана на «нет» отсутствия (n'y a pas) - фаллоса нет.
Затем в Семинаре разрабатывается концепция кастрации как символической нехватки воображаемого объекта. Это означает, что, конечно, объект является воображаемым, но он приобретает своё значение для желания только от символической нехватки. Что такое символическая нехватка? Это, прежде всего, фаллическая нехватка, минус фи, и Лакан позже пропишет её курсивом - типографской пометкой воображаемого в Écrits. Рассматриваемая символическая нехватка - это

фаллическая нехватка, но в дальнейшем её развитии за пределами Семинара IV и в продолжении его хода окажется, что эту символическую нехватку также можно записать как $, поскольку субъект оказывается расщеплённым в отношении этой нехватки, как сам Фрейд отмечает это, рассматривая фетишизм. Таким образом, именно в этом Семинаре IV заложены те самые основы, которые чуть позже, на Семинарах V и VI, приведут Лакана к формуле фантазма, записанной следующим образом: ($ ◊ а) - формуле, обобщающей формулу а/-ф и указывающей на то, что воображаемый объект обнаруживает свою функцию по отношению к субъекту как субъекту расщеплённому или как к субъекту нехватки.
В сущности, урок, извлечённый из объектных отношений, отношений субъекта с объектом, превратится в концепт фантазма как связи перечёркнутого субъекта и объекта. В ходе своей разработки Лакан откажется от отсылки к объектным отношениям, но на это место придёт концепт фантазма. Когда мы обращаемся к понятию фантазма, фундаментального фантазма или пересечения фантазма как завершения анализа, мы говорим, что мы имеем дело с лакановской версией объектных отношений. Концепт фантазма является следствием разработки Лаканом объектных отношений, где в их основу помещена инстанция нехватки. В Семинаре IV это фаллическая нехватка, но впоследствии она обобщается как субъективная нехватка, так что сосредоточение на проблеме объекта в этом Семинаре является предисловием к новой теории желания, которую Лакан разработает в Семинарах Vи VI. Если мы хотим понять, что мотивирует эту новую теорию желания, которая остаётся ключевым моментом в учении Лакана, то мы найдём это именно в Семинаре IV. Здесь мы находим основы, основы того, что остаётся своего рода классической доктриной учения Лакана, и я говорю классической в том смысле, что она и преподаётся сейчас в классах.
В прошлый раз я сказал, что для Лакана речь шла о согласовании двух статусов желания: статуса желания как воображаемого на оси а-а' вместе с необходимостью учесть символический статус желания. Вплоть до Семинара IVсимволическое желание для Лакана было - я уже говорил об этом - гегелевским желанием, кожевским желанием добиться признания своего желания, с необходимостью принимаемым следствием того, что символическое желание доходит до подчинения влечений, как об этом написано в Вариантах образцового лечения. Так вот, это положение по ходу Семинара IV пропадает. Мы становимся свидетелями исчезновения этого желания добиться признания своего желания. То, что приходит на смену, - и проходит через всю эту разработку - то, что удивительным образом приходит на смену, - это любовь. В этом семинаре мы сталкиваемся с символическим статусом желания в учении о любви. Мне уже довелось сказать, что по-настоящему этот Семинар стоило назвать Женская сексуальность или Функция кастрации. Можно было бы также сказать, что его настоящее название Учение о любви - любви, которая точно не полагается на основу нарциссической влюблённости, если сослаться на Фрейда, любви, которая не понимается на основе воображаемого, но любви, мыслимой на основе символического, как самого центра символического, стержня символического.

Прежде чем мы к этому перейдем, я рассмотрю вопрос с другой стороны, напомнив, что в тот период, когда Лакан произносит Семинар IV, он пишет статью Инстанция буквы. Он пишет её в мае 1957 года, то есть когда он произносит то, что стало главой XIX Семинара IV, которую я назвал Перестановки, и главу XX, которую я назвал Преобразования. Вообще, есть три главы, XVIII, XIX и XX, в выборе названия для которых я испытывал поначалу некоторые затруднения, поскольку в них рассматриваются различные вопросы, касающиеся маленького Ганса. В конце концов я решил обозначить каждую из них квазиматематическим термином, поскольку каждый из этих уроков, как мне показалось, подчёркивал своё особое значение, и я оставил: Схемы, Перестановки, Преобразования.
Итак, именно в то время, когда Лакан занимается наблюдением случая маленького Ганса, он пишет Инстанцию буквы, между 14 мая и 26 мая - в даты, указанные в конце этой статьи. Стоит сослаться на эту работу, которая пишется одновременно с тем, как Лакан произносит Семинар IV, именно по той причине, что этот Семинар, если читать его обстоятельно, чтением II, выводит на первый план метафору. Весь комментарий наблюдения случая маленького Ганса подытоживается отцовской метафорой, то есть положением о том, что означающее желания матери -которое Лакан чуть позже, через три месяца после завершения Семинара IV, назовёт DM - должно быть заменено Именем-Отца и что из-за неспособности реального отца воплотить отцовское означающее начинается фобия как операция означающего, которое является заменителем (лошадь по-гречески - hippos) означающего желания матери. Таков тезис, разработанный к концу комментария наблюдения случая маленького Ганса.
Таким образом, этот семинар сосредоточен на представлении метафоры как замены одного означающего другим, но благодаря статье Инстанция буквы мы можем увидеть его скрытую пружину. Кажется, что Семинар сводится к основополагающей функции метафоры как замене одного означающего другим, но на менее очевидном уровне - на самом деле прямо так это не представлено, но именно так появляется в Инстанции буквы - речь идёт о функции метонимии. Именно функция метонимии представлена и подчёркнута в Семинаре IV - функция метонимии, которая заключается не в замене одного означающего другим S'/S, а в соединении одного означающего с другим: S...$. Это то, что Лакан называет метонимической структурой...
Из зала: не $, а S'!
Да, S... S'. Это то, что Лакан называет метонимической структурой. Она не разъясняется как таковая на этом семинаре, но она представлена в статье Инстанция буквы в терминах, которые я сейчас напомню и которые имеют самое прямое отношение к объектным отношениям. Это страница 515 Écrits: «Именно связь означающего с означающим делает возможным элизию, с помощью которой означающее вводит нехватку (manque de l’étre) бытия в объектные отношения, пользуясь присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание, направленное на ту самую нехватку, которой это значение служит основанием».

Я постараюсь объяснить вам эту фразу. Она значительно опережает то, что Лакан говорит в Семинаре IV. Это чрезвычайно точная формула, основанная на матеме, на квазиматематической формуле, которой нет в Семинаре IV, но которая тем не менее направляет его. О чём это вообще? Дело в том, что в основе объектных отношений - и таков вывод Лакана на этот счёт - лежит элизия. А что же такое элизия? Это именно нехватка - нехватка, внедрённая означающим в объектные отношения. Лакан квалифицирует её, как нехватку [расположенную] в бытии (manque de l'être), а чуть позже он предпочтёт выражение нехватка бытия (manque-à-être).
В этом состоит вклад Лакана, в этом его разрушение, его деконструкция доктрины объектных отношений. Чего не хватает в принятой доктрине объектных отношений, так это функции означающего как убийства вещи, поскольку означающее отменяет то, что является субстанцией реального объекта, поскольку оно оказывает смертоносное воздействие на реальный объект, следовательно, рассматриваемый объект в объектных отношениях возможно помыслить только на фоне этой аннуляции реального объекта, на фоне символической аннуляции, то есть аннуляции реального объекта означающим. Так Лакан сводит воедино в, так сказать, абстрактной манере демонстрацию своего положения о том, что объект мыслим только в его взаимосвязи с кастрацией как символической нехваткой. Присутствие кастрации в объекте относится к тому омертвляющему воздействию, которое оказывает означающее на реальный объект.
Надеюсь, это проясняет формулу: «...элизию, с помощью которой означающее вводит нехватку (manque de l’étre) бытия в объектные отношения». К этой формуле есть дополнение, которое остаётся загадочным, когда мы читаем Семинар Объектные отношения, потому что в нём она ещё не разработана. Лакан сделает это в следующем году. Добавим, что означающее пользуется присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание. Как я могу вам это объяснить? То, что Лакан здесь называет свойством обратной референции, относится к данности символического порядка - данности, которую он позже перефразирует, сказав, что означающее всегда отсылает к другому означающему.
Эта отсылка, зачем её специально связывать со значением? Это нужно в том измерении, где эта отсылка выводится на первый план, когда мы задаёмся по поводу какого-либо означающего вопросом, что оно значит. Что означает А? Общая структура ответа на этот вопрос заключается в том, что А означает Б. Вопрос о значении одного означающего всегда требует в качестве ответа выдвижения другого означающего. Это то, что Лакан сформулировал в ряде предыдущих текстов, говоря, что значение всегда отсылает к другому значению. Именно постольку, поскольку до сих пор он всегда формулировал эту структуру отсылки таким образом, он говорит об отсылке значения. Одно значение всегда отсылает к другому. В Инстанции буквы он указывает на то, что именно в эту структуру отсылки - которая присуща, скажем так, взаимосвязи означающего и означаемого - вклинивается желание. Именно в эту структуру отсылки вложено желание. Желание проскальзывает в отсылку от значения к значению. Это

означает, что желание - это не проекция либидо собственного Я на объекты, но вложение в структуру отсылки, присущую символическому порядку.
Если кто-то хочет дополнить это означающее присоединение, присущее метонимической структуре S...S', можно дополнить его термином, которым является означаемое. Действительно, когда мы задаемся вопросом означаемого означающего, всегда происходит отсылка к другому означающему, и когда Лакан говорит, что отсылка значения нужна для вложения желания, он имеет в виду, что желание, как означаемое, скользит под цепью означающих.
(Б ... Б') s
Исходя из этого, в статье Направление лечения на странице 640 Écrits - я придерживаюсь здесь продвинутой точки зрения на его учение - он сформулирует то, что является выводом Семинара IV, а именно: «Желание - это метонимия нехватки бытия». Означающее вводит нехватку, аннулируя объект, и желание определяющим образом связано с нехваткой, привнесённой означающим. Чтобы суметь возродить свою прежнюю доктрину о желании, связанном с собственным Я, Лакан здесь же, как бы это ни было странно, вслед за только что процитированной фразой о нехватке бытия на странице 640 Écrits, добавляет: «Я - это метонимия желания».
Если мы говорим, что следующий Семинар V продвигается с опорой на Семинар IV, то потому, что Лакан, отталкиваясь от остроты, развивает мысль и старается продемонстрировать, что объект как объект желания всегда метонимичен. Именно на этой формуле, которая не была озвучена в Семинаре IV, тем не менее сходится вся разработка. Добавлю, что именно в этом Семинаре IV мы видим то, что позже приведёт Лакана к утверждению, и всегда в соответствии с этой самой структурой отсылки, что означающее представляет субъекта другому означающему. Означающее для другого означающего - это отражение той метонимической связи, которую Лакан позже, в Семинаре XI, обозначит как S1-S2 вместо S...S'. И вместо маленькой буквы s означаемого он просто запишет нехватку в бытии (manque de l'être) или нехватку бытия (manque-à-être), а именно $. Таким образом появляется матрица S1-S2 и субъектная нехватка, курсирующая в означающей цепи $.
S1 S2 $
Позже Лакан дополнит эту намеченную в Семинаре XI схему, поместив на четвёртое место объект а, но уже в Семинаре IV очерчены линии этой структуры, и именно поэтому он знаменует собой весьма заметный отход от первоначальной разработки первых трёх Семинаров.

S1 S2
$ а
Теперь я вернусь в пределы этого горизонта, то есть к Семинару IV, а именно к тому, что сформулировано в его главе III. Действительно, Лакан во время этого Семинара от раза к разу обогащает свою концепцию символического порядка, как бы между делом развивая новую доктрину означающего, которую уже на явном уровне сделает темой следующего семинара. В главе III он приводит схему, которая может разочаровать своей простотой, смысл которой заключается в расположении означающего и означаемого по двум параллельным линиям. Я записываю означающее как Sa, а означаемое как 5ё:
Sa----------------------------------------------
5ё ---------------------------
Эта схема параллелей разочаровывает, если мы не понимаем, что её ценность заключается в том, чтобы пересмотреть исходный пункт, который Лакан напомнил в главе I, а именно перекрёстную схему, о которой я неоднократно говорил, - ту самую схему перекрестия между символическим порядком, S-А, и воображаемой осью, а-а'. Схема параллелей приобретает свою ценность, если мы понимаем, что она противоречит тому, о чём напомнил Лакан в главе I. В перекрёстной схеме либидо находится на воображаемой оси, которая препятствует чисто символической реализации. Перейти от этой схемы пересечений к схеме параллелей означает сказать нечто совсем другое. Обратите внимание на тот факт, что это две параллели, но тем не менее они не равны. Линия, обозначающая означающее, выше линии, обозначающей означаемое, и это положение отражает то, что Лакан хочет подчеркнуть, а именно, что либидо, желание, означаемое всегда отмечены отпечатком означающего. Таким образом он заменяет перекрёстную схему, в которой противопоставляются означающее и означаемое, означающее и желание, означающее и либидо, на схему, в которой означающее превосходит, доминирует, накладывает свой отпечаток на означаемое, а также на желание и либидо.
Вот что вы найдёте на страницах 47-48 Семинара: «Всё, что проявляется в вожделении (envie) [это кляйнианский термин], психической тенденции, либидо субъекта, всегда отмечено отпечатком означающего». Вместе с оговоркой, которая предвосхищает дальнейшую разработку объекта а : «...что не исключает того, что во влечении или стремлении может быть что-то ещё, что никоим образом не отмечено отпечатком означающего». Но центральным пунктом, который Лакан развивает в Семинаре IV, является то, что всё, относящееся к порядку либидо и желания, всегда отмечено означающим, всегда отмечено смертоносным воздействием означающего,

всегда отмечено нехваткой, которую означающее привносит в либидо и в желание, -той нехваткой, которую мы можем назвать кастрацией или перечёркнутым субъектом.
Таким образом, объектные отношения не так просты. Они не просто связывают субъект и объект. В нём всегда присутствует и действует этот смертоносный, омертвляющий эффект. Позже, в Семинаре XI, Лакан назовёт его афанизисом - от греческого aphanisis, что означает исчезновение, - заимствуя у Эрнеста Джонса этот термин и уже в Семинаре IV задаваясь о нём вопросом. Всегда то, что располагается на этой линии, на линии желания или означаемого, отмечено нехваткой, введённой означающим. И именно в этой связи, кстати, на странице 48 Лакан впервые использует слово «требование» (demand) - термин, который он позже замечательным образом применит в сочетании с желанием. Но именно здесь, на странице 48, мы находим его, я думаю, впервые, причём на английском языке: demand. Очевидно, это было вдохновлено английским языком, где это слово demand означает требование (exigence).
Если Лакан ввёл это слово для обозначения того, что происходит по линии либидо, то именно потому, что в либидо, в аппетите, в вожделении (envie) нет ничего естественного. Либидо отмечено означающим и именно поэтому по сути - это требование (exigence). Это не просто инстинкт, это не чисто естественный аппетит, уже на этом уровне он устанавливается в субъекте как требование (exigence). Существует разница между аппетитом и требованием, аппетит можно рассматривать как нечто естественное, в то время как требование составлено означающими. Требование (exigence) - это то, что по-французски называется запросом, просьбой (demande) или мольбой. Это уже формулировка. Поэтому Лакан пишет: «Означающее вводится в естественное движение, в желание или в требование (demande). Последний термин используют в английском языке для выражения примитивного аппетита в смысле требования (exigence), хотя аппетит как таковой не отмечен законами означающего».
Лакан интересуется здесь тем, что в конечном итоге в слове требование (demande) указывает на то, что сам естественный аппетит отмечен законами означающего, и здесь расположен исходный пункт его построения, которое станет записью D/d. Есть требование, и под требованием, передвигаясь под ним, располагается желание. Таким образом, любые отсылки к естественному аппетиту оказываются исключёнными.
Всё построение Лакана, представленное в главе III, состоит в том, что означающее заимствует элементы у тела. Оно заимствует элементы в воображаемом, оно заимствует элементы у любого воображаемого значения, и эти элементы берутся означающим и принимают форму того, что Лакан мимоходом называет орудиями (armes). Слово орудия, которое он использует, определённо должно иметь отношение к гербу. Действительно, на гербах присутствует ряд репрезентативных элементов: башни, лошади, единороги, которые являются воображаемыми элементами, но имеют символическое значение в пространстве герба. Лакан, кстати, приводит забавный пример на эту тему. Он говорит о том, что нельзя свести на нет в воображаемом, из чего мы делаем символы. Он говорит о фаллической эрекции, которая порождает ряд

символов, а также об эрекции собственного тела - прямостоящего тела человека или животного. В этой связи он указывает на символ стоящего вертикально камня как на своего рода минимальный символ, примеры которого действительно можно найти на останках доисторических мест обитания, где минимум символизма достигается в том, чтобы взять и поставить вертикально камень, - в этом примере имеет место переход от представления о реальном объекте к его символической функции.
Что забавно - я заметил это несколько лет назад - так это то, что как раз в непосредственной близости от того места, где Лакан написал ряд своих произведений, то есть недалеко от его загородного дома в Ивелин, в Гитранкуре, есть - по местному выражению - Прямой камень; он расположен посреди поля в старых руинах в пятистах метрах от дома Лакана, и он действительно является таким доисторическим камнем, стоящим вертикально в доступном для посещения месте.
Итак, вот то, что Лакан называет символизацией, которая позже даст некоторым его ученикам материал для больших исследований. На странице 51 Объектных отношений он пишет: «Эти элементы [те элементы, которые заимствованы в воображаемом, в воображаемых значениях, в теле, в природе] вводятся в место означающего, которое характеризуется тем, что артикулируется в соответствии с логическими законами». Следует понимать, что в схеме параллелей это отражено, с одной стороны, в расположении означающего над означаемым, а с другой стороны, в том, что в означающее привнесены элементы, заимствованные в означаемом. Они становятся символами. Большой камень, лежащий на земле, устанавливается вертикально, и в этот момент, когда он установлен и может послужить ориентиром для людей, он становится символом.
Это вводит в психоанализ учение об объекте: объект всегда обработан, он никогда не бывает просто реальным или воображаемым, он всегда переделывается, обрабатывается означающим. Вот что формулирует Лакан на странице 54, когда критикует идею развития как гармоничного и непрерывного перехода субъекта от одного объекта к другому: «Напротив, речь идёт о кризисном развитии, в котором уже с самого начала объекты, как мы их называем, различных периодов, орального, анального, уже принимаются за нечто другое, нежели то, чем они являются [это один из способов отразить их символизацию]. Эти объекты уже обработаны означающим и подвержены операциям, чью означающую структуру от них уже не отмыслить».
Другими словами, хотя в духе Фрейда можно было бы думать, что есть простой переход от собственного Я к объекту, вместо этого предполагается необходимость работы - работы, которая является воздействием означающего на объекты. Исходя из этого, природа всегда расприроживается (dénaturée) означающим. Что имеет одно важное последствие, на которое указывает Лакан, а именно то, что между полами нет естественно заданной гармонии. Вот как звучит это на странице 49: «В развитии ребёнка, [здесь он ссылается на Фрейда] и, в частности, в его отношениях с сексуальными образами, ничто не указывает на наличие уже проложенных рельсов в направлении свободного доступа от мужчины к женщине и обратно. Никоим образом

речь не идёт о том, что для их встречи нет другого препятствия, кроме как какой-то несчастный случай, который может произойти в пути».
Уже этот отрывок о воздействии означающего на то, что полагается естественным, намечает перспективу для утверждения впоследствии отсутствия сексуальной связи. Это сказано уже здесь. И в то же время ещё не совсем, поскольку в точности говорится о том, что воображаемое не отвечает на вопрос о том, как мужчина связан с женщиной и как женщина связана с мужчиной, и чтобы узнать это, нужно пройти через посредничество означающего. Именно в тот момент, когда Лакан удостоверится, что означающее также не отвечает на этот вопрос, он сможет сформулировать, что сексуальной связи нет и что самая жестокая нехватка, вписанная в естественность в результате воздействия означающего, - это отсутствие регулярной, устойчивой, установленной, типичной связи между мужчиной и женщиной. Некоторым образом (-s) и $ имеют это значение. Это разные записи символической нехватки, которые несут в себе, возможно, крайний смысл, а именно то, что между мужчиной и женщиной нет типичной сексуальной связи из-за означающего, из-за того, что человек живёт в языке.
Таким образом, в этой символизации объекта, в этом акценте на символическом восприятии объекта мы наблюдаем улетучивание воображаемого или реального объекта, который становится материальным только для символического, и это даст Лакану основание сенсационно перепрочитать у Фрейда, что означает латентный период. Латентный период у Фрейда означает, что образование желания происходит в два такта, сначала происходит инвестирование в ряд объектов, после чего процесс затухает, чтобы возобновиться снова, но в другой форме - в форме повторяющейся и затверженной (inoubliable). Латентный период означает, что первый объект потерян, а затем найден вновь.
Только что это значит, что он был потерян? У самого Фрейда это означает, что он был вытеснен и что, будучи вытесненным, он сохранился в бессознательной памяти. Вот почему Лакан особым образом отражает фрейдовскую идею латентного периода, говоря, что происходит перенесение объекта посредством означающего. Когда объект возвращается после этого перенесения означающим, кое-что уже не работает, он отмечен означающим, отмечен нехваткой, внесённой означающим, и с тех пор объект - объект, который возвращается после латентного периода, - играет разрушительную роль в любых дальнейших объектных отношениях субъекта.
Именно такое значение Лакан придаёт латентному периоду. Дело в том, что в конечном итоге все объектные отношения являются нарушенными отношениями. Это не естественные отношения, это отношения, отмеченные воздействием означающего, отмеченные потерей и возвращением, так что после этой операции нет никаких шансов, что объект окажется подходящим естественным объектом. Это значит, что кастрация никогда не даёт возможности заполучения объекта. Здесь мы уже можем обнаружить исток более продвинутой формулы, которую Лакан приведёт гораздо позже, а именно, что центром объекта а является кастрация. Это формула может показаться загадочной, но её основания заложены в главе III Объектных отношений.

Следующим шагом в концепте объекта является, по-видимому, размещение в центре фрустрации. Я, кстати, акцентировал этот термин в главе IV, назвав её Диалектика фрустрации. Я подчеркнул это диалектическое слово - слово, которое использовалось в других местах само по себе, без уточнения его места в контексте исследования, - мне показалось, суть демонстрации Лакана заключалась в том, чтобы показать, как объект из реального, каким он изначально является, становится символическим. Это превращение объекта из реального в символический Лакан отслеживает во всём этом Семинаре, он иллюстрирует его и придаёт ему форму, применяя теоретическую реконструкцию (fiction) момента развития, исправляя или перерабатывая то, что он до сих пор говорил о Fort-Da. Он перерабатывает Fort-Da, чтобы показать, как объект становится символическим. Для этого он приводит Fort-Da и создаёт диалектическую конструкцию, которая носит отчётливый, совершенно теоретический характер и основана на том факте, который Фрейд подчёркивает в По ту сторону принципа удовольствия.
В Римской речи, в Семинаре об Украденном письме Лакан использовал Fort-Da для того, чтобы показать, как субъект вводится в символический порядок. Лакан наделял значением бинарность фонем, повторение, а в Семинаре IV он возвращается к представлению Fort-Da как опыта фрустрации. Нам нужно поладить с этим словом фрустрация, которое тогда было в моде. Лакан его подхватывает и, так сказать, переворачивает. Фрустрация, по сути, означает, что субъект испытывает аппетит к реальному объекту, которого у него нет, и это доставляет определённые неудобства.
Таким образом, Лакан использует эту концепцию и даже формулирует, что она является истинным центром отношений матери и ребёнка. Но он говорит это, пересматривая смысл фрустрации, показывая, что она разыгрывается между любовью и наслаждением. Наслаждение здесь вообще не на первом плане. То, что находится на первом плане, - это слово любви. Помещая фрустрацию в центр отношений матери и ребёнка, Лакан изобретает новую концепцию любви, которая вполне применима, поскольку задаёт место фаллоса. Можно сказать, что в некотором смысле клиника Семинара IV основана на любви.
Лакан представил Fort-Da как свидетельство своего рода слепой автоматической работы, как своего рода немного ацефальный алгоритм, где S1 обращается к S2 и с возвратом по петле к S1. Но что он вводит здесь нового, так это то, что это действо разыгрывается в отношениях с одним существом, в отношениях с матерью. Раньше он акцентировал внимание на логическом аспекте Fort-Da, на аспекте логического автоматизма, а здесь мы имеем как бы перевёрнутую перспективу: центральное место занимает мать как источник поощрения, то есть как та, кто даёт грудь, как та, кто даёт заботу. В этом случае речь идёт о маленьком ребёнке, который, заняв место матери, принимается играть со своим маленьким мячиком и с фонемами, здесь нехватка касается удовлетворения, которое приносит реальный объект. Ребёнок обнаруживает себя субъектом фрустрации наслаждения.
В Fort-Da мы могли бы сказать, что ребёнок в игре воспроизводит, как уходит и приходит мать и что он использует для этого любой объект. В некотором смысле Fort-

Da, если мы сосредоточим внимание на матери, символизирует мать. Лакан предлагает записать эту символизацию матери как S(M). Позже эта запись станет DM, желанием матери, которая приходит и уходит как символ, как означающее. В записи S(M), а затем и в записи DM мать в её присутствии и отсутствии символизирована означающим, и в этом смысле она имеет статус символической матери.
Можно сказать, что это снова комментарий Фрейда, что это комментарий к факту, обнаруженному Фрейдом в наблюдении. Именно здесь Лакан применяет теоретическую реконструкцию, которая часто повторялась, но мотивацию которой необходимо уловить. Лакан берёт и перерабатывает Fort-Da для того, чтобы показать, как объект из реального становится символическим. То, с чем мы имели дело до сих пор, - это символическая или символизированная мать, поскольку она владеет реальными объектами, которые она может дать ребёнку. Вы знаете теоретическую реконструкцию Лакана, которая затем появляется: может статься так, что мать не отвечает. Когда Лакан формулирует это, мы полностью выходим за рамки строго фрейдовского опыта. Мать не отвечает! Она не отвечает на зов, она не подчиняется символическому зову ребёнка. И, следовательно, поскольку она поступает, как ей заблагорассудится, она не сводится к означающему S(M), которое, будучи означающим, подчиняется периодическому возврату: Fort-Da, Fort-Da, Fort-Da ...
Пока мать является символом, она подчиняется символическому циклу, который не перестаёт возвращаться, но, если она не отвечает, она выходит из символической игры. В некотором смысле Fort-Da - это символическое усилие по овладению матерью, и можно сказать, что Лакан вводит её отказ возвращаться на то же место. Она способна на каприз, и именно так формулирует Лакан, когда говорит, что она становится всемогущей. Он даже доходит до того, что связывает это с реальным. Это значит, что он больше не определяет реальное просто как то, что занимает то место, которое прописывает ему символическое, но как то, что неподвластно символическому. То, что он называет здесь реальным, - это то, что сопротивляется периодическому возврату символического.
Тогда - и здесь оправдывает себя акцент на слове диалектика - Лакан выводит хиазм, то есть двойную инверсию реального и символического. До сих пор в простом Fort-Da мать была символической хранительницей реальных объектов. Но с того момента, как она перестает отвечать, она становится реальной, оказывающей символическому сопротивление, а вот объект становится символическим. Другими словами, мы наблюдаем хиазм, инверсию между реальным и символическим.
Что это значит, что объект становится здесь символическим? В каком смысле он становится символическим? В каком смысле он отражает этот захват означающего в означаемом - этот захват означающим естественных значений, либидо, желания и так далее...? Так вот, смысл в том, что объект, который приходит от реальной всемогущей матери, не будет так важен сам по себе, как субстанция или в силу своих качеств, но будет иметь ценность материнского дара, независимую от его качеств. Лакан по-настоящему подчёркивает эту концепцию дара. Объект приобретает ценность как знак

материнской любви. Именно здесь впервые появляется функция любви, производящая перемещение объекта из реального в символическое.
На первом этаже теоретической реконструкции (fiction), где фрустрация имеет простой смысл: ребёнку нужна грудь, потому что он голоден. Соответственно, его нужно покормить. У него есть аппетит к реальному удовлетворению, точно определённому и субстанциональному. Но на втором такте, который мы разбираем, то, чего он желает, не является реальной субстанцией, о которой идёт речь. Он желает, чтобы ему дали это, чтобы ему дали объект и чтобы ему подарили объект в знак любви, в знак того, что о нём заботятся. В этой теоретической реконструкции принципиальное значение имеет то, что возникающее на этом этаже удовлетворение по сути своей не является наслаждением от реального объекта, это удовлетворённость от любви. Символическое в его отличности от реального и воображаемого, это любовь. Это любовь, потому что любовь не желает ничего реального. Она желает объект как означающее любви.
Этот запрос Лакан выводит диалектически из теоретической реконструкции, это взыскание любви и знака любви может сохранить свою интенсивность на протяжении всей жизни. Фрейд также специально акцентировал функцию любви и знака любви в женской сексуальности вплоть до утверждения, что самый яркий опыт кастрации для женщины - это отказ в даре любви. Отсюда и взыскательные запросы, которыми обременяются представители мужской части человечества - запросы обеспечить... чем? Несомненно, рядом субстанциональных реальных объектов, но прежде всего обеспечить знаками любви. Обеспечение субстанциональным без обеспечения знаком любви непростительно. Можно даже сказать, что наиболее ценным является то символическое удовлетворение, которое Лакан называет любовью и которое не является наслаждением от какого бы то ни было реального объекта.
Это не предполагает отрицание реального удовлетворения, удовлетворения потребности. Лакан периодически упоминает сытого ребёнка, его очевидное удовлетворение, например, когда он умиротворённо засыпает после кормления. Лакан не заходит так далеко, чтобы отрицать очевидное. Но удовлетворение потребности, пусть даже и реальное, - Лакан делает это замечание мимоходом - всё равно имеет ценность только как замена символическому удовлетворению. Мы предаёмся наслаждению из-за нехватки любви. Иногда это проявляется в восполнении нехватки за счет поглощения, за счет того, что называется булимией, наблюдаемой в качестве реакции на фрустрацию в символическом удовлетворении. Таким образом, в этом семинаре наслаждение реальным объектом выступает в качестве замены любви. Нехватка любви компенсируется реальным удовлетворением, и в некотором смысле то, что мы называем реальным удовлетворением, всегда является лишь полумерой, уловкой.
Таким образом, значимость главы IV - и Лакан продолжает разрабатывать эту концепцию фрустрации на протяжении всего Семинара - заключается в том, что желание в символическом - желание, статус которого он ищет, - это не желание добиться признания своего желания, но что желание в символическом - это любовь.

Конечно, когда ему доведётся определить это в Вопросе, предваряющем... в Écrits, он сохранит в определении любви это удвоение желания, это возведение желания в степень, которое содержится в формуле желание добиться признания своего желания, и он скажет, что любовь - это желание желания. Но что, на мой взгляд, объясняет место, отведённое любви на этом Семинаре, так это то, что именно благодаря такой новой концепции любви Лакан смог придать желанию символический статус. Любовь в этом отношении подобна желанию не получить ничего реального и даже, скажем так, любовь подобна желанию ничего, желанию ничего. И вот почему в загадочном отрывке, который я процитировал из Инстанции буквы, он пишет, что желание направлено на нехватку, привнесённую означающим. Желание направлено на нехватку, которую вводит означающее под видом любви.
Лакан, таким образом, изменил общую концепцию фрустрации. Объект фрустрации - это не столько реальный объект, сколько сам дар. В этом случае реальность объекта исчезает. В любви мы переходим на другой план, нежели план чистого и простогоестественного желания. Фрустрация - это не фрустрация, связанная с реальным объектом, это фрустрация в любви. В этом суть фрустрации. Таким же образом, исходя из того же, Лакан придёт к необходимости различать два типа требования: прямое требование, то есть требование реального объекта, и требование любви, то есть требование символического объекта. И следовательно можно утверждать, что то, что проявляет себя как требование объекта, всегда имеет отношение к тому, кто его даёт. Об этом нельзя забывать. Субъект не находится один на один с объектом, которого ему не достаёт. Всегда есть другой, который даёт, так что требование всегда направлено за пределы объекта, в потустороннюю объекту область, которой в данной теоретической реконструкции является любовь матери.
Это также имеет последствия для того, что Лакан открыл или сформулировал для нас о связи любви и влечения. Общий тезис, который он развивает в этом Семинаре, заключается в том, что когда влечение проявляется в аналитическом лечении -булимия, анорексия, анальность и т.д., - оно всегда исполняет функцию развития символических отношений. Это всегда относится к булимии, она может иметь место только в связи с символическими отношениями и, скажем для краткости, только в связи с фрустрацией в любви. В логике лечения, в том виде, в каком Лакан представляет её в этом Семинаре, и даже когда он представляет случаи реакционного эксгибиционизма, почерпнутые в литературе, - например, субъект поддаётся сиюминутному порыву продемонстрировать свой орган проходящему международному поезду, он оказывается в ситуации, когда не может не выставить себя напоказ, - выявленная причина заключается в том, что на самом деле у субъекта не получается кое-что сказать, он не располагает нужным означающим, не располагает символом, и именно этот сбой символического, этот сбой в символических отношениях открывает дорогу влечению.
В разных главах Семинара IV мы имеем одну и ту же задействованную структуру, которая объясняет то, что в определённые моменты кажется преобладанием влечений или преобладанием воображаемого, внутренними сбоями в символическом и даже

крахом символического. Весь анализ перверсии, предпринятый Лаканом, опирается на эту структуру.
Например, весь его анализ фантазма ребёнка бьют основан на представлении о том, что в конечном итоге существует феномен символической редукции, который позволяет появиться десубъективированному остатку, которым является так называемый мазохистский фантазм. По сути, эта структура является общей для фетиша и покрывающего воспоминания (souvenir-écran). В ходе развития цельной символической истории случается остановка, символическое терпит крах, и остаётся образ, кусочек чего-то. Поэтому Лакан говорит, что воображаемое преобладает в перверсии. Но воображаемое может преобладать только в том случае, если происходит крах уже выстроенной целой символической организации. Образ, несомненно, является литейной формой перверсии, но образ, который является остатком краха символического, и именно поэтому такой образ, по-видимому, имеет статус реального как того, что противостоит символическому.
Лакан делает подробный анализ случая юной гомосексуальной пациентки, перекручивая свою схему L, основанную на пересечении воображаемого и символического. Он перекручивает её, потому что очевидно, что он больше не может поместить в эту схему все отношения, которые он хотел бы рассмотреть. Он раскурочивает её на наших глазах. Очень забавно смотреть на то, как он использует её первоначальную форму, а затем воображаемое и символическое начинают блуждать по совершенно неположенным им местам. Можно подробно проследить механику происходящего, но Лакан хочет показать с помощью этой схематизации также и то, как конечное положение юной гомосексуальной пациентки, из которого она посвящает себя служению даме на глазах у отца, основана на проекции символического в воображаемые отношения. Все эти различные инверсии, все эти хиазмы, которые демонстрирует для нас Лакан, в конечном итоге приводят субъекта к поведению похожему на перверсию, приводят к целой символической организации, которая оказывается спроецированной на воображаемый уровень, символической организации, в некотором роде редуцированной, раздавленной и сдвинутой.
Конечно, в том году нужно было рассмотреть случай юной гомосексуальной пациентки именно потому, что в нём подчёркнута функция любви. Женская гомосексуальность ставит во главу угла функцию любви. И поскольку эта любовь связана с ничто, можно сказать, что Лакан, как ни странно, привносит в неё фетиш. Это парадокс. В некотором смысле фетиш - это то, что позволяет избежать интерсубъективной сложности романтических отношений. Мы никогда не видели, чтобы обувь жаловалась на отсутствие знаков любви. Таким образом, можно сказать, что нет ничего более далёкого от проблематики любви, чем фетишизм. Что ж, парадокс этого Семинара в том, что он, наоборот, показывает связь.
В конце концов, на заднем плане любого фетишизма присутствует любовь, иногда любовь к матери, и любовь в этом Семинаре - это функция, которая вводит нечто по ту сторону реального объекта. Вот почему, когда любовь вводит потустороннее в реальный объект, то есть вводит ничто, существует связь между фаллосом и любовью

в том измерении, где фаллос является минус фи - тем, чего недостаёт. Поэтому в главе VII Лакан указывает на сущностную связь, возникающую в результате любви между объектом и ничто.
Связь объекта и ничто обнаруживается благодаря простому механизму, называемому завесой (voile). Глава VII называется Функция завесы, и, в сущности, что такое завеса? Это приспособление для создания того, чего нет. Если вы пойдёте и рассмотрите что-нибудь, вы сможете сказать, есть это что-нибудь или его нет. Но если вы занавесите объект, возможно, за этим занавесом что-нибудь и есть. А может, и нет. Таким образом, занавес в том виде, в каком его представляет Лакан, принципиально важен для осмысления клиники мазохизма, - это то, что превращает ничто, на которое нацелена любовь, в нечто.
Это то, что Лакан предложит в качестве клинического определения фетиша. Так у нас появляются основы того, что позже станет концептом объекта а. Лакан назовёт объектом а объект плюс ничто - объект плюс ничто, представляющее собой минус фи. Вот почему нет ничего удивительного в том, что годы спустя, в Семинаре XX, Лакан возвращается к тому, что уже есть в главе VII, а именно к тому, что объект а по преимуществу является видимостью (semblant).
Так, хорошо, я продолжу на следующей неделе.
16 марта 1994

встреча XII
Я признаюсь, что, возможно, не так деликатно, как следовало, говорил в прошлый раз о знаке любви. Мне дали понять это более чем с одной стороны. На самом деле с одной стороны, с женской, но было несколько сходящихся путей. Следует ли мне раскаяться? Ведь логично, что именно с этой стороны защищаются интересы любви. И, кроме того, разве мужчины имели бы представление о любви, если бы женщины их не научили? Честно говоря, это сомнительно.
Согласно Лакану, для обоих полов это начинается - об этом говорится в Семинаре IV - с матери. Честно говоря, подарить - это ещё не всё. Есть ещё искусство и манера. Умение преподнести, как мы говорим, - это не о чём-то субстанциональном, это про форму. Если мы посмотрим на то, как делаются подарки, мы можем сказать, что лучше обладать искусством и манерой дарить, чем дарить по-крупному. Японцы действительно хороши в этом - очень хороши в том, чтобы дарить ничто в потрясающей обёртке. Мне случалось принимать подарки от японцев. Должен сказать, что это было чем-то наиболее изысканным, даже если речь шла о сущей безделице. И потом, можно вспомнить, какой церемонией они умеют обставить приготовление чашки чая. Это великолепная демонстрация ловкости, манер, искусства - в Японии это искусство - в конечном счёте для очень небольшой вещи, для маленького подношения, которое благодаря искусству и манерам приобретает ценность эликсира, квинтэссенции.
В любви то же самое. Если вы не обставите маленькое подношение какой-то церемонией, оно будет иметь очень и очень относительную ценность. То же самое с едой. Дошло до того, что, вернувшись из Японии несколько лет назад, я обнаружил у себя небольшую анорексию. Когда тебя неделю кормят в Киото едой, которая включает в себя внушительное количество блюд, одно меньше другого, в каждом из которых есть какая-то крошечная, спрятанная, завёрнутая, миниатюрная съедобная штуковина, маленькие кусочки, полукусочки, завёрнутые в чрезвычайно тонкую обертку, - ну и по приезде домой ты возвращаешься к стейкам! И пюре! И телячьей голове! И к свиным ножкам! Ты говоришь себе: «Я больше не могу это есть!», - и становишься немного анорексичным. Я должен чаще бывать в Японии...
Факт тем более примечателен, что в целом, когда я бываю за границей, я нахожу, что через некоторое время скучаю по нашей еде. Но Япония в самом деле была исключением, которое мне запомнилось. Когда мы возвращаемся из Японии, мы ничего не просим. Дома всё кажется слишком сытным. В Японии мы учимся есть ничто. Это вкусно!
Это создаёт контраст с тем, что называют обществом изобилия. Мы могли бы говорить так нищим, которых, как вы замечаете, становится всё больше на наших улицах - на улицах нашего общества изобилия. Мы могли бы говорить им: «Мой дорогой, как тебе повезло, ведь ты потребляешь ничто!» Но чтобы это ничто имело ценность, оно должно добавляться помимо прочего, оно должно быть дополнением -добавкой ничто.

Нищий - какая интересная фигура! Сегодня, конечно, мы не можем их восхвалять. Эти нищие - безработные. Очень трудно восстановить особенную ценность, которую нищий имел в истории, до того, как труд стал важной ценностью, до того, как он, если можно так выразиться, вошёл в Сверх-Я. Тогда возникла целая культура попрошайничества, миф о нищем. Но каким образом можно было стать нищим в Средние века? У вас есть всё, вы бросаете всё это ради любви. Ради любви к Богу, ради любви к Христу, ради любви к женщине. А потом вы отправляетесь выгуливать свою нехватку по миру. И таким образом вы даёте другим повод для добрых дел - из-за любви к Богу. Какое замечательное решение - причём скорее для мужчин, чем для женщин - стать странствующей нехваткой, паломнической нехваткой. Конечно, вас могут критиковать, как бесполезного нахлебника, лишний рот. Сегодня к лишним ртам относятся очень плохо - бесполезные рты! А вообще, наоборот, бесполезные рты -очень даже полезные рты! Они посвящают себя тому, что представляют дыру, дыру, которая имеет на вас виды - на вас, имеющих, на вас, рты которых набиты. Это приглашение вам разукомплектоваться, подопустошиться.
По причине кажимости, которая вызывает сожаление, нищие были записаны в бездельников. Хотя слово бездельник (fainéant) датируется 1321 годом. Бездельник -это тот, кто творит ничто (qui fait néant). Здорово быть бездельником! В какой-то момент истории Запада мы начали думать лишь о том, чтобы заставить их, бездельников, работать, чтобы использовать их в качестве рабочей производственной силы. И именно это позволило превратить их в безработных! - превратить их в безработных, из-за которых другие работают ещё больше, а получают ещё меньше. Это обыкновение безработного. Мы должны отдать бездельнику должное! Действительно, творить ничто тревожно. Иногда мы замечаем: чтобы освободиться от тревоги, нужно чем-то заняться и не важно чем. Давайте, давайте, шевелимся!
И всё-таки одна современная форма бездельника сохранилась. Это психоаналитик. Следует признать, что слушать, ничего не делая, - это-таки основа позиции, результат обучения. И порой то, что может тревожить аналитика, - это вопрос: может быть, всё-таки, учитывая то, что ему говорят, ему всё-таки стоило бы что-то делать? А не стоило бы ему случайно что-нибудь сказать? Может быть, задать вопрос? Или сказать «нет»? Или, может быть, выдать пощечину? Или изменить позу? Нужно прямо сказать, что тот, кого называют аналитиком, представляет собой субъекта, который не тревожится, субъекта, которого не тревожит его делание ничто. Откуда идея, что он может вынести всё, что ни услышит. Понятно, почему Лакан приходит к тому, что сравнивает его позицию с положением святого (saint), совершенно отличному от положения груди (sein). Позиция груди - это, прежде всего, её наличие. Это так называемая в анализе обладающая мать, тогда как святой - это скорее нищий. В эпоху, когда было много святых, приличное их количество нищенствовало. Существует близость между святостью и нищенством. Здесь же аналитик, не лишённый сходства с нищим.
Пожалуй, я могу поделиться, что поразило меня больше всего, когда я перешёл из статуса преподавателя в статус аналитика. Одно из поразивших меня отличий,

касалось того, чтобы протянуть руку, - протянуть руку, чтобы в неё положили деньги. Потом это уже не замечается, но я храню воспоминание о том, как возникла эта маленькая выемка, в которую в итоге жертвуют подаяние как нищему, бездельнику. Есть практикующие, которые в течение длительного времени испытывают чувство вины за то, что им платят за делание ничто. Это не мой случай.
Я иду окольными путями, чтобы превознести то, в чём преуспели женщины на Западе, когда заставляли мужчин уважать ничто. Они не были настолько же успешными в Японии, но, возможно, им это и не было нужно, поскольку там все и так уважают ничто. На Западе им удалось заставить мужчин уважать ничто в ходе долгой разработки любви. Подумайте о куртуазной любви, на которую ссылается Лакан. Это изобретение мы находим сегодня в нашей собственной клинике. Там, где не затрагивается этот момент куртуазной любви, возникают большие трудности с психоанализом. В культурах, которые не прошли через такую разработку любви, мы видим, что психоанализу приходится нелегко.
Разработка любви - это то, что прокладывает дорогу, если опять-таки прибегнуть к выражению Лакана по другому поводу, - в глубины вкуса. Это великое образовательное начинание, каковой была изысканность, является производной куртуазной любви. Это расцвело в XVIII-ом веке и особенно во Франции, где мы увидели всё соцветие этого неимоверного обучения мужчин женщинами. Кстати, именно в XVIII-ом веке сам вкус стал теоретической проблемой. Появился вопрос, как могло случиться, что нравы стали более утончёнными и вместо того, чтобы идти на всё ради удовлетворения потребности, мы начали манерничать и расшаркиваться, как могли бы это назвать некоторые грубияны. Это большая теоретическая проблема, которой Юм очень интересовался. Я полагаю, не случайно философ, который первым выдвинул парадокс индукции, показывающий, что между индуктивным выводом и означающей цепочкой всегда есть разрыв, был также тем, кто таким запоминающимся образом поставил проблему вкуса. Именно потому, что как раз в этой дыре, в этой дыре индукции, закладываются хорошие манеры. Нет хороших манер, кроме тех, что обрамляют дыру, что обрамляют нехватку, обрамляют то, чего нет.
Хорошие манеры - это видимость (semblant), необходимая вокруг нехватки, при условии, что мы уважаем и нехватку, и видимости. Уважать видимость - это всегда уважать кастрацию. В этом деле хороших манер фаллос всегда в ходу, в том числе и в той форме, которую он принимает в жаргонном выражении «иметь хорошие манеры». Мужчина может обходится с женщиной по-хорошему, а женщина по-хорошему с мужчиной. Здесь, исходя из видимости, появляется способ обозначения вещи во плоти. Итак: хвала кастрации! Всё дело в манерах!
Человека хорошего круга, того человека хорошего круга, который производился в широком масштабе, начиная с эпохи Возрождения, - и это опять-таки один из этапов долгой разработки любви, недостойными наследниками которой мы являемся, -человека хорошего круга всегда отягощает быть грубияном. Человек хорошего круга, придворный - это форма вежливого рыцаря. На самом деле это идёт рука об руку с конституцией и ростом кодексов, начиная с кодекса любви. И затем это тесно связано

с развитием государства, которое требует, чтобы мужланы оставляли у дверей - как в вестернах, когда ковбои расстаются с пистолетами перед тем, как войти в салун, -копьё, меч, доспехи, чтобы преклониться и стать, если не рабами, то по крайней мере поставить себя на службу, на службу любви. Сегодня, как ни странно, в некоторых культурах по ту сторону Атлантики, похоже, наблюдается определённое женское отречение. Возможно, что феминизм в его резких формах, в которых он проявляется иногда в Соединённых Штатах Америки и которые, возможно, придут к нам оттуда, доблестный, воинственный феминизм - вот где вооружаются всеми этими копьями, мечами и доспехами - возможно, основан на разочаровании в мужчине, на разочаровании, что он остаётся болваном, что он совершенно не поддается обучению и что, возможно, для того, чтобы он хоть как-то держался, необходимо постоянно угрожать ему гневом закона. Таким образом, в первых рядах этого нового феминизма, возрождающегося из того, что казалось пеплом, мы видим на переднем плане женщин-юристов.
Здесь у нас во Франции, в Европе, в Латинской Америке всё по-другому; и вот почему, если мне говорят, что я бесцеремонно упомянул знак любви, это что-то для меня значит. Действительно, для женщины знак любви очень важен. Она ищет знак любви в другом, она его выслеживает. Возможно, стоит зайти так далеко, что сказать, что иногда она его выдумывает. Потому знак любви настолько хрупок, настолько мимолётен, что о нём следует говорить со всей необходимой учтивостью. Знак любви - это и гораздо меньше, и гораздо больше, чем доказательство любви. Доказательство любви всегда происходит через принесение в жертву того, что у нас есть. Доказательство любви - это жертва того, что у нас есть, ради ничто. В то время как знак любви - это почти ничто, почти ничто, которое исчезает, увядает, стирается, если мы не проявим к нему внимания, если мы не примем его со всей заботой.
В конце концов, ошеломлённый, я дошел до того, что подумал, не хам (goujat) ли я, и посмотрел значение слова хам в словаре, чтобы успокоить себя. Хам, как ни странно, обозначен как устаревший термин. Возможно, это действительно так. Возможно, мои литературные изыскания вот так, спонтанно, навели меня на него. Возможно, он устарел, потому что хорошие манеры деградируют. На самом деле, это я сам задался вопросом, мне не сказали: «Месье, вы ужасный хам!» Но забавно, что это слово относится именно к XVIII веку, то есть к тому времени, когда воспитание мужчин женщинами было в самом разгаре, было главной темой цивилизации. Действительно, именно в 1720 году хам получил значение невоспитанного, неучтивого, несдержанного, оскорбляющего своими высказываниями человека. Слово происходит от слуги, слуги-оруженосца. Это ведь прекрасно! Это даже не тот вооружённый рыцарь, который собирается стать придворным. Это чуть ниже рыцаря. Он тот, кто служит мужлану или бывшему мужлану, ставшему придворным.
Самое смешное - это предлагаемая нам этимология. Их предлагается несколько, и, как часто бывает с этимологиями, они выглядят довольно фантастично. Возможно, по достижении определённого возраста мы перестаем читать детские сказки, но с пользой их заменяем - я бы советовал вам делать это - чтением этимологий. Вот

почему мне так нравятся этимологии Хайдеггера, которые представляют собой сказки. В случае с хамом-оруженосцем это действительно бесценно. Есть две версии. Согласно одной из них, слово приходит из Лангедока, где в еврейских семьях в Лангедоке христианских слуг называют гои. То есть за хамом угадывается гой. Это очень красиво, потому что можно представить - и это действительно традиция, которая сохранялась в гетто и, возможно, создаёт некоторые затруднения в Израиле, - что было необходимо, учитывая количество запретов, которым подчиняются бедные набожные евреи в определённый день недели или в определённое время года, иметь под рукой нескольких гоев, чтобы попросить их сделать то, что запрещено законом, - отсюда необходимость в слуге-христианине, которого, я полагаю, можно было попросить позаботиться о нуждах семьи, которая в шаббат обречена на священное безделье. Было бы здорово, если бы хам происходил оттуда! В сущности, это подтверждало бы, что хам вне закона. Хам - это тот, кто не соблюдает предписания закона. Это могло бы перейти в значение человека необразованного, особенно в отношении женщин, потому что он был бы тем, кто не соблюдает важнейшую заповедь почитания ничто во всех отношениях, которые ему причитаются.
Есть и другая версия этимологии. От латинского gaudium, что означает радость или наслаждение. Вообще, это нам тоже подходит. И даже, по словам одного эрудита, ребёнка можно было бы назвать goujat (хамом), поскольку он приносит радость семье. Таким образом, хам (goujat), как с одной, так и с другой стороны, причастен к наслаждению. Возможно, причастен к тому, что может быть слишком прямым, недостаточно обходительным в отношении наслаждения - к чему-то, что было бы слишком без обиняков. Посмотрите, как здесь всё удачно складывается: маленький Ганс - любимчик своей семьи! Это, безусловно, так; одна из его проблем заключается в том, что он явно доставляет много радости своей семейке. В то же время он не такой уж и хам, у него есть воспитание, как отмечает Лакан. В определённых условиях он очень деликатен с девочками, но, надо признать, немного хамоват со служанками. В истории маленького Ганса действительно есть служанки, и можно даже вообразить, что это служанки-христианки еврейской семьи в Вене.
Не знаю, достаточно ли я сделал, чтобы загладить свою вину с помощью этого экскурса, который я с удовольствием для вас устроил? Вообще, это полностью относится к теме Семинара IV, где мы наблюдаем, как объект в психоанализе становится символическим. Без сомнения, этот объект вполне реален. Без сомнения, этот объект воображаемый. Но тем не менее он становится символическим. Как реальный или воображаемый объект он переделывается, обрабатывается означающим и каким-то образом улетучивается из плана своей реальности.
В этом Семинаре мы видим означающие объекты и две разные модальности. С одной стороны, мы видим означающее на месте другого означающего - к этому приводит предпринимаемый Лаканом анализ фобического объекта, последним словом которого в этой книге становится то, что этот объект имеет значение означающего на месте Имени-Отца. С другой стороны, мы видим означающее как означающее другой вещи, и это то, что показывает анализ объекта-фетиша, - анализ,

который повторяет саму вводную, сделанную Фрейдом по поводу фетишизма, - а именно то, что это объект, означающий фаллос.
Таким образом, под одним или под другим углом, будь то означающее на месте другого означающего или же это означающее другой вещи, представляющей собой фаллос, объект показан здесь именно как означающее. Когда это фетиш, это означает фаллос ввиду отсутствующего у матери пениса, если мы хотим расположить этот факт в регистре лишения - реальной нехватки символического объекта - или отсутствующего у матери фаллоса, к которому она устремлена и по которому она ностальгирует, если мы хотим говорить об этом в регистре фрустрации. Лакан постоянно переключается между двумя этими регистрами, переходя с одного на другой. Таким образом, фобический объект и его анализ упорядочиваются в структуре метафоры - одного означающего на месте другого - и приводят к разработке отцовской метафоры, в то время как фетиш - в менее очевидной и явной форме в этом Семинаре - упорядочивается в структуре метонимии, то есть в структуре, которая основана не на замещении, а на присоединении одного означающего к другому. Это символическое становление объекта происходит через его артикуляцию в нехватке. Лакан выдвигает на первый план свою теорию нехватки объекта - я назвал так первую часть этого Семинара, - потому что это обязательный участок пути символического становления объекта. Именно отсюда происходит гравитация трёх основных терминов этого семинара: фаллос, женщина и мать. Если есть фаллос, то в силу того, что эта символическая нехватка по преимуществу является нехваткой фаллической.
Чтобы просто зафиксировать эти мысли, можно записать, что объект в этом Семинаре постоянно представлен в различных формах в его артикуляции с нехваткой. У нас есть объект - я рисую черный круг - и этот Семинар постоянно демонстрирует, что он мыслим только в связи с нехваткой - и вот я рисую маленький белый круг, чтобы обозначить её. Этот Семинар всячески демонстрирует эту элементарную артикуляцию:
О •
Женщина появляется в этом Семинаре в силу того, что для неё образцом и стержнем является как раз эта артикуляция объекта и нехватки. До такой степени, что все её собственные объекты вращаются вокруг фаллической нехватки и обретают своё значение в свете этой нехватки, в особенности это касается ребёнка. Когда мы рассматриваем объект фобии и объект фетиша, мы фактически рассматриваем ребёнка как объект, который обретает своё значение в свете нехватки, испытываемой, пусть и бессознательно, матерью как женщиной. В этом отношении Лакан напоминает и подчёркивает символическое уравнение Фрейда: ребёнок = фаллос. Вот почему Лакан обратился непосредственно к наиболее показательному в этом отношении фрейдовскому случаю, а именно к случаю юной гомосексуальной пациентки.
Но именно для того, чтобы показать артикуляцию объекта и нехватки, Лакан прорабатывает в этом Семинаре функцию любви. Что это за продвижение в понимании любви в клинике? - поскольку в дальнейшем, если даже этот термин и остаётся

навсегда в учении Лакана, он уже не будет играть такой же ключевой роли, которая отведена ему в этом Семинаре. Если в этом Семинаре любовь имеет клиническое значение, если она представлена основой развития, то потому, что ссылка на любовь демонстрирует, что важна не субстанция или реальность объекта. Функция любви заключается в том, чтобы показать изменчивость объективной субстанции. Любовь обязательно встречается на пути символического становления объекта. Любовь нужна для того, чтобы продемонстрировать, что главное - это манеры, что главное заключается в отношении объекта с ничто. То, что Лакан называет любовью, - это отношение объекта с ничто.
Можно сказать, что любовь в этом смысле в данном Семинаре представляет собой способ, посредством которого в объект вводится кастрация, то есть ничто как минус ф. Есть сходство между любовью и кастрацией. Вот почему необходимо немного подтолкнуть к ней мужчин, которые не так сразу настроены идти в этом направлении. Всё-таки нужна любовь, чтобы устроить их кастрацию, если можно так выразиться. Эта связь любви и кастрации отчётливо подчёркнута Лаканом в статье Значение фаллоса, где он намекает на то, что мужчине, может быть, и не так сподручно воплощать Другого любви, то есть того, кто лишён, и что для женщины актуальна игра, состоящая в том, чтобы подменить мужское существо, чьи мужские качества она лелеет, этим Другим любви, который кастрирован. Это не сразу бросается в глаза, эта игра в подмены, в которой женщина изменяет мужчине в первую очередь с ним самим, если можно так выразиться. Все неверные!
То, что Лакан развивает под видом диалектики фрустрации, на самом деле представляет собой то, как любовь входит в клинику. На долгое время это станет стержнем его клиники. Даже если на этом Семинаре ещё не ясно, что именно является лабораторией для этой разработки, мы видим, что на следующем этапе Лакан придёт к различению двух требований: требования объекта, когда субъект испытывает нужду и требует объект удовлетворения потребности, и другого требования, которое он назовёт - в Семинаре IV это ещё не проясняется - требованием любви, которое не является требованием объекта, но требованием ничто и, прежде всего, требованием знаков другого.
Конечно, мы можем прокомментировать - и это обоснованно - схему, которую Лакан представляет в отношении лишения, фрустрации и кастрации в намеченном им русле, - со всей этой перестановочной механикой определённых мест, которая работает немного хуже, но которая тем не менее является примером означающего перестановочного механизма в теоретическом построении, точно так же, как фобия маленького Ганса рассмотрена как перестановочный миф, который он иллюстрирует самим способом, которым о нём говорит. Но более интересно, нежели комментировать это шаг за шагом во втором чтении, было бы понять, что на самом деле речь идёт о тройке, которая породит классическую лакановскую тройку: лишение соответствует потребности, фрустрация - требованию, в частности требованию любви, и кастрация - желанию. Лакановская тройка «потребность-требование-желание» уже намечена в тройке «лишение-фрустрация-кастрация» этого Семинара.

Поучительный принцип, который Лакан извлечёт из диалектики фрустрации, заключается в том, что нужно всегда оставлять место для ничто. Необходимо, чтобы тот, кто воплощает большого Другого для ребёнка, умел давать ему ничто. Что мешает этому, так это предвзятые представления Другого о потребностях ребёнка. Я цитирую стр. 628 Ecrits, статью Направление лечения, написанную Лаканом после этого Семинара, и я немного дополняю предложение, чтобы вы могли его проследить: если Другой вместо того, чтобы дать ничто, пичкает субъект жирным варевом того, что у него есть, выдавая свои заботы за дар любви, тогда ребёнок другими способами восстанавливает место ничто. Примером, который приводит Лакан, является психическая анорексия, но есть ещё много других способов вернуть всё на круги своя, вернуть место ничто - например, убежать, то есть, наконец, ввести нехватку туда, где потчуют жирным варевом.
Если и существует лакановская педагогика, то состоит она в напоминании, что нет ничего полезнее, чем ничто. Там Лакан указывает - я цитирую эту статью, потому что в ней исправлены некоторые вещи, которые мы находим в Семинаре IV, - что необходимо, чтобы у матери было желание помимо ребёнка, чтобы этот ребёнок не был для неё всем, и что если он таков, если он дополняет её, если она упивается им, поглощая его, то фаллический образ неизбежно накладывается на него.
Урок, который сам Лакан извлечёт из объектных отношений, из диалектики фрустрации, которая в этом Семинаре постоянно перерабатывается, - это пока только намеченное различие между потребностью, требованием и желанием. Регистр требования устанавливается в силу того, что для удовлетворения потребности ребёнок обращается к Другому, чтобы сказать ему о том, чего ему не хватает, чтобы попросить у него что-то. Одно только это обстоятельство предполагает означивание потребности, обтёсывание (émondage) - это термин Лакана - реальности объекта потребности. И кроме этого, есть потребность любви.
Всё это в Семинаре IV пока ещё перемешано. Только впоследствии Лакан упростит эту конструкцию, проведя различие между простым требованием и требованием любви. Простое требование уже несёт эффект означивания потребности. Требование, расположенное по другую сторону, является требованием любви, то есть это требование ничто или, как выразился Лакан в Направлении лечения, безусловное требование присутствия и отсутствия. Именно здесь, в этой формуле, мы можем сказать, что Лакан перерабатывает фрейдовское Fort-Da. Он перечитывает это фрейдовское наблюдение, осмысляя его на основе требования любви. Как если бы Fort-Da было бы демонстрацией функционирования требования любви. И мы видим, насколько по-разному Лакан мог комментировать материал наблюдения. Он смог извлечь из этого функцию повторения Фрейда, он смог извлечь из этого требование любви, а затем и наслаждение, и отношение субъекта с этим наслаждением.
Эта история о безусловном требовании присутствия и отсутствия является не такой уж само собой разумеющейся. Почему речь идёт об отсутствии? Ведь это присутствие, по сути, связано с чистым призванием к Другому, чтобы тот оказался рядом и дал знак своего присутствия, чтобы Другой хотя бы сказал, что он здесь, дал

знак своего существования: «Дай мне знак!» То есть отвечает ли он на призыв или откликается, просто говоря: «Я здесь». Поэтому, конечно, когда Другой говорит: «Я здесь», - это приобретает крайнюю, жизненно важную ценность, только в том случае, если его рядом нет. Именно в этом случае это действительно чего-то стоит. Только если вы по-настоящему искушённый человек, тогда ещё вы можете спросить держащего вас за руку Другого, действительно ли он здесь. Особенно если месье, который держит вас за руку, - навязчивый невротик, который как раз-таки думает о чём-то другом. То есть даже у присутствующего Другого можно спрашивать: «Ты здесь?» Но, в конце концов, тем не менее именно когда он отсутствует, произнесённое им Я здесь приобретает жизненно важное значение.
Вот почему Лакан в Семинаре XX мог сказать, что любовное письмо играет важнейшую роль в любви. Обычно письмо отправляется тому, кого точно рядом нет. В любом случае это свидетельство момента, когда Другой был не здесь до того времени, когда будет написано письмо. Отсутствие другого - это тоже моё, и в любом любовном письме говорится: «Тебя нет рядом, но в твоём отсутствии для меня и в моём отсутствии для тебя мы - вместе, ты со мной». Вот почему Лакан мог сказать, что любовное письмо имеет важнейшее значение. Сегодня есть телефон.
Сегодня есть телефон. Что ж, воспользуемся телефоном! Но не всё так просто. Иногда говорят, что это очень плохо. Но иногда телефонный звонок становится строго эквивалентным дару любви. Иногда человек испытывает непреодолимую потребность позвонить своему аналитику по телефону, чтобы услышать его голос. Или, в более чрезмерных формах, делается просто вызов, чтобы побеспокоить его - побеспокоить, чтобы в то же время убедиться, что безусловное требование присутствия и отсутствия обеспечено, выполнено.
Итак, таковы два основных направления, намеченные в Семинаре IV. Это, с одной стороны, требование, просьба, а с другой стороны, - требование любви. Есть требование, направленное на что-то, то есть требование объекта удовлетворения потребности: я голоден, я хочу пить и т. д. Здесь объект, хотя и проходит через требование, в котором он означен, действительно является чем-то. Затем есть требование любви, которое исконно ориентировано на ничто - на простой знак, на почти ничто. Тогда можно сказать, что в сопряжении этих двух направлений требования возникает то, что Лакан разовьёт впоследствии и что ещё не раскрыто в этом Семинаре, а именно желание - желание, расположенное между требованием и требованием любви. Вплоть до того, что Лакан будет играть, не раскрывая своих карт, говоря по одному поводу, что желание находится по ту сторону требования, а по другому поводу, что оно находится по эту сторону требования, чтобы сказать, по сути, что желание расположено между требованием и требованием любви.
Тогда возникнет необходимость в том, чтобы, исходя из желания, был разработан объект. Если, с одной стороны, объект требования - это действительно что-то, а с другой стороны, объект требования любви - это ничто, Лакан рассматривает объект желания как смесь чего-то и ничто. И то, что он назовёт снискавшим известность объектом а, скажем, является означающим чего-то, связанного с ничто. Вот почему,

если бы мы захотели перечитать весь этот Семинар, введя в него объект а, возникли бы большие расхождения, пришлось бы провести водоразделы для течений, которые там смешаны. То, что он разработает как объект а, - это связь чего-то и ничто. Нечто, связанное с ничто, в точности переводится - Лакан представит это в следующем году - как метонимический объект. Лакан разработает объект желания как объект в метонимических отношениях с нехваткой.
Все это не прояснено в Семинаре IV, потому что можно сказать, что любовь -любовь как стремление к ничто, требование ничто - появляется в нём в неразрывной связи с желанием. Кстати, когда Лакан коснётся этого в Вопросе, предваряющем..., он скажет, что любовь - это желание желания. И наоборот, через некоторое время после этого Семинара он противопоставит любовь и желание. Он противопоставит их друг другу после того, как в этом Семинаре они неразрывно переплетены - оба слова используются для обозначения одним другого. Он их противопоставит, поскольку любовь является именно царством ничто, тогда как если говорить о желании, то нельзя пренебрегать настойчивостью чего-то - какой-то совершенно особенной вещи.
Есть ещё одно противопоставление, связанное с тем, что для любви сущностно важным является отношение к большому Другому - Другому, который подаёт свои знаки любви и от которого знак любви ожидается, - тогда как желание, напротив, высвобождается от этого отношения к Другому. Желание, скорее, связано с какой-то вещью в Другом. Именно поэтому оно может вызывать тревогу. Желание, согласно формуле, которую Лакан предложит гораздо позже в Семинаре XI, направлено в тебе на нечто большее, чем ты сам, то есть оно направлено в другом на точку, на некий элемент, неизвестный самому Другому, принадлежащий самой интимной области Другого, о которой сам Другой не имеет представления. Вот почему я предложил использовать для обозначения этой области лакановский термин extimité. Тогда как любовь находится в зависимости от знаков другого, желание подцеплено, стимулируется чем-то, что от Другого отделено.
Вот почему Лакан, после того как сконструировал их в неразрывной связи, приходит к тому, чтобы противопоставить друг другу. Он сделает это в диалектической форме, отметив, что в некотором смысле любовь и желание имеют одинаковую структуру, то есть в желании обнаруживается безусловность требования. Чтобы соединить их, Лакан предполагает своего рода переворот, когда то, что требуется в любви, в любви безусловной, превращается в «абсолютное» условие желания. Он заключает «абсолютное» в кавычки, не давая более подробных объяснений, на странице 691 Ecrits. Но объяснение этих кавычек можно найти на странице 814 в Ниспровержении субъекта, где он ещё раз делает этот анализ, отправной точкой которого стал Семинар IV.
По сути, то, что он начал с фрустрации, через диалектику приводит его к противопоставлению требования и требования любви, и третьим термином, который он разработает, исходя из этого, станет желание: «Благодаря особой симметрии оно [желание] оборачивает безусловность требования любви, в котором субъект остаётся

подчинённым Другому, в его противоположность, облекая этот субъект могуществом абсолютного (в смысле также и отрешённого) условия».
Подчинение - это зависимость; субъект подчиняется большому Другому в любви. Но в желании безусловность переворачивается и переходит в могущество абсолютного условия, и здесь Лакан объясняет эту абсолютность, говоря, что он также имеет в виду отрешённость [непривязанность]. По сути, абсолютизировать - значит отделять. Здесь важно сохранить эту оппозицию между любовью и желанием: любовь связана с заглавной буквой Другого (Autre), желание связано с тем, что отделено от этого Другого и тем, что Лакан назовёт причиной желания. С причиной желания субъект больше не остаётся в подчинении Другого. В этом смысле желание - это определённого рода эмансипация в сопоставлении со знаками любви. Решительное желание - вот в чём его можно упрекнуть - не всегда сопровождается знаками любви. Ну это нехорошо! Нужно понимать, что решительное желание не оправдывает всего. Чем более решительно желание, тем более обходительна любовь.
Я уже говорил, что это противопоставление, лежащее в основе самой лакановской концепции желания, которая станет столь известной, подчёркивает освобождение желания от любви. Пример, который приводит Лакан, красноречив, поскольку он говорит, что мы видим это уже на уровне переходного объекта. Переходный объект означает, что мы берём один маленький кусочек и - чао, Другой! Это пример того самого отделённого объекта. Кроме того, иногда аналитик обслуживает нечто подобное, то есть поддаётся, если можно так выразиться, на форму аутизма субъекта, которая приводит к тому, что ряд бедствий, которые могут произойти в жизни субъекта, постепенно становятся для него безразличными - становятся безразличными с того момента, как только он собрался рассказать о них своему аналитику, который, если он чересчур предаётся своему «слушать, ничего не делая», то, надо сказать, становится соучастником растущего беспорядка. Но, вообще, существует, если можно так выразиться, переходное использование самого психоаналитика, которое оправдывает эту конструкцию.
Лакан, ссылаясь на пример переходного объекта Винникотта как на возможность субъекта указывать Другому на его недостатки или его нехватку и таким образом держать удар, отмечает, что это всего лишь эмблема того, чем является объект а, лишь образное, воображаемое представление об объекте а, который, как он уточняет, расположен в бессознательном. Объект а не является переходным объектом. Наблюдение за последним служит только опорой. Объект а находится в бессознательном.
И вы понимаете, почему этот объект а в бессознательном, то есть в бессознательном фантазме, позволяет нам сказать, что, согласно формуле Лакана, бессознательный фантазм всегда одной ногой находится в Другом. Одна нога бессознательного фантазма - в Другом, но не обе. Не обе ноги в той же степени, как и малое а, отделены от большого Другого. Вы можете обратиться к конструкции, которую Лакан заимствует у Фрейда в его комментарии фантазма ребёнка бьют. Вы знаете, что

Фрейд выделяет три такта разработки, последний из которых - ребёнка бьют. Он показывает, как происходит преобразование формул.
Он отмечает, что вторая формула требует реконструкции, потому что субъект никогда не вспоминает её. Что это за реконструированный второй такт? Дело в том, что формула меня бьёт отец приобретает своё значение в результате преобразования первой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу. Лакан разъясняет эту формулу, и она звучит так: он бьет моего брата или сестру, чтобы я не подумал, что он любит его больше, чем меня. Он уточняет, что здесь мы имеем развитую интерсубъективную форму, очень чётко сформулированную. Отметим, что в этой первой форме фантазма, которая после трансформации приведет к ребёнка бьют, речь идёт о любви. Речь идёт о том, чтобы знать, что на самом деле является знакомлюбви. И там избиение другого ребёнка считается знаком любви, который отец даёт субъекту. Другими словами, в самом основании фантазма заложена любовная позиция. Только после преобразований остаётся лишь ребёнка бьют, в котором мы больше не распознаём любовное прошлое фантазма. Но когда мы восстанавливаем генеалогию фантазма, мы обнаруживаем, что изначально это вопрос любви. Есть семьи, в которых отец действительно бьёт.
Например, может найтись семья, где отец бьёт мальчиков и не бьёт девочек -наоборот, он их обнимает. Тогда их особенно радует, что мальчиков бьют. В результате они вполне могут прийти к тому, чтобы вообразить наслаждение от того, что их бьют, как мальчишек, и задаться вопросом, не являются ли на самом деле побои гораздо большим доказательством отцовской любви, чем объятия. В любом случае в этой генеалогии нам показан трёхногий фантазм, но первая очень точно опирается на любовь. Первая нога фантазма находится в отношениях с большим Другим.
Как я уже сказал, доказательство Лакана состоит в том, что фантазм ребёнка бьют поддерживается сложной артикуляцией и что сцена, которая возникает в окончательной форме фантазма, поддерживается целой историей перестановок таким образом, что этот фантазм является одновременно и сценой - потому он принадлежит воображаемому, — и результатом символической трансформации, которая делает её означенной, застывшей, иератической, священной сценой. Но в то же время фантазм имеет функцию реального, по крайней мере, в той степени, в какой он отделён. Начиная от сцены, которая включает в себя любовь и вопрос о любви, мы приходим к сцене отделённой. И в этой отделённости от неистираемого образа мы уже имеем набросок функции объекта а.
Таким же образом, как отделённое, представлено покрывающее воспоминание. Именно в этом самом отрыве от неистираемого образа заключается ценность малого а. Здесь мы ясно видим, что необходимо установить борромеевскую перспективу в отношении этих неистираемых образов. Они, конечно, принадлежат воображаемому, но выполняют свою функцию только в символическом - функцию, которую Лакан в этом Семинаре демонстрирует или в виде фантазматической перестановки, или в виде истории, от которой отделено покрывающее воспоминание. В любом случае они представляют для субъекта преткновение. Они у него как кость в горле. Они сохраняют

парадоксальный, возмутительный и даже постыдный характер, и поэтому они сохраняются как реальное, реальное этой символической разработки.
Если вы вернетесь к размышлениям Лакана о ребёнка бьют, о перверсии, об образе в значении литейной формы для перверсии, вы можете переупорядочить эту конструкцию, увидев в ней части воображаемого, символического и реального с необходимостью замыкания этих трёх регистров посредством борромеевой артикуляции. Теперь мне следовало бы приступить к повторению той генеалогии перверсий, которую Лакан предлагает в своем Семинаре, но, поскольку уже половина четвёртого, я откладываю это до следующего раза.
23 марта 1994

встреча XIII
На первом плане Семинара IV Лакана фигурирует многократно повторяемая и дополняемая шаг за шагом таблица, включающая в себя лишение, фрустрацию и кастрацию - эти три термина Лакан распределяет по трём регистрам реального, воображаемого и символического. И они же задействованы в перестановке, исходя из другого троичного различения между нехваткой, объектом и агентом:
| Н О А |
| Л | Р С В |
| Ф | В Р С |
| К | С В Р |
Термин нехватка здесь формально эквивалентен термину место, то есть он отличается от занимающего это место элемента, который в данном Семинаре называется объектом. Также он чётко отличается от термина действующего агента всякий раз, когда о нём заходит речь. Этот метод, если предположить, что таковой вообще существует, строго соответствует тому, что мы находим много лет спустя в Семинаре XVII Изнанка психоанализа. Действительно, в Семинаре XVII, посвящённом построению четырех дискурсов, мы пункт за пунктом обнаруживаем этот же метод или эту же перестановочную презентацию. Мы обнаруживаем различие места и элемента в более абстрактном, если угодно, виде. И мы обнаруживаем здесь же термин агент, который в теории четырех дискурсов становится названием места, затронутого некоторым воздействием внешнего вида или подобия, места, которое в Семинаре XVII первоначально расположено в верхнем левом углу, то есть является местом господского означающего:
дискурс господина
Б1 S2
------- ------- $ а
Эта очевидная связь между Объектными отношениями и Изнанкой психоанализа указывает на то, что здесь мы имеем дело с психоаналитическим подходом, который у Лакана выявляет то, что можно назвать методом, применимость которого оправдывается его адекватностью психоаналитическому материалу, который в наилучшем виде может быть представлен в перестановочной форме.
В Семинаре IV мы имеем настоящую матрицу, упорядоченную по двум осям. На вертикальной мы разместили лишение, фрустрацию и кастрацию, а на горизонтальной мы разместили нехватку, объект и агента - в результате мы получили девять квадратов, по которым Лакан распределяет три термина: реальное,

символическое и воображаемое. В первом вертикальном столбце лишение квалифицируется как реальная нехватка, фрустрация - как воображаемая нехватка, а кастрация - как символическая нехватка. Постепенно во время семинара, Лакан аргументирует положение о том, что объект лишения, фрустрации и кастрации отличается в зависимости от характера нехватки. Таким образом, он показывает, что объект реальной нехватки является символическим, объект воображаемой нехватки является реальным, а объект символической нехватки является воображаемым. Затем на следующем такте и в соответствии с изложенной таким образом логикой он определяет, что агент лишения является воображаемым, агент фрустрации -символическим, а агент кастрации - реальным.
Здесь задействована перестановочная механика, которая выглядит очень точной. Я оставляю вам в вашем втором чтении проследить по пунктам обоснование, которое в некоторых местах кажется немного натянутым, особенно в отношении столбца агента. То здесь, то там обнаруживают себя усилия, направленные на обоснование этой перестановочной схемы. На самом деле поразительно, что эта очень точная таблица ни разу не была воспроизведена Лаканом ни в одной из его письменных статей, хотя на первый взгляд она кажется совершенно приемлемой. Почему Лакан никогда не возвращался к ней в статьях? Несомненно, это объясняется различными натяжками, связанными с клиническим значением вертикального столбца агента. Но это также объясняется - во всяком случае именно об этом я говорил в прошлый раз - тем фактом, что таблица эта появляется как набросок тройки, которую Лакан неоднократно предлагал и излагал в своих статьях. Действительно, поразмыслив, он предлагает вместо схемы этой таблицы другую, тоже тройственную схему потребности, требования и желания, и в Семинаре IV мы имеем нечто вроде фундамента тройки потребность / требование / желание.
То, что, по сути, является стержнем этой таблицы и стержнем тройки потребность/требование/желание, - это новое определение любви, любви лакановской, которая не является любовью Фрейда, в которой выглядит так, что преобладает нарциссизм. Семинар IV посвящён тому, чтобы показать, что существует не только потребность и её удовлетворение, что объект в психоанализе нельзя объяснить только потребностью и её удовлетворением, что изначально для удовлетворения потребности посредством получения дара необходимо обратиться с запросом к Другому. Несомненно, этот объект, определяемый потребностью, абсолютно специфичен - потребность всегда является потребностью в определённом объекте, - но вмешивается элемент запроса (appel), обращённого к Другому, и сам по себе этот запрос имеет последствия. Это не простая вербализация, это образование означающей формы, что в первую очередь требует, чтобы один говорил на языке другого.
Во-вторых, есть дар как таковой. Подносимый объект не затмевает дар. Есть сам факт подношения. И подношение не удовлетворяет потребность. Чему же оно отвечает? Подношение удовлетворяет любовь. Это то, что Лакан старается продемонстрировать на этом Семинаре: есть другое требование, отличное от того, что

исходит из потребности, требование, которое не распознаётся в измерении потребности, требование, которое происходит из любви. Очертания различия между двумя требованиями проступает в этом Семинаре IV, но ещё точно не задано как таковое. Только через некоторое время Лакан выдвинет эту теорию. Этот Семинар как лаборатория, в которой разрабатывается различие двух требований в рамках продвижения такого клинического представления о любви.
Требование любви, термин, который в этом Семинаре так и не введён, требует -это тезис Лакана - не объект, а ничто. В каком смысле? В каком смысле можно сказать, что это требование ничто? В том смысле, что оно не требует того или этого. Оно не запрашивает какой-то особый объект. Оно требует чтобы то ни было и поэтому безразлично к особенностям объекта. Оно запрашивает что-то, имеющее значение доказательства любви. По сути, этот Семинар проводится для того, чтобы продемонстрировать негативирующую силу любви. Что свидетельствует о любви? Это что угодно, имеющее значение «мне тебя не хватает». В этом отношении дар любви, который обрамляет, который сопровождает дар объекта, имеет прямо противоположное значение. Дарить означает сначала заявить: «Я обладаю». Дарение подчёркивает то, что Другой обладает, но более прикровенным является то, что дар, сделанный Другому в качестве доказательства любви, означает, что у меня чего-то нет - я нуждаюсь в тебе. Таким образом, в обоих случаях есть Другой как адресат, и тем не менее происходит удвоение. Требование, происходящее из потребности, адресовано Другому как имеющему, в то время как требование любви адресовано другому как неимущему. Это даёт основание для определения любви как дара от того, кто не обладает, демонстрации его нехватки.
Это различие послужит мотивом для самой конструкции того, что Лакан позже назовёт Графом желания. Эта схема действительно представляет собой двойную форму. Субъект нехватки - обозначим это перечёркивающей его чертой - обращается к другому как к имеющему, но внутри самого этого требования действует другое требование, которое отправляется по ту сторону этого большого всемогущего и обладающего Другого. Оно адресовано Другому, поскольку он неимущий - и это первая причина, по которой Лакан в Графе желания различает две ступени.
Это двоение является прежде всего раздвоением требования на требование, обращённое к тому, у кого есть и кто может удовлетворить потребность, и требование, обращённое к тому, у кого нет. Таким образом, в ходе Семинара IV мы становимся свидетелями того, что определит совершенно фундаментальный для учения Лакана ориентир. Именно это и составляет ценность, задаёт особое место этого Семинара. Здесь, между этими двумя требованиями, мы имеем операцию, дающую основание для применения термина диалектика, который на этом Семинаре используется в отношении концепта фрустрации. Требование, происходящее из потребности, требует чего-то конкретного, но требование любви, заселяющее это требование, не требует ничего конкретного - оно, по сути, требует знака, можно даже сказать, означающего, которого у другого нет. Это то, что мы найдем в Графе желания, поскольку в конечном итоге у нас есть S( А ), означающее неимущего другого. Вот какой вывод из Семинара IV делает Лакан в статье Значение фаллоса (Écrits р.691), говоря: «Требование аннулирует

(aufhebt) своеобразие всего, что может быть согласовано с превращением его в доказательство любви».
Он позаботился о том, чтобы после термина аннулирует сослаться в скобках на немецкий глагол aufhebt, представляющий собой глагольную форму гегельянского Aufhebung, которое предполагает одновременно как снятие, отмену, так и форму перехода или сублимации, которая здесь передаётся термином превращение (transmuer). В этом глаголе есть отзвук того, что, собственно, и является диалектикой Гегеля - диалектикой, присутствующей в этом Aufhebung (снятии) объекта. В требовании, которое по своей сути является требованием любви, осуществляется Aufhebung объекта, то есть его снятие, отмена и превращение в объект любви, то есть в ничто, в означающее того, что Другой - неимущий. Таким образом, любовь в своём клиническом изводе является своего рода требованием означающего вместо объекта, вместо реальности объекта. Ещё точнее можно сказать, что это требование означающего нехватки. Таким образом, можно сказать, что Семинар IV бесконечно разными способами на множестве примеров комментирует Aufhebung объекта под влиянием любви.
В этом Семинаре центральное противопоставление - это противопоставление между объектом удовлетворения и объектом дара как таковым - объектом удовлетворения, который является реальным или воображаемым, и объектом дара, который является чисто символическим. Это то, что относится к теории объектных отношений. Теория объектных отношений всегда принимала во внимание объекты удовлетворения, и усилие Лакана направлено на то, чтобы показать, что наиболее важными отношениями являются отношения, возникающие с символическим объектом как означающим нехватки другого, и что поэтому они всегда заданы, обусловлены отношениями с Другим.
Вывод, к которому Лакан в своём исследовании переходит довольно быстро, заключается в том, что ни один объект не ценен сам по себе, что он ценен только в связи с Другим и его недостатком. Если бы мы хотели сформулировать с помощью матемы то, что бесконечное количество раз было наглядно доказано, мы могли бы записать это следующим образом: $ <> А. Этой записью мы можем сказать, что все объекты сведены на нет. Это сущностный эффект любви - сводить объекты на нет, чтобы на их месте разместить означающее нехватки Другого.
Но в то же время Семинар IV не об этом! Отчасти это так, это так в какой-то части, но в то же время есть ещё кое-что, есть и тем не менее всё же. В этом ничто для всех объектов есть и тем не менее всё же. Существует этот сюрприз, который также бесконечно комментируется в Семинаре, - непотопляемый в этом всеобщем бедствии всех объектов объект, особенный объект, не абы какой объект, который является, как вы уже догадались, фаллосом.
Именно так это изложено в главе IV Диалектика фрустрации (р. 70). После того, как Лакан посвятил предыдущие страницы (р.р. 66-69) демонстрации этой пустыни любви, пустыни объектов под эгидой любви, демонстрации того, что ни один объект как таковой не имеет ценности. Но вторым движением, которое составило третью часть

его лекции, он обращает внимание на и тем не менее всё же. «Фрейд нам говорит, -говорит нам Лакан и приводит текст Фрейда по поводу этой пустыни, - Фрейд говорит нам, что в мире объектов есть объект, функция которого парадоксальным образом является решающей, а именно есть фаллос».
Здесь, как обычно, ссылка на авторитет Фрейда используется как для обозначения, так и для маскировки разрыва. Поэтому Лакан выражается парадоксально. Почему он выражается парадоксально? Потому что доктрина любви как таковая подразумевает, что не существует объекта, который можно было бы выделить. Все ценные объекты одинаковы - незначительны по сравнению с означающим нехватки Другого. Парадокс заключается в том, что есть один, который тем не менее имеет своё отдельное место и который Лакан вводит, ссылаясь на Фрейда и данные клинического опыта. Термин данные встречается на этой странице 70, и в других своих работах Лакан будет приводить это как факт - факт клинического опыта.
Вопреки тому, что можно было бы подумать, объект выделяется. Здесь есть -рассмотрим это таким образом - теоретическая проблема, которая очень смущала тех, кто занимался Лаканом и усматривал в фаллоцентризме - термине, используемом Лаканом в его работах о психозах, - своего рода ограничение, привносимое в бесконечную подмену объектов друг другом. Вслед за Лаканом мы задаёмся вопросом: но зачем тогда этот фаллос? Почему ему отводится отдельное место? Почему бы просто не остановиться на этой сводящей на нет эквивалентности друг другу всех объектов? Ответ Лакана в Семинаре IV сводится к тому, что так говорит Фрейд и это подтверждает клиника. Только позже, после этого Семинара, появится точная теоретическая разработка, призванная ответить на этот вопрос - вопрос о том, как получается, что в сведении на нет всех объектов, создаваемом любовью, один объект среди других тем не менее обосабливается, выделяется или даже выделяется как означающее par excellence нехватки в Другом.
Теория, которую Лакан позже выдвинет для решения этой теоретической проблемы, состоит в том, что аннуляция не является полной. Аннуляция особенности объекта под воздействием требования любви не является полной. Превращение (transmutation) объекта потребности в доказательство любви происходит не без остатка. Лакан приводит эту конструкцию именно для того, чтобы разрешить этот парадокс - парадокс фаллоса. Как иначе объяснить факт того, что объект сохраняет эту довольно отчётливую функцию, как не предположив, что исчезновение, Aufhebung, объекта не является полным, что после него есть остаток и что особенность этого остатка заключается в том, что он несёт на себе отпечаток абсолютного требования любви.
Таким образом, теоретическое решение состоит в том, чтобы сказать, что особенность объекта [удовлетворения] потребности, однажды устранённая требованием, снова появляется по ту сторону требования. Облитерация объекта [удовлетворения] потребности сохраняет остаток. Таким образом, если требование отрицает потребность, оно не является отрицанием насухо, не является чистым отрицанием. По ту сторону своего воздействия оно сохраняет остаток, и в Значении

фаллоса Лакан уточняет, что это не простое отрицание отрицания. Это не отвечает прямо и непосредственно диалектическому механизму, поскольку оно основано на нераспознанной Гегелем функции остатка. И это снова даёт о себе знать по ту сторону, поскольку остаток привносит характер абсолюта, которым он отмечен.
В этом изложении Лакан не говорит, что требование попросту устраняет потребность. Он не говорит, что потребность затмевает требование, но что между потребностью и требованием существует Spaltung - здесь он использует термин, который Фрейд выделяет в статье о Расщеплении объекта. Есть Spaltung, есть раскол, есть расщепление, то есть не просто отрицание и отрицание отрицания, но производство остатка, остатка операции, и именно исходя из этого Лакан сможет вывести желание и фаллос как означающее желания.
Мы можем представить этот вывод сам по себе - потребность, требование, желание, - но благодаря Семинару IV мы действительно восстанавливаем его клиническую основу, а также основания скандала, который необходимо учитывать, возникающий вследствие того, что аннуляция объектов потребности любовью не мешает верховодству фаллоса. Затем Лакан пытается использовать эту модифицированную диалектическую конструкцию, чтобы объяснить тот факт, что аннулирование не является полным, что после него сохраняется остаток и что этот остаток сохраняет что-то от абсолютного требования любви, поскольку он исполняет в психике свою верховную функцию.
В статье Значение фаллоса, которая является своего рода теоретическим решением парадокса Семинара IV, мы имеем в очень элегантной, но в то же время рискованной форме следующую формулу, которая очень точно отражает взаимосвязь между Aufhebung объекта и фаллосом. Согласно этой формуле, фаллос является означающим Aufhebung объекта. Это формула более-менее отчётливо проступает в этой статье. Означающее Aufhebung я записываю как Sa, что является лингвистической аббревиатурой означающего, а объект я записываю под чертой. И вот запись означающего Aufhebung объекта:
ISa
(.....) = <р
obj
Теоретическое решение, представленное в Семинаре IV, состоит в том, что фаллосом называется означающее самой этой операции. Фаллос является означающим аннуляции объекта означающим, и именно поэтому фаллос остаётся на плаву (surnage), именно поэтому верховодство (primauté) фаллоса как раз и является следствием Aufhebung объекта.
В этом отношении, по тексту Значение фаллоса, фаллос воплощает аннулирующую силу означающего. Изложение в этой статье разворачивается через артикуляцию противоречия между требованием любви и желанием - требованием любви, направленным на ничто, и желанием, которое поддерживается фаллосом. Вы найдёте это на странице 693 Écrits. Это то, что Лакан представляет как диалектику требования любви и испытания желанием.

Но вся эта диалектическая артикуляция, которая впоследствии будет разработана Лаканом, отсутствует в Семинаре IV. Вы можете в разных местах обнаружить эту недостачу. В Семинаре есть ряд моментов, запутанность которых связана именно с тем, что это теоретическое решение ещё не разработано. Таким образом, иногда возникают специфические затруднения, решение для которых будет найдено позже. Вне тех чётких положений, которые уже в безупречной форме обнаруживаются в Écrits, по поводу каждой формулы этого Семинара можно поставить совершенно конкретный вопрос, например, как я сделал это сейчас.
В Семинаре IV у нас нет диалектического примирения, скорее, мы имеем парадоксальное противостояние. Перед нами парадоксальное противостояние между тем фактом, что любовь направлена на ничто, и приматом фаллоса в клинике. На этом семинаре поднимается вопрос отношений перечёркнутого А - нехватки в другом - и фаллоса: А <> ф. И у нас есть клиническая данность того факта, что желание матери как женщины - это фаллос. Это значит, что у матери есть фундаментальная нехватка обладания, что эта нехватка проецируется, если можно так выразиться, как желание фаллоса и что у ребёнка есть своего рода want to be (желание быть) - этот перевод на английский Лакан гораздо позже предложит для своей нехватки бытия (manque-à-être), поскольку слово want на английском языке может одновременно означать как недостаток или нехватку, так и желание, волю. Таким образом, у ребёнка есть want to be фаллосом, желание быть фаллосом. Таким образом, трудность согласования Aufhebung объекта и примата фаллоса позволяет выявить в этом Семинаре неявно присутствующую диалектику бытия и обладания - диалектику между нехваткой обладания и желанием быть.
Здесь мы можем найти ресурс, к использованию которого в этом Семинаре Лакан ещё мало прибегал, речь идёт о том, что он называет попутным замечанием. Вы найдёте его на странице 82. В качестве своего рода экскурса он вводит ссылку на Фрейда, касающуюся анаклитических и нарциссических отношений, и представляет эти формулировки как парадоксальные. Давайте рассмотрим это в данной отсылке.
Различие между анаклитическими отношениями - то есть по тому как это переведено, отношениями с Другим - и нарциссическими отношениями проведено Фрейдом в конце второй части статьи о нарциссизме 1914 года. Фрейд выделяет в ней два типа выбора объекта. Это хорошо известно, но нужно уловить, каким образом выворачивается Лакан для того, чтобы пробудить интерес. Итак, два типа выбора объекта в зависимости от того, делает ли субъект этот выбор полагаясь на большого Другого, или же полагается на себя. То, что переведено как анаклитический, по-немецки означает опираться на. Это было переведено как анаклитический по отношению к так называемым анаклитическим терминам, то есть терминам, которые в языке не могут занимать первое место в образовании слова, а являются лишь последующими и должны стоять после основного термина.
Согласно Фрейду, первый тип выбора объекта - это когда субъект привязывается к людям, которые заботятся о нём, которые его кормят и защищают. Это первоисток выбора объекта. Таким образом, в основном речь идёт о матери или, как говорит

Фрейд, о том, кто её замещает. Я подчёркиваю это, поскольку Фрейд не настолько привязывается к персонажам семейного театра, чтобы не предполагать возможности их замены. Он уже, по сути, является структуралистом в том смысле, что принимает во внимание место, которое отвечает какой-либо функции, и различные элементы, которые могут прийти на это место, чтобы поддержать эту функцию. Итак, первый тип выбора объекта состоит в следующем: мы выбираем объект, от которого зависим и который любим.
Второй тип выбора объекта - это тот, в котором моделью является не мать, а сам субъект. В некотором смысле мы любим двойника или же другого, в котором мы узнаём себя. Фрейд смягчает различение, отмечая, что у каждого субъекта обычно имеет место сочетание этих двух типов выбора объекта. Выбора объекта не однозначен, но в целом у каждого можно выявить предпочтение, отдаваемое тому или иному типу. В то же время Фрейд накладывает различие между двумя типами выбора объекта на различие полов. Он утверждает, что первый тип выбора, называемый анаклитическим, более характерен для мужчин, в то время как второй более характерен для женщин. Перенос своего нарциссизма на объект, в результате чего происходит переоценка этого объекта и, соответственно, истощение собственного Я субъекта, он представляет как сущностно мужской эффект. Фрейдовская мужская любовь как раз это самое и есть. Это означает встретить в представителе другого пола объект - объект, переоценка которого субъектом приводит к тому, что сам этот субъект оценивает себя ниже.
Гораздо позже, в главе VIII Массовой психологии, Фрейд проводит анализ состояния влюблённости и любви с первого взгляда, который строго соответствует данной линии размышления. Это похоже на внезапный перенос либидо на объект, который в соответствии с этой гидравлической моделью либидо, приводит к понижению либидо собственного Я. В этом отношении мужчина опустошает свой нарциссизм, за счёт которого превозносит свой объект, и затем оказывается в положении зависимости - он начинает прислушиваться к своему объекту как к голосу Сверх-Я и подчиняется его заповедям. Можно сказать, что он помещает в Другого свой Я-Идеал. Кстати, то, что нам известно о жизни Фрейда, о его встрече с будущей женой, по-видимому, очень точно соответствует этому анализу.
Нарциссический выбор, по мнению Фрейда 1914 года, характерен для женщины. Как он об этом говорит, она любит себя гораздо больше, чем другого. Именно здесь он, отвергая все кривотолки и предубеждения в отношении женщин, восхваляет роль нарциссических женщин в культуре. Но, по сути, для Фрейда именно первый тип выбора объекта является истинным. Кстати, он использует как раз это выражение. Истинный выбор объекта - это анаклитический выбор, при котором мы действительно любим другого, тогда как при нарциссическом выборе в конечном итоге остаются лишь модальности любви к себе.
Лакан ссылается на эту фрейдовскую конструкцию, которая впоследствии используется в других текстах Фрейда, но впервые появилась в 1914 году, и он позиционирует анаклитическую позицию как наиболее открытую, хотя её можно

представить как наиболее инфантильную, наиболее пассивную, в то время как именно нарциссическая позиция ведёт к активности. Лакан основывается на том, что называет примечательным противоречием в построении Фрейда, которое предполагает потребность быть любимым в анаклитических отношениях и потребность любить в нарциссических отношениях. В Семинаре IV он использует эту отсылку, чтобы определить мужскую сексуальность, и заменяет здесь ребёнка на взрослого мужчину.
Почему анаклитическая позиция могла бы быть более открытой? Почему у Фрейда различие анаклитического и нарциссического перекликается с различием полов? Вот какое построение накладывает на конструкцию Фрейда Лакан: если для мужчины анаклитические отношения наиболее благоприятны, наиболее адекватны, то происходит так потому, что мужчина есть тот, кто обладает, то есть наделён фаллосом как объектом желания. Вот что делает нормальным его положение быть любимым. И даже будучи ребёнком, он знает - Лакан говорит об этом на странице 84, - что незаменим для матери как единственный обладатель объекта её желания. Эта формула довольно ненормальна, потому что с очевидностью противоречит Эдипу -Эдипу, который полагает, что, напротив, именно отец является хранителем этого объекта, а мать желает нечто помимо ребёнка. Но если Лакан формулирует вещи таким образом с помощью этой фрейдовской ссылки на анаклитические отношения, то именно для того, чтобы показать, что если эти анаклитические отношения являются единственно заданным типом выбора объекта, то это вводит субъекта в перверсию.
Если проследить эту накладываемую Лаканом конструкцию чуть дальше, окажется, что она подразумевает нормальным такое положение мужчины, в котором он принимает факт обладания, то есть он в некотором роде естественным образом находится в положении быть любимым - быть любимым женщинами. Ну да, скандал!... Но это так, и как раз поэтому он подчиняется диалектическому требованию - счастливая диалектика... - подавать знаки любви, показывающие именно его необладание, и если он их не подает, что ж, тогда он хам и грубиян, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот почему в этом отношении нет ничего лучше, чем его недостатки с точки зрения обладания чем-либо - его недостатки, которые являются знаками предела его могущества. По сути, то, что наиболее ценно в этом отношении, так это, очевидно, признаки его беспомощности, которые свидетельствуют о том, что он предлагает свою кастрацию и что он соглашается поставить её на службу Другому. Можно даже сказать, что мужчина может быть объектом любви только при том условии, что в основе его обладания тем не менее лежит ничто.
Здесь можно сказать, что этот экскурс Лакана подготавливает к тому, что позже станет его чтением Пира Платона и мифа, в котором мужчина - это порос, то есть тот, кто обладает, а женщина исконно апория - та, кто не обладает. Чтобы сориентироваться в делах любви, нужно обратиться к этому основному положению. Это обладание является для Лакана сущностью анаклитических отношений. Это обнаружит себя в статье Значении фаллоса, когда он попытается расположить мужчину и женщину друг относительно друга в их отношении к любви и желанию, когда он скажет, что женщина находит означающее своего желания в теле мужчины и что орган,

облачённый таким образом в свою означающую функцию, приобретает значение фетиша.
В Семинаре IV этот экскурс в анаклитические отношения даёт Лакану материал для генеалогии перверсии - генеалогии перверсии, основа которой кроется в самих этих анаклитических отношениях, если они - используем это слово - не преобразованы (transmuée) символическим. Что было бы, если бы они прошли через символическое преобразование? Получилось бы так, что ребёнок заметил бы, что у матери есть желание помимо него. Если она по какому-то недоразумению остаётся чисто воображаемой, что тогда происходит с ребёнком, имеющим дело с парой мать-фаллос? - поскольку к этому, по сути, и сводится дающая о себе здесь знать фундаментальная диспозиция: ребёнок сталкивается не только с матерью, но с парой матери и фаллоса, то есть с парой матери как её нехваткой и тем, чего ей не хватает, что символизирует эту нехватку.
Два решения! Или идентифицироваться с ней, или идентифицироваться с фаллосом. Или с места матери сделать фаллический выбор, то есть идентифицироваться с ней в её стремлении к фаллосу, воспринять её томление (nostalgie) по фаллосу и, следовательно, идентифицироваться с той, у кого его нет - что в действительности обнаруживается у гомосексуального субъекта в виде одержимости фаллосом, заимствованной у матери, в виде восхваления притягательного объекта, который был объектом матери, или - в другом случае - идентифицироваться с фаллосом не из положения иметь, а из положении быть. В этом и заключается то, что мы порой разыскиваем в речи гомосексуалиста: узнать, куда ушла любовь, поскольку гомосексуальные отношениях, как кажется, могут полностью обойтись без неё. В таких отношениях любовь приобретает своего рода невидимость, как будто присутствует каким-то образом подспудно. И эта любовь - это любовь матери, которую иногда может представлять партнёр, выбранный среди прочих. В дополнение к этому в Семинаре IV Лакан подробно останавливается на описанных в ряде клинических работ других аналитиков очень быстрых переходах перверта из одного положения в другое -переходов от идентификации с матерью к идентификации с фаллосом.
Здесь, безусловно, предпочтение отдается мужской позиции. Когда Лакан подробно описывает генеалогию объекта фетиша, он делает это, рассматривая мужчину и желание. То, что противоречит этой генеалогии фетишизма, так это, собственно, структура женской гомосексуальности, которая, как показывает анализ юной гомосексуальной пациентки, формируется в измерении любви и разочарования в любви, что приобретает для неё кастрирующее значение. Но то, что тем не менее проходит красной нитью, так это вопрос фетиша у женщины.
У женщин есть дети. У мужчин они есть только во вторую очередь. В чём заключается значение детей для женщины? Несомненно, когда этот объект приписывается мужчине, - это объект любви. Но когда он не так уж и соотносится с мужчиной, разве нельзя сказать, что ребёнок становится объектом фетиша для женщины? Лакан прямо ставит этот вопрос, ссылаясь на Фрейда, который сам и во многих случаях - здесь я приведу только этот, но, возможно, в следующий раз я

обращусь к другим, - искал эквиваленты фаллоса. Например, в том, что касается изменений в субъективном положении девочки, он в тексте 1925 года Некоторые психические последствия анатомического различия полов прямо говорит об уравнении пенис = ребёнок. «Либидо девушки - говорит он, - занимает новую позицию (можно лишь сказать: путем предначертанного символического сравнения пенис-ребенок). Она отказывается от желания иметь пенис, чтобы заменить его желанием иметь ребёнка».
Фрейд много раз возвращался к этой замене - замене желания пениса на желание ребёнка, - испытывая к тому же определённые трудности в установлении подлинности желания по отношению к мужчине. Что действительно хорошо простроено у Фрейда, так это желание пениса и желание ребёнка: желание пениса, которое считается первоначальным, и желание ребёнка, являющееся обоснованной заменой. Затем между ними возникает желание мужчины - мужчины, о котором он однажды сказал, что тот в конечном итоге является своего рода придатком пениса. Именно это вводит в повестку Семинара IV вопрос о субъективной подлинности материнства, поскольку, в конце концов, ребёнок, если следовать самому Фрейду, является заменителем пениса, и между ним и фетишем есть нечто общее. Вот почему Лакан считал клиническим фактом, что обычно женщины имеют желание, как он говорил, отелиться. Они хотят заполучить его. Таким образом, мы часто видим такой исход, но это ещё ничего не говорит о его подлинности.
Вопрос в том, в какой степени материнство является достойным решением проблемы женственности. Достоинство в этом есть. Но в какой степени с аналитической точки зрения оно подлинно? Здесь необходимо чётко различать мать и жену. Мать - это та инстанция, которую зовут. Вот как мы видим её в Семинаре IV. Она та, кого зовут на помощь, и та, кто благодетельствует. Или та, кто отказывает, кто не отвечает, кого здесь нет. Мать - это по преимуществу Другой требования, то есть Другой, от которого мы зависим, Другой анаклитических отношений, если говорить словами Фрейда, Другой, от которого мы ждём ответа и который иногда держит в напряжении. Мать - это Другой, которого нужно спрашивать на его языке, Другой, с языком которого заведомо нужно согласиться, чтобы говорить с ним. Сказать, что это Другой требования, значит признать, что первичной речью является речь требования и что любая речь имеет примесь этого требования. За исключением, как мы надеемся, речи осуществляющего свою деятельность аналитика.
Аналитиком мог бы считаться тот, чья речь не содержала бы примеси требования, в чьей речи не была бы замешана мать. В конце концов, это то, что религия хорошо усвоила и использует, а именно то, что речь по своей сути является молитвой, но при этом в религии она обращается к отцу - тому отцу, который, в конце концов, является заменой первого материнского божества. Действительно, Другим требования, как Лакан представляет его в Семинаре IV, является могущество - могущество, усиливающее требование. Происхождение всемогущества не следует искать на стороне отца. Мы должны искать его происхождение на стороне матери, Великой Матери, первой среди богов, белой богини, той, которая, как нам говорят,

предшествовала религиям отца. Итак, этот Другой требования является матерью, в общем, это тот Другой, который обладает, это богатство и изобилие, это то, что в мифе о Зевсе нам представлено как коза Амальтея, полный до краёв рог изобилия.
А женщина? Что такое женщина в бессознательном? Это полная противоположность матери. Женщина - это Другой, который не имеет, это Другой необладания, это Другой недостатка, нехватки, который воплощает рану кастрации, это Другой, поражённый в своём могуществе. Женщина - это униженный Другой, страдающий Другой, а значит и Другой, который подчиняется, Другой, который жалуется, Другой, который стенает, Другой бедности, лишения, нищеты, Другой, которого крадут, Другой, которого клеймят, Другой, которого продают, Другой, которого бьют, Другой, которого насилуют, Другой, которого убивают, Другой, который всегда страдает и которому нечего дать, кроме его нехватки и знаков его нехватки. Полная противоположность матери!
Но даже под гнётом всего того, что она испытывает и от чего страдает, женщина остаётся Другим желанным, Другим желания, но не Другим требования. Если мы хотим противопоставить мать и жену, давайте сначала скажем, что мать - это Другой требования, а женщина - Другой желания, Другой, от которого ничего не требуют, но которого подчиняют, эксплуатируют, заставляя работать, Другой, которого подвергают цензуре, Другой, которого затыкают, заставляя молчать, и о котором, кроме всего прочего, говорят плохо.
Конечно, бывает, что о ней говорят хорошее, её прославляют и выставляют нагишом, но разве так бывает не тогда, когда на неё падает тень матери? Ведь куртуазная любовь, в которой более всего превозносят женщину и её нехватку, предполагает именно то, что к женщине не прикасаются. Это наводит на мысль, что на женщину падает тень матери. Именно это приводит Фрейда к обвинению женщины в том, что она наслаждается страданиями. Не будем заходить так далеко, но следует учесть типичные фантазии, которым, как правило, предаются женщины, когда для достижения наслаждения они представляют себя объектом преследования со стороны мужчин - избитыми, доведёнными до изнеможения, - как если бы это было навязанным им условием для того, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной. Это подвергать себя страданию, впрочем, охотно идёт окольными путями, например, под прикрытием императива быть красивой, который часто является лишь маской эстетизированного мазохизма.
Получается комедия дель арте с хорошо контрастирующими персонажами. С одной стороны - мать, замкнутая на детей, с другой - женщина, закованная в цепи. Мать, осыпанная похвалами, и жена, покрытая плевками. Здесь власть и богатство, там рабство и нищета. С одной стороны - обладание, а с другой - нехватка. Из чего следует, что это не одно и то же. Факты, которые накапливает аналитический опыт, не позволяют установить не только идентичность между матерью и женой, но и даже существующую между ними неразрывную связь. Более того, есть факт - новый факт, современный факт - что там, где женщины стали гражданами, полноправными субъектами - что заняло много времени, - они с готовностью возражают против

материнства, что привело к беспрецедентному падению рождаемости и является сейчас проблемой для правительств старой Европы и даже в некоторой степени для Соединённых Штатов.
По сути, это поднимает вопрос фрейдовского уравнения пенис = ребёнок. Чтобы быть женщиной, нужно ли отказываться быть матерью? Давайте признаем, что именно этот путь выбирают определённое количество женщин. Также как определённое количество соглашаются на материнство только в минимально возможной степени лишь для того, чтобы получить привилегированный статус, который по-прежнему остаётся за матерью, а не за женщиной. Но как только у них появляется право голоса, они говорят: «Не более того!» - отказываясь, в сущности, реализовать себя в изобилии потомства.
Итак, вопрос о том, нужно ли отказываться быть матерью, чтобы быть женщиной, заслуживает того, чтобы его задать. Я выскажу вам своё мнения в следующий раз, но до тех пор прошу вас воздержаться от каких-либо выводов!
30 марта 1994

Оглавление
Часть I Теория нехватки объекта
глава 1 Введение
глава 2 Три формы нехватки объекта
глава 3 Означающее и Святой Дух
глава 4 Диалектика фрустрации
глава 5 Об анализе как bundling'e и его последствиях
Часть II Перверсивные пути проявления желания
глава 6 Приоритет фаллоса и юная гомосексуальная пациентка
глава 7 «Ребёнка бьют» и юная гомосексуальная пациентка
глава 8 Дора и юная гомосексуальная пациентка
Часть III Объект-фетиш
глава 9 Функция завесы
глава 10 Идентификация с фаллосом
глава 11 Фаллос и ненасытная мать
Часть IV Структура мифов в наблюдении фобии маленького Ганса
глава 12 О комплексе Эдипа
глава 13 О комплексе кастрации
глава 14 Означающее в реальном
глава 15 Для чего нужен миф
глава 16 Как анализируется миф
глава 17 Означающее и острота
глава 18 Круговыеконтуры
глава 19 Перестановки
глава 20 Трансформации
глава 21 Панталоны матери и несостоятельность отца
глава 22 О логике из каучука
глава 23 «Без женщины даст мне потомство в родах»
Посвящение
глава 24 От Ганса-фетиша к Леонардо-в-зеркале
Представление Семинара IV. Ж.-А. Миллер
Итак. Логика лечения. Ж.-А. Миллер
встреча IX
встреча X
встреча XI
встреча XII
встреча XIII





 Прежде всего, эта схема описывает связь между субъектом и Другим. В том виде, в котором она устанавливается в начале анализа, это связь виртуальной речи (parole virtuel), посредством которой субъект получает от Другого своё собственное послание в форме бессознательной речи. Послание это для него заперто; непризнанное им, оно искажено, прервано, сковано вмешательством воображаемых отношений между а и a', между собственным Я (moi) и другим (autre), его типичным объектом. Воображаемые отношения, которые, по сути своей, являются отношениями отчуждения, прерывают, замедляют, тормозят, зачастую переворачивают и глубоко искажают речевую связь между субъектом и Другим, большим Другим, который, будучи другим субъектом, является субъектом принципиально способным на обман.
Неслучайно мы ввели эту схему именно в тот момент, когда всё большее число аналитиков формулирует аналитический опыт, отдавая предпочтение теории объектных отношений, оставляя её, однако, без дополнительных комментариев, когда на объектные отношения переориентирована диалектика принципа удовольствия и принципа реальности, когда прогресс анализа связывается с отлаживанием взаимосвязи субъекта и объекта, которую рассматривают как дуальную и которая, если послушать их, чрезвычайно проста. Именно эти отношения субъекта с объектом, которые всё более претендуют на центральное положение в аналитической теории, мы и собираемся рассмотреть критически.
Принимая во внимание, что объектные отношения как дуальные получили место на нашей схеме в виде линии а ^ а' можем ли мы, исходя только из этого, смоделировать надлежащим образом весь комплекс феноменов, предлагаемых нашему вниманию в аналитическом опыте? Позволяет ли один только этот инструмент объяснить все факты? Можно ли пренебречь или даже отбросить ту более сложную схему, которую мы такому подходу противопоставляем?
Для подтверждения того, что объектные отношения стали - по крайней мере так это выглядит - главным теоретическим элементом аналитического объяснения, я приведу пример одной недавно опубликованной коллективной работы, по отношению к которой термин коллективный оказывается особенно уместен. Я не имею в виду, что вам стоит в неё вникать. Эта работа целиком посвящена разбору объектных отношений - она не всегда удовлетворительна в смысле изложения, но её монотонность и однообразие поражают. В статье, озаглавленной Эволюция психоанализа, именно объектные отношения оказываются на первом плане, а в качестве последнего слова этой эволюции вы найдёте в статье Психоаналитическая клиника презентацию, целиком ориентированную на объектные отношения клиники. Возможно, я поделюсь с вами попозже мыслью о том, куда может завести такая презентация.
Картина совершенно поразительная. Мы видим практикующих аналитиков, которые пытаются упорядочить размышления и понимание собственного опыта вокруг объектных отношений; не похоже, что это их полностью и окончательно удовлетворяет, но при этом именно объектные отношения ориентируют их практику и пронизывают её очень глубоко. Нельзя полагать, что осмысление ими своего опыта в данном регистре не оказывает влияния на сами способы их вмешательства, на направление, придаваемое анализу, и заодно на его результаты. Этого невозможно не заметить, просто почитав их. Аналитическая теория и практика, как мы всегда это твердим, друг от друга неотделимы, и как только мы наделили опыт определённым смыслом, мы
Прежде всего, эта схема описывает связь между субъектом и Другим. В том виде, в котором она устанавливается в начале анализа, это связь виртуальной речи (parole virtuel), посредством которой субъект получает от Другого своё собственное послание в форме бессознательной речи. Послание это для него заперто; непризнанное им, оно искажено, прервано, сковано вмешательством воображаемых отношений между а и a', между собственным Я (moi) и другим (autre), его типичным объектом. Воображаемые отношения, которые, по сути своей, являются отношениями отчуждения, прерывают, замедляют, тормозят, зачастую переворачивают и глубоко искажают речевую связь между субъектом и Другим, большим Другим, который, будучи другим субъектом, является субъектом принципиально способным на обман.
Неслучайно мы ввели эту схему именно в тот момент, когда всё большее число аналитиков формулирует аналитический опыт, отдавая предпочтение теории объектных отношений, оставляя её, однако, без дополнительных комментариев, когда на объектные отношения переориентирована диалектика принципа удовольствия и принципа реальности, когда прогресс анализа связывается с отлаживанием взаимосвязи субъекта и объекта, которую рассматривают как дуальную и которая, если послушать их, чрезвычайно проста. Именно эти отношения субъекта с объектом, которые всё более претендуют на центральное положение в аналитической теории, мы и собираемся рассмотреть критически.
Принимая во внимание, что объектные отношения как дуальные получили место на нашей схеме в виде линии а ^ а' можем ли мы, исходя только из этого, смоделировать надлежащим образом весь комплекс феноменов, предлагаемых нашему вниманию в аналитическом опыте? Позволяет ли один только этот инструмент объяснить все факты? Можно ли пренебречь или даже отбросить ту более сложную схему, которую мы такому подходу противопоставляем?
Для подтверждения того, что объектные отношения стали - по крайней мере так это выглядит - главным теоретическим элементом аналитического объяснения, я приведу пример одной недавно опубликованной коллективной работы, по отношению к которой термин коллективный оказывается особенно уместен. Я не имею в виду, что вам стоит в неё вникать. Эта работа целиком посвящена разбору объектных отношений - она не всегда удовлетворительна в смысле изложения, но её монотонность и однообразие поражают. В статье, озаглавленной Эволюция психоанализа, именно объектные отношения оказываются на первом плане, а в качестве последнего слова этой эволюции вы найдёте в статье Психоаналитическая клиника презентацию, целиком ориентированную на объектные отношения клиники. Возможно, я поделюсь с вами попозже мыслью о том, куда может завести такая презентация.
Картина совершенно поразительная. Мы видим практикующих аналитиков, которые пытаются упорядочить размышления и понимание собственного опыта вокруг объектных отношений; не похоже, что это их полностью и окончательно удовлетворяет, но при этом именно объектные отношения ориентируют их практику и пронизывают её очень глубоко. Нельзя полагать, что осмысление ими своего опыта в данном регистре не оказывает влияния на сами способы их вмешательства, на направление, придаваемое анализу, и заодно на его результаты. Этого невозможно не заметить, просто почитав их. Аналитическая теория и практика, как мы всегда это твердим, друг от друга неотделимы, и как только мы наделили опыт определённым смыслом, мы неизбежно будем руководствоваться в практике ровно этим смыслом. Безусловно, практические результаты могут быть только промежуточными.
Чтобы подойти к теме объектных отношений, а вернее, к вопросу о том, по какому праву и насколько обоснованно им было отведено центральное место в аналитической теории, я напомню вам хотя бы вкратце, чем это понятие обязано или не обязано самому Фрейду. Я сделаю это прежде всего потому, что отталкиваться от фрейдовского комментария стало для нас своего рода руководством и почти техническим предписанием, которое мы для себя здесь установили.
К тому же в этом году я уловил возникший у вас вопрос, если не беспокойство, по поводу того, не собираюсь ли я отойти от фрейдовских текстов. Нет сомнений, что очень трудно начинать разговор об объектных отношениях непосредственно с текстов Фрейда, потому что их там нет. Я говорю, конечно же, о теме, которая весьма отчётливо проявляет себя как отступление (déviation) от аналитической теории. Поэтому мне приходится начинать с недавних текстов и сразу же с критики их позиций. Зато в конечном итоге мы должны будем вернуться на фрейдовские позиции, сомнений в этом быть не может, и тем не менее с самого начала мы не можем не привести хотя бы очень кратко то, что в строго фрейдовских фундаментальных положениях вращается вокруг самого понятия объекта.
Мы не можем сделать это сразу в развёрнутом виде. Но в конце мы вернёмся именно к этому, чтобы чётко это сформулировать.
Поэтому я хочу лишь кратко напомнить вам то, о чём говорить было бы немыслимо, если бы мы не посвятили три года совместной работы анализу текстов, если бы вы уже не встречали вместе со мной тему объекта в различных её формах.
1
Конечно, у Фрейда говорится об объекте. Заключительный раздел Трёх очерков по теории сексуальности называется Обнаружение (trouvaille) объекта, Die Objektfindung. Объект подразумевается всякий раз, когда вступает в игру понятие реальности. Мы говорим о нём ещё в одном случае каждый раз, когда имеем в виду амбивалентность определённых основополагающих отношений, а конкретно тот факт, что субъект становится объектом для другого, и существует определённый тип отношений, в которых взаимосвязь (réciprocité) посредством объекта является очевидной и даже образующей.
Я хотел бы более основательно остановиться на трёх модальностях, в которых предстают перед нами понятия, непосредственно относящиеся к объекту. Если вы заглянете в упомянутый раздел Трёх очерков по теории сексуальности, вы увидите кое-что уже сформулированное раньше, во время написания Entwurf, текста, который, как я вам говорил, был опубликован только в результате своего рода исторического недоразумения, поскольку Фрейд не только не хотел его публикации, но можно сказать, что она случилась против его воли. Тем не менее, когда мы обращаемся к этому первому наброску его психологии, мы обнаруживаем ту же самую формулу объекта. Фрейд настаивает на том, что в своих поисках объекта человек всегда стремится обрести объект, некогда потерянный, объект, который необходимо заново найти.
неизбежно будем руководствоваться в практике ровно этим смыслом. Безусловно, практические результаты могут быть только промежуточными.
Чтобы подойти к теме объектных отношений, а вернее, к вопросу о том, по какому праву и насколько обоснованно им было отведено центральное место в аналитической теории, я напомню вам хотя бы вкратце, чем это понятие обязано или не обязано самому Фрейду. Я сделаю это прежде всего потому, что отталкиваться от фрейдовского комментария стало для нас своего рода руководством и почти техническим предписанием, которое мы для себя здесь установили.
К тому же в этом году я уловил возникший у вас вопрос, если не беспокойство, по поводу того, не собираюсь ли я отойти от фрейдовских текстов. Нет сомнений, что очень трудно начинать разговор об объектных отношениях непосредственно с текстов Фрейда, потому что их там нет. Я говорю, конечно же, о теме, которая весьма отчётливо проявляет себя как отступление (déviation) от аналитической теории. Поэтому мне приходится начинать с недавних текстов и сразу же с критики их позиций. Зато в конечном итоге мы должны будем вернуться на фрейдовские позиции, сомнений в этом быть не может, и тем не менее с самого начала мы не можем не привести хотя бы очень кратко то, что в строго фрейдовских фундаментальных положениях вращается вокруг самого понятия объекта.
Мы не можем сделать это сразу в развёрнутом виде. Но в конце мы вернёмся именно к этому, чтобы чётко это сформулировать.
Поэтому я хочу лишь кратко напомнить вам то, о чём говорить было бы немыслимо, если бы мы не посвятили три года совместной работы анализу текстов, если бы вы уже не встречали вместе со мной тему объекта в различных её формах.
1
Конечно, у Фрейда говорится об объекте. Заключительный раздел Трёх очерков по теории сексуальности называется Обнаружение (trouvaille) объекта, Die Objektfindung. Объект подразумевается всякий раз, когда вступает в игру понятие реальности. Мы говорим о нём ещё в одном случае каждый раз, когда имеем в виду амбивалентность определённых основополагающих отношений, а конкретно тот факт, что субъект становится объектом для другого, и существует определённый тип отношений, в которых взаимосвязь (réciprocité) посредством объекта является очевидной и даже образующей.
Я хотел бы более основательно остановиться на трёх модальностях, в которых предстают перед нами понятия, непосредственно относящиеся к объекту. Если вы заглянете в упомянутый раздел Трёх очерков по теории сексуальности, вы увидите кое-что уже сформулированное раньше, во время написания Entwurf, текста, который, как я вам говорил, был опубликован только в результате своего рода исторического недоразумения, поскольку Фрейд не только не хотел его публикации, но можно сказать, что она случилась против его воли. Тем не менее, когда мы обращаемся к этому первому наброску его психологии, мы обнаруживаем ту же самую формулу объекта. Фрейд настаивает на том, что в своих поисках объекта человек всегда стремится обрести объект, некогда потерянный, объект, который необходимо заново найти. Речь никак не об объекте современной теории, которая рассматривает его как объект, полностью удовлетворяющий, объект типичный, объект par exellence, объект гармоничный, объект, который укореняет человека в той достоверной реальности, где утверждается его зрелость, - пресловутый генитальный объект.
Совершенно поразительно, что в тот момент, когда Фрейд создаёт теорию инстинктивного развития в том виде, в котором она возникает из первого аналитического опыта, он указывает нам на то, что объект обнаруживается на пути поиска утраченного объекта. Этот объект соответствует определённой продвинутой стадии созревания инстинктов, это вновь найденный объект, объект первого отлучения, именно тот объект, который в самом начале был связан с первыми удовлетворениями ребёнка.
Ясно, что условие несоответствия устанавливается одним лишь фактом этого повторения. Ностальгия, которая связывает субъекта с утраченным объектом, пронизывает все усилия поисков. Она помечает новую находку знаком невозможности повторения, поскольку это точно не тот же самый объект, он не может быть тем самым. Первичность этой диалектики задаёт в центре отношений субъект-объект фундаментальную напряжённость, в силу которой искомое не является искомым в том же самом качестве, как то, что будет найдено. Именно через поиск прошлого и прошедшего удовлетворения разыскивается новый объект, при этом обнаруживается и обретается он совсем не там, где разыскивается. Фундаментальная дистанция, вводимая элементом, конфликтным по самой своей сути, в любой поиск объекта, задана изначально. Это первая форма, в которой появляется у Фрейда понятие объектных отношений.
Чтобы придать полную ясность тому, на чём я сейчас акцентирую внимание, нам стоило бы обратиться к проработанным философским терминам. Я намеренно пока не делаю этого, чтобы приберечь их для нашего последующего возвращения к теме. Но те из вас, для кого эти термины уже обрели смысл в рамках какого-либо философского знания, уже могут оценить всю дистанцию, которая отделяет фрейдовские отношения субъекта с объектом от предшествующих концепций, опирающихся на понятие объекта подходящего, объекта ожидаемого, объекта, сообразного созреванию субъекта. В платоновской перспективе познание объекта основано на распознании (reconnaissance) и припоминании (réminiscence) заранее сформированного образца. С учётом той дистанции, которая разделяет опыт современный и опыт античный, Кьеркегор отмежевал эту перспективу от понятия повторения, повторения всегда искомого, но никогда не удовлетворительного. По своей природе повторение противоположно припоминанию. Его как таковое никогда невозможно насытить. Именно в этом измерении располагается фрейдовское понятие повторного обнаружения утраченного объекта.
Мы ещё обратимся к тексту, в котором хорошо заметно, что Фрейд изначально помещает понятие объекта в рамки глубоко нарушенной связи субъекта с его миром. И как иначе это могло бы быть, если уже в то время речь шла об оппозиции между принципом реальности и принципом удовольствия?
Принцип удовольствия и принцип реальности друг от друга неотделимы. Я бы сказал больше: один включает и предполагает другой в диалектической взаимосвязи.
Принцип реальности появляется лишь постольку, поскольку нечто настаивает на своём удовлетворении в принципе удовольствия, в этом смысле он лишь расширение
Речь никак не об объекте современной теории, которая рассматривает его как объект, полностью удовлетворяющий, объект типичный, объект par exellence, объект гармоничный, объект, который укореняет человека в той достоверной реальности, где утверждается его зрелость, - пресловутый генитальный объект.
Совершенно поразительно, что в тот момент, когда Фрейд создаёт теорию инстинктивного развития в том виде, в котором она возникает из первого аналитического опыта, он указывает нам на то, что объект обнаруживается на пути поиска утраченного объекта. Этот объект соответствует определённой продвинутой стадии созревания инстинктов, это вновь найденный объект, объект первого отлучения, именно тот объект, который в самом начале был связан с первыми удовлетворениями ребёнка.
Ясно, что условие несоответствия устанавливается одним лишь фактом этого повторения. Ностальгия, которая связывает субъекта с утраченным объектом, пронизывает все усилия поисков. Она помечает новую находку знаком невозможности повторения, поскольку это точно не тот же самый объект, он не может быть тем самым. Первичность этой диалектики задаёт в центре отношений субъект-объект фундаментальную напряжённость, в силу которой искомое не является искомым в том же самом качестве, как то, что будет найдено. Именно через поиск прошлого и прошедшего удовлетворения разыскивается новый объект, при этом обнаруживается и обретается он совсем не там, где разыскивается. Фундаментальная дистанция, вводимая элементом, конфликтным по самой своей сути, в любой поиск объекта, задана изначально. Это первая форма, в которой появляется у Фрейда понятие объектных отношений.
Чтобы придать полную ясность тому, на чём я сейчас акцентирую внимание, нам стоило бы обратиться к проработанным философским терминам. Я намеренно пока не делаю этого, чтобы приберечь их для нашего последующего возвращения к теме. Но те из вас, для кого эти термины уже обрели смысл в рамках какого-либо философского знания, уже могут оценить всю дистанцию, которая отделяет фрейдовские отношения субъекта с объектом от предшествующих концепций, опирающихся на понятие объекта подходящего, объекта ожидаемого, объекта, сообразного созреванию субъекта. В платоновской перспективе познание объекта основано на распознании (reconnaissance) и припоминании (réminiscence) заранее сформированного образца. С учётом той дистанции, которая разделяет опыт современный и опыт античный, Кьеркегор отмежевал эту перспективу от понятия повторения, повторения всегда искомого, но никогда не удовлетворительного. По своей природе повторение противоположно припоминанию. Его как таковое никогда невозможно насытить. Именно в этом измерении располагается фрейдовское понятие повторного обнаружения утраченного объекта.
Мы ещё обратимся к тексту, в котором хорошо заметно, что Фрейд изначально помещает понятие объекта в рамки глубоко нарушенной связи субъекта с его миром. И как иначе это могло бы быть, если уже в то время речь шла об оппозиции между принципом реальности и принципом удовольствия?
Принцип удовольствия и принцип реальности друг от друга неотделимы. Я бы сказал больше: один включает и предполагает другой в диалектической взаимосвязи.
Принцип реальности появляется лишь постольку, поскольку нечто настаивает на своём удовлетворении в принципе удовольствия, в этом смысле он лишь расширение последнего, и наоборот, в своей динамике и основной направленности он подразумевает фундаментальное затруднение для принципа удовольствия. Тем не менее между ними двумя, в этом и состоит суть предложения фрейдовской теории, есть зияние ( béance ) - не было бы возможности их различения, если бы один был просто продолжением другого. На самом деле принцип удовольствия тяготеет к реализации в образованиях глубоко ирреальных, тогда как в принципе реальности существует иная и автономная организация или структуризация, которая имеет в виду, что то, чем она овладевает, может быть принципиально отличным от желаемого. Сама по себе эта взаимосвязь вводит в диалектику субъекта и объекта другой термин, который не может быть здесь устранён.
Так же как субъект, в чём мы только что убедились, в своих первичных (primordiales) требованиях всегда обречён на возврат, причём возврат невозможный, таким же образом и реальность, как это показывает сочленение друг с другом принципа удовольствия и принципа реальности, находится в радикальной оппозиции с тем, что разыскивается в силу психической тенденции. Другими словами, удовлетворение принципа удовольствия, которое неявно, подспудно присутствует в любом учении о сотворении мира, всегда более-менее стремится к тому, чтобы реализовать себя в более-менее галлюцинаторной форме. Подспудная организация в Я (moi), скрытая механика психического процесса субъекта как такового, всегда располагает фундаментальной возможностью произвести удовлетворение ирреальным, галлюцинаторным образом. Вот тот другой пункт, который Фрейд мощно акцентирует уже в Traumdeutung, то есть начиная с первой полной и точно выраженной формулировки оппозиции принципа реальности и принципа удовольствия.
Как таковые эти два положения фрейдовской теории не сочетаются одно с другим. Факт того, что они представлены у Фрейда по отдельности, указывает на то, что не в отношениях субъекта с объектом рассматривается вопрос развития. Если каждое из этих двух положений находит своё место в разных пунктах фрейдовской диалектики, то происходит это по той простой причине, что ни в каком случае отношения субъект-объект не занимают в ней центрального места.
Если и кажется, что эти отношения поддерживаются прямо и без зазора, то лишь потому, что речь идёт об отношениях, называемых с некоторых пор догенитальными, отношениях видящий-видимый, атакующий-атакуемый, пассивный-активный. Субъект всегда проживает эти отношения способом, который более или менее очевидно предполагает его идентификацию с партнёром. Эти отношения проживаются в обоюдности (réciprocité) - это в данном случае подходящий термин - в обратимости позиций субъекта и его партнёра.
На этом уровне, по сути дела, и вводятся такие отношения между субъектом и объектом, которые являются не только прямыми и беззазорными, но в которых один к другому буквально приравнивается. И именно такие отношения послужили поводом к тому, чтобы вывести на передний план объектные отношения как таковые. Эти отношения взаимообратимости (réciprocité) между субъектом и объектом, которые можно обозначить как зеркальные отношения, уже сами по себе поднимают большое количество вопросов, в попытке разрешения которых я и ввёл в аналитическую теорию понятие стадии зеркала.
Что такое стадия зеркала? Это определённый момент, в который ребёнок узнаёт свой собственный образ. Но стадия зеркала далека от простого описания отдельного
последнего, и наоборот, в своей динамике и основной направленности он подразумевает фундаментальное затруднение для принципа удовольствия. Тем не менее между ними двумя, в этом и состоит суть предложения фрейдовской теории, есть зияние ( béance ) - не было бы возможности их различения, если бы один был просто продолжением другого. На самом деле принцип удовольствия тяготеет к реализации в образованиях глубоко ирреальных, тогда как в принципе реальности существует иная и автономная организация или структуризация, которая имеет в виду, что то, чем она овладевает, может быть принципиально отличным от желаемого. Сама по себе эта взаимосвязь вводит в диалектику субъекта и объекта другой термин, который не может быть здесь устранён.
Так же как субъект, в чём мы только что убедились, в своих первичных (primordiales) требованиях всегда обречён на возврат, причём возврат невозможный, таким же образом и реальность, как это показывает сочленение друг с другом принципа удовольствия и принципа реальности, находится в радикальной оппозиции с тем, что разыскивается в силу психической тенденции. Другими словами, удовлетворение принципа удовольствия, которое неявно, подспудно присутствует в любом учении о сотворении мира, всегда более-менее стремится к тому, чтобы реализовать себя в более-менее галлюцинаторной форме. Подспудная организация в Я (moi), скрытая механика психического процесса субъекта как такового, всегда располагает фундаментальной возможностью произвести удовлетворение ирреальным, галлюцинаторным образом. Вот тот другой пункт, который Фрейд мощно акцентирует уже в Traumdeutung, то есть начиная с первой полной и точно выраженной формулировки оппозиции принципа реальности и принципа удовольствия.
Как таковые эти два положения фрейдовской теории не сочетаются одно с другим. Факт того, что они представлены у Фрейда по отдельности, указывает на то, что не в отношениях субъекта с объектом рассматривается вопрос развития. Если каждое из этих двух положений находит своё место в разных пунктах фрейдовской диалектики, то происходит это по той простой причине, что ни в каком случае отношения субъект-объект не занимают в ней центрального места.
Если и кажется, что эти отношения поддерживаются прямо и без зазора, то лишь потому, что речь идёт об отношениях, называемых с некоторых пор догенитальными, отношениях видящий-видимый, атакующий-атакуемый, пассивный-активный. Субъект всегда проживает эти отношения способом, который более или менее очевидно предполагает его идентификацию с партнёром. Эти отношения проживаются в обоюдности (réciprocité) - это в данном случае подходящий термин - в обратимости позиций субъекта и его партнёра.
На этом уровне, по сути дела, и вводятся такие отношения между субъектом и объектом, которые являются не только прямыми и беззазорными, но в которых один к другому буквально приравнивается. И именно такие отношения послужили поводом к тому, чтобы вывести на передний план объектные отношения как таковые. Эти отношения взаимообратимости (réciprocité) между субъектом и объектом, которые можно обозначить как зеркальные отношения, уже сами по себе поднимают большое количество вопросов, в попытке разрешения которых я и ввёл в аналитическую теорию понятие стадии зеркала.
Что такое стадия зеркала? Это определённый момент, в который ребёнок узнаёт свой собственный образ. Но стадия зеркала далека от простого описания отдельного феномена в развитии ребёнка. Она проясняет конфликтный характер дуальных отношений. Всё, что ребёнок постигает в зачарованности своим собственным образом, представляет собой именно разрыв (distance), обусловленный внутренними напряжениями, возникающими во взаимосвязи и идентификации с этим образом. Однако для меня именно это послужило поводом для обращения к теме и стало центральным пунктом, занимающим первый план отношений субъект-объект, получивших феноменальную популярность, о которой можно судить по тому, что до сего дня было представлено в терминах не только разрозненных, но и весьма противоречивых, устанавливающих глубоко диалектическую связь между различными понятиями.
Одним из первых, сделавших этот новый акцент, но не так рано, как мы полагаем, был Карл Абрахам.
До некоторых пор развитие субъекта неизменно рассматривалось через призму реконструкции, ретроактивно, исходя из центрального опыта конфликтной напряжённости между сознательным и бессознательным. Конфликтная напряжённость возникает вследствие того фундаментального факта, что всё искомое в силу психической тенденции является неопознанным, а если сознание нечто и распознаёт, то изначально ошибочным образом. Субъект распознаёт себя не на пути сознания, есть нечто другое и потустороннее (au-delà). Это потустороннее, будучи фундаментально нераспознанным, оставаясь за пределами сознания субъекта, тотчас поднимает вопрос относительно своей структуры, своего происхождения и своего смысла.
Однако эта перспектива была заброшена по инициативе ряда представителей солидных психоаналитических течений. Всё было переориентировано на функцию объекта, а точнее, на его окончательную кондицию. Если мы в осмыслении конечного пункта идём от обратного поскольку он, вообще-то, никогда не появляется как видимый в силу того, что идеальный объект буквально является немыслимым, то в новой перспективе этот идеальный объект, напротив, полагается целевым ориентиром, окончательным достижением, что обосновано целой чередой опытов, элементов и частичных определений понятия объект. Эта перспектива постепенно закрепилась с момента, когда Абрахам сформулировал её в 1924 году в своей теории развития либидо. Его концепция для многих стала основой самого аналитического порядка и всего того, что в нём происходит, она задала систему координат, внутри которой располагается весь аналитический опыт, где определён конечный пункт - этот пресловутый идеальный, окончательный, совершенный, правильный (adéquate) объект, представленный как знаменующий собой достигнутую цель, то есть нормализацию субъекта.
При этом одно только понятие нормализации вводит целый сонм категорий, весьма отдалённых от исходных предпосылок анализа.
2
По собственному признанию тех, кто следует этому пути, продвижение анализа в первую очередь должно учитывать отношения субъекта с его окружением.
Акцент внимания на внешнюю среду производит редукцию всего аналитического опыта. Это возврат на чисто объективирующую позицию, которая выводит на первый
феномена в развитии ребёнка. Она проясняет конфликтный характер дуальных отношений. Всё, что ребёнок постигает в зачарованности своим собственным образом, представляет собой именно разрыв (distance), обусловленный внутренними напряжениями, возникающими во взаимосвязи и идентификации с этим образом. Однако для меня именно это послужило поводом для обращения к теме и стало центральным пунктом, занимающим первый план отношений субъект-объект, получивших феноменальную популярность, о которой можно судить по тому, что до сего дня было представлено в терминах не только разрозненных, но и весьма противоречивых, устанавливающих глубоко диалектическую связь между различными понятиями.
Одним из первых, сделавших этот новый акцент, но не так рано, как мы полагаем, был Карл Абрахам.
До некоторых пор развитие субъекта неизменно рассматривалось через призму реконструкции, ретроактивно, исходя из центрального опыта конфликтной напряжённости между сознательным и бессознательным. Конфликтная напряжённость возникает вследствие того фундаментального факта, что всё искомое в силу психической тенденции является неопознанным, а если сознание нечто и распознаёт, то изначально ошибочным образом. Субъект распознаёт себя не на пути сознания, есть нечто другое и потустороннее (au-delà). Это потустороннее, будучи фундаментально нераспознанным, оставаясь за пределами сознания субъекта, тотчас поднимает вопрос относительно своей структуры, своего происхождения и своего смысла.
Однако эта перспектива была заброшена по инициативе ряда представителей солидных психоаналитических течений. Всё было переориентировано на функцию объекта, а точнее, на его окончательную кондицию. Если мы в осмыслении конечного пункта идём от обратного поскольку он, вообще-то, никогда не появляется как видимый в силу того, что идеальный объект буквально является немыслимым, то в новой перспективе этот идеальный объект, напротив, полагается целевым ориентиром, окончательным достижением, что обосновано целой чередой опытов, элементов и частичных определений понятия объект. Эта перспектива постепенно закрепилась с момента, когда Абрахам сформулировал её в 1924 году в своей теории развития либидо. Его концепция для многих стала основой самого аналитического порядка и всего того, что в нём происходит, она задала систему координат, внутри которой располагается весь аналитический опыт, где определён конечный пункт - этот пресловутый идеальный, окончательный, совершенный, правильный (adéquate) объект, представленный как знаменующий собой достигнутую цель, то есть нормализацию субъекта.
При этом одно только понятие нормализации вводит целый сонм категорий, весьма отдалённых от исходных предпосылок анализа.
2
По собственному признанию тех, кто следует этому пути, продвижение анализа в первую очередь должно учитывать отношения субъекта с его окружением.
Акцент внимания на внешнюю среду производит редукцию всего аналитического опыта. Это возврат на чисто объективирующую позицию, которая выводит на первый план существование некоего индивида, более-менее соответствующего окружающей его среде, более-менее к ней приспособленного. Полагаю, что для иллюстрации этого я не смогу сделать что-то лучшее, чем сослаться на формулировки, которые вы найдёте на страницах 761 - 773 коллективной работы, о которой мы говорили.
После того, как для нас было подчёркнуто, что именно об отношениях субъекта и его окружения идёт речь в ходе анализа, мы, между прочим, узнаём, что это особенно важно в случае маленького Ганса, где родители, говорят нам, выглядят безлико. Нам не обязательно разделять эту точку зрения. Важно то, что последует в тексте далее -это происходило до войны 1914 года, когда западное общество, уверенное в себе, не задавалось вопросами бренности существования; и напротив, с 1926 года акцент смещается именно на тревогу и взаимодействие организма с окружающей средой; после того как было подорвано основание общественного уклада, меняющийся мир ежедневно вызывал тревогу, индивиды распознали свои различия. В то время, когда физика исследует релятивизм, неопределённость, вероятность, похоже, что объективное мышление избавляется от своей уверенности в себе самом.
Мне кажется, что эта ссылка на современную физику как основу нового рационализма нуждается в комментарии. Важно, что психоанализу в причудливой, непрямой манере отводится роль того, что может стать неким средством исцеления общества. Вот что выводится на первый план, вот что представлено в качестве характерной черты движущего элемента его прогресса. Неважно, насколько это обосновано, поскольку, откровенно говоря, это такие вещи, которые по своей значимости представляются нам наименее весомыми - что здесь поучительно, так это та запредельная непринуждённость, с которой эти вещи приняты.
Этот пример не единственный, поскольку главное свойство этой работы заключается в том, что она коллективная и внутренне согласованная, она производит впечатление скорее однородной, нежели, в прямом смысле этого слова, связной.
В первой статье, которую я только что упоминал, в конце концов, отчётливо сформулирована главная концепция, необходимая для современного понимания структуры личности, она дана под определённым углом зрения, как сказано, наиболее практичным и наиболее прозаичным, который принимает во внимание социальные отношения больного - это последнее выражение подчёркнуто автором.
Я перехожу к другим моментам, изложенным в исповедальной форме -известно, что впечатление от подвижности, неуловимости, неестественности такой концепции анализа может создавать дискомфорт, но это не касается самого предмета дисциплины, ведь никто и не подумает оспорить, что она является деятельностью, меняющейся во времени. На самом деле такое слегка туманное объяснение характерно для различных подходов, появившихся в этой линии. Что не означает, что оно должно полностью нас удовлетворить, поскольку я не знаю такой дисциплины, предмет которой не был бы подвержен изменениям во времени.
В теме отношений субъекта с миром мы видим акцент на постоянно проводимой параллели между состоянием более или менее продвинутого созревания инстинктивной деятельности и структуры собственного Я (Moi) данного субъекта. В целом, с определённого момента структура собственного Я рассматривается как подкладка и, в конечном счёте, как показатель степени зрелости инстинктивной деятельности на её различных этапах.
план существование некоего индивида, более-менее соответствующего окружающей его среде, более-менее к ней приспособленного. Полагаю, что для иллюстрации этого я не смогу сделать что-то лучшее, чем сослаться на формулировки, которые вы найдёте на страницах 761 - 773 коллективной работы, о которой мы говорили.
После того, как для нас было подчёркнуто, что именно об отношениях субъекта и его окружения идёт речь в ходе анализа, мы, между прочим, узнаём, что это особенно важно в случае маленького Ганса, где родители, говорят нам, выглядят безлико. Нам не обязательно разделять эту точку зрения. Важно то, что последует в тексте далее -это происходило до войны 1914 года, когда западное общество, уверенное в себе, не задавалось вопросами бренности существования; и напротив, с 1926 года акцент смещается именно на тревогу и взаимодействие организма с окружающей средой; после того как было подорвано основание общественного уклада, меняющийся мир ежедневно вызывал тревогу, индивиды распознали свои различия. В то время, когда физика исследует релятивизм, неопределённость, вероятность, похоже, что объективное мышление избавляется от своей уверенности в себе самом.
Мне кажется, что эта ссылка на современную физику как основу нового рационализма нуждается в комментарии. Важно, что психоанализу в причудливой, непрямой манере отводится роль того, что может стать неким средством исцеления общества. Вот что выводится на первый план, вот что представлено в качестве характерной черты движущего элемента его прогресса. Неважно, насколько это обосновано, поскольку, откровенно говоря, это такие вещи, которые по своей значимости представляются нам наименее весомыми - что здесь поучительно, так это та запредельная непринуждённость, с которой эти вещи приняты.
Этот пример не единственный, поскольку главное свойство этой работы заключается в том, что она коллективная и внутренне согласованная, она производит впечатление скорее однородной, нежели, в прямом смысле этого слова, связной.
В первой статье, которую я только что упоминал, в конце концов, отчётливо сформулирована главная концепция, необходимая для современного понимания структуры личности, она дана под определённым углом зрения, как сказано, наиболее практичным и наиболее прозаичным, который принимает во внимание социальные отношения больного - это последнее выражение подчёркнуто автором.
Я перехожу к другим моментам, изложенным в исповедальной форме -известно, что впечатление от подвижности, неуловимости, неестественности такой концепции анализа может создавать дискомфорт, но это не касается самого предмета дисциплины, ведь никто и не подумает оспорить, что она является деятельностью, меняющейся во времени. На самом деле такое слегка туманное объяснение характерно для различных подходов, появившихся в этой линии. Что не означает, что оно должно полностью нас удовлетворить, поскольку я не знаю такой дисциплины, предмет которой не был бы подвержен изменениям во времени.
В теме отношений субъекта с миром мы видим акцент на постоянно проводимой параллели между состоянием более или менее продвинутого созревания инстинктивной деятельности и структуры собственного Я (Moi) данного субъекта. В целом, с определённого момента структура собственного Я рассматривается как подкладка и, в конечном счёте, как показатель степени зрелости инстинктивной деятельности на её различных этапах. Некоторым из вас сами по себе эти термины могут показаться не такими уж сомнительными. Неважно, вопрос не в этом, мы ещё посмотрим, можно ли в каком-то смысле иметь их в виду. Но их следствием стало размещение в центре анализа того, что представляет собой типологию, в рамках которой есть догенитальные и генитальные индивиды.
Написано об этом так - догенитальными являются индивиды, обладающие слабым Я (Moi), цельность их Я находится в тесной зависимости от объектных отношений со значимым объектом. Здесь мы можем начинать задавать вопросы. Возможно, позже, читая этот же самый текст, мы увидим, куда может завести понятие значимого объекта, так и не получившее своего объяснения. С точки зрения техники это подразумевает, что догенитальные отношения учитываются, приобретают значение в аналитических отношениях. Утрата этих отношений или их объекта, что синонимично, поскольку объект здесь существует только в функции его отношений с субъектом, приводит к серьезным нарушениям деятельности Я, таким как явления деперсонализации, психотические расстройства. Мы находим здесь пункт, в котором произошла проверка, подтвердившая глубинную хрупкость отношений догенитального Я (moi) и его объекта. Субъект старается поддерживать свои объектные отношения любой ценой, идёт на любого рода ухищрения для достижения этой цели, меняет объект, осуществляя смещение или символизацию, в ходе которой на произвольно выбранный символический объект переносится аффективный заряд первоначального объекта, что позволяет сохранить объектные отношения. Для такого объекта совершенно справедлив термин «вспомогательного Я».
Генитальные индивиды, напротив, обладают собственным Я, которое не полагает свою силу и осуществление своих функций зависящими от владения значимым объектом. В то время как для первых потеря значимого человека, грубо говоря, оказывает воздействие на их индивидуальность, для вторых эта потеря, насколько бы болезненной она ни была, не нарушает целостности их личности. Они не зависят от объектных отношений. Это не означает, что они могут легко обойтись без любых объектных отношений, что, впрочем, практически неосуществимо, настолько объектные отношения многочисленны и разнообразны, это означает лишь то, что потеря контакта со значимым объектом не отражается на их цельности. Это то, что в отношениях Я с объектом радикально отличает их от предыдущих.
Далее в тексте - [...] по-видимому, в любом неврозе нормальное развитие остановилось ввиду невозможности, в которой оказывается субъект в попытке разрешить важнейший из детских структурообразующих конфликтов, идеальный исход которого приводит к той счастливой адаптации к миру, которую мы называем генитальными объектными отношениями и которая создаёт у любого наблюдателя ощущение гармоничной личности, а в анализе непосредственно приводит к особого рода кристальной чистоте мышления, которая является, я повторяю, скорее пределом, чем реальностью [...].
Кристальная чистота. Мы видим, как далеко представление о совершенстве объектных (objectale) отношений заносит этого автора.
Тогда как влечения в их догенитальной форме демонстрируют характер потребности в бесконтрольном, безграничном, безусловном обладании,
Некоторым из вас сами по себе эти термины могут показаться не такими уж сомнительными. Неважно, вопрос не в этом, мы ещё посмотрим, можно ли в каком-то смысле иметь их в виду. Но их следствием стало размещение в центре анализа того, что представляет собой типологию, в рамках которой есть догенитальные и генитальные индивиды.
Написано об этом так - догенитальными являются индивиды, обладающие слабым Я (Moi), цельность их Я находится в тесной зависимости от объектных отношений со значимым объектом. Здесь мы можем начинать задавать вопросы. Возможно, позже, читая этот же самый текст, мы увидим, куда может завести понятие значимого объекта, так и не получившее своего объяснения. С точки зрения техники это подразумевает, что догенитальные отношения учитываются, приобретают значение в аналитических отношениях. Утрата этих отношений или их объекта, что синонимично, поскольку объект здесь существует только в функции его отношений с субъектом, приводит к серьезным нарушениям деятельности Я, таким как явления деперсонализации, психотические расстройства. Мы находим здесь пункт, в котором произошла проверка, подтвердившая глубинную хрупкость отношений догенитального Я (moi) и его объекта. Субъект старается поддерживать свои объектные отношения любой ценой, идёт на любого рода ухищрения для достижения этой цели, меняет объект, осуществляя смещение или символизацию, в ходе которой на произвольно выбранный символический объект переносится аффективный заряд первоначального объекта, что позволяет сохранить объектные отношения. Для такого объекта совершенно справедлив термин «вспомогательного Я».
Генитальные индивиды, напротив, обладают собственным Я, которое не полагает свою силу и осуществление своих функций зависящими от владения значимым объектом. В то время как для первых потеря значимого человека, грубо говоря, оказывает воздействие на их индивидуальность, для вторых эта потеря, насколько бы болезненной она ни была, не нарушает целостности их личности. Они не зависят от объектных отношений. Это не означает, что они могут легко обойтись без любых объектных отношений, что, впрочем, практически неосуществимо, настолько объектные отношения многочисленны и разнообразны, это означает лишь то, что потеря контакта со значимым объектом не отражается на их цельности. Это то, что в отношениях Я с объектом радикально отличает их от предыдущих.
Далее в тексте - [...] по-видимому, в любом неврозе нормальное развитие остановилось ввиду невозможности, в которой оказывается субъект в попытке разрешить важнейший из детских структурообразующих конфликтов, идеальный исход которого приводит к той счастливой адаптации к миру, которую мы называем генитальными объектными отношениями и которая создаёт у любого наблюдателя ощущение гармоничной личности, а в анализе непосредственно приводит к особого рода кристальной чистоте мышления, которая является, я повторяю, скорее пределом, чем реальностью [...].
Кристальная чистота. Мы видим, как далеко представление о совершенстве объектных (objectale) отношений заносит этого автора.
Тогда как влечения в их догенитальной форме демонстрируют характер потребности в бесконтрольном, безграничном, безусловном обладании, включающем агрессивный аспект, в их генитальной форме они по-настоящему нежные, любящие, и даже если субъект не выглядит таким бескорыстным, то есть лично не заинтересованным, и даже если его объекты являются сугубо нарциссическими, как в предыдущем случае, он всё-таки способен понимать и учитывать ситуацию другого. Кроме того, интимная структура его объектных (objectales) отношений показывает, что участие объекта в его собственном удовольствии непременно необходимо для счастья субъекта. Привычки, желания, потребности объекта учитываются в высшей мере.
Этого достаточно, чтобы поставить весьма серьёзный вопрос, который мы действительно не можем обойти стороной: что означает нормальный исход детства, юности и зрелости?
Есть одно принципиальное различение, которое нужно иметь в виду. На него нам указывает как понятие объективности, так и элементарный опыт. Мы никак не можем путать установление реальности, со всеми проблемами адаптации, которые возникают из-за того, что она оказывает сопротивление, отказывает, является сложной, и понятие, более или менее подразумеваемое этими текстами в различных определениях объективности и полноты объекта. Эта путаница сказывается таким образом, что объективность предстает в этих текстах как характерная для отношений с другим в их развитой форме. Тогда как наоборот, конечно же, существует дистанция между тем, что предполагается более-менее соответствующим взглядам определённой эпохи пониманием мира, и установлением отношений с другим в их аффективном, даже чувственном, регистре с учётом потребностей, благополучия, удовольствия другого. Конституция другого как такового, то есть того, кто говорит, то есть того, кто является субъектом, определённо ведёт нас гораздо дальше.
Мы вернемся к этим текстам, которые пестрят подобными перлами. Но процитировать их недостаточно даже с юмором, на который они и без нас напрашиваются. Даже если мы наделаем юмористических замечаний, коих они и сами предоставляют достаточно. Чтобы продвинуться, нужно сделать ещё кое-что.
3
Эта чрезвычайно предварительная концепция аналитического понятия инстинктивного развития является отнюдь не общепринятой.
Тексты такого автора, как Гловер, например, могли бы привести вас к совершенно другому пониманию и применению объектных отношений, которые названы и определены в них как таковые. Ознакомившись с этими текстами, вы увидите, что функция объекта, этапы которой характеризуют различные эпохи индивидуального развития, продумана совершенно иначе.
Опираясь на объект, анализ настаивает на введении функционального понятия совершенно иной природы, нежели свойство простого соответствия субъекту. Речь не идёт о простой сочетаемости (coaptation) объекта с определённым требованием субъекта. Объект здесь играет совершенно другую роль, он обретает своё место, если можно так выразиться, на почве тревоги. Объект является инструментом маскировки и отражения фундаментальной тревоги, которая на различных этапах развития субъекта характерна для его отношений с миром. Именно так на каждом этапе и должен быть охарактеризован субъект.
включающем агрессивный аспект, в их генитальной форме они по-настоящему нежные, любящие, и даже если субъект не выглядит таким бескорыстным, то есть лично не заинтересованным, и даже если его объекты являются сугубо нарциссическими, как в предыдущем случае, он всё-таки способен понимать и учитывать ситуацию другого. Кроме того, интимная структура его объектных (objectales) отношений показывает, что участие объекта в его собственном удовольствии непременно необходимо для счастья субъекта. Привычки, желания, потребности объекта учитываются в высшей мере.
Этого достаточно, чтобы поставить весьма серьёзный вопрос, который мы действительно не можем обойти стороной: что означает нормальный исход детства, юности и зрелости?
Есть одно принципиальное различение, которое нужно иметь в виду. На него нам указывает как понятие объективности, так и элементарный опыт. Мы никак не можем путать установление реальности, со всеми проблемами адаптации, которые возникают из-за того, что она оказывает сопротивление, отказывает, является сложной, и понятие, более или менее подразумеваемое этими текстами в различных определениях объективности и полноты объекта. Эта путаница сказывается таким образом, что объективность предстает в этих текстах как характерная для отношений с другим в их развитой форме. Тогда как наоборот, конечно же, существует дистанция между тем, что предполагается более-менее соответствующим взглядам определённой эпохи пониманием мира, и установлением отношений с другим в их аффективном, даже чувственном, регистре с учётом потребностей, благополучия, удовольствия другого. Конституция другого как такового, то есть того, кто говорит, то есть того, кто является субъектом, определённо ведёт нас гораздо дальше.
Мы вернемся к этим текстам, которые пестрят подобными перлами. Но процитировать их недостаточно даже с юмором, на который они и без нас напрашиваются. Даже если мы наделаем юмористических замечаний, коих они и сами предоставляют достаточно. Чтобы продвинуться, нужно сделать ещё кое-что.
3
Эта чрезвычайно предварительная концепция аналитического понятия инстинктивного развития является отнюдь не общепринятой.
Тексты такого автора, как Гловер, например, могли бы привести вас к совершенно другому пониманию и применению объектных отношений, которые названы и определены в них как таковые. Ознакомившись с этими текстами, вы увидите, что функция объекта, этапы которой характеризуют различные эпохи индивидуального развития, продумана совершенно иначе.
Опираясь на объект, анализ настаивает на введении функционального понятия совершенно иной природы, нежели свойство простого соответствия субъекту. Речь не идёт о простой сочетаемости (coaptation) объекта с определённым требованием субъекта. Объект здесь играет совершенно другую роль, он обретает своё место, если можно так выразиться, на почве тревоги. Объект является инструментом маскировки и отражения фундаментальной тревоги, которая на различных этапах развития субъекта характерна для его отношений с миром. Именно так на каждом этапе и должен быть охарактеризован субъект. Я не могу в конце сегодняшней нашей встречи не придать очертаний тому, о чём говорил, с помощью иллюстрации на каком-либо примере. И мне достаточно указать на классическую, базовую, фрейдовскую концепцию фобии.
Фрейд, как и все, кто изучал фобию с ним и после него, не преминул показать, что нет никакой прямой связи между объектом и так называемым страхом, который нанёс на него свою фундаментальную метку, формируя его как таковой, как объект примитивный (primitif). Напротив, есть существенная разница между страхом, о котором идёт речь и который в определённых случаях может быть страхом примитивным, а в других случаях таковым не быть, и объектом, который в самой своей сути образуется для того, чтобы этот страх удерживать на расстоянии. Объект заключает субъекта в определённый круг, в бастион, внутри которого он укрывается от своих страхов. Объект сущностно связан с сигналом тревоги. Объект - это прежде всего форпост на пути возникшего страха. Страх сообщает объекту его роль в конкретный момент определённого кризиса субъекта, который при этом не является ни типичным кризисом, ни кризисом развития.
Является ли такое современное, если можно так сказать, понимание фобии справедливым и обоснованным? Нам предстоит подвергнуть сомнению и это, показав, что такой подход лежит у истоков понятия объект в том виде, в котором предстаёт он в работах Гловера и в способе ведения анализа, характерном для его мысли и его техники.
То, что, как нам говорят, тревога является тревогой кастрации, до недавнего времени редко оспаривалось. Тем не менее примечательно, что желание свести всё к воспроизводству в генетическом смысле дошло до попытки вывести из изобилия примитивных, объектно-ориентированных фобических конструкций сам по себе отцовский объект, как если бы он был их следствием и конечным результатом. Именно в этом смысле пишет о фобии Мале в коллективной работе, которую я цитировал. Примечательным образом, он идёт в направлении, противоположном тому, что позволило нам перейти от фобии к пониманию определённой связи с тревогой и обнаружить функцию защиты, которую выполняет объект по отношению к этой тревоге.
Не менее занятно наблюдать за тем, во что в другом регистре превращаются понятия фетиша и фетишизма. Об этом я тоже начну сегодня говорить, чтобы показать вам, что если мы рассмотрим дело в перспективе объектных отношений, то выяснится, что фетиш в аналитической теории выполняет функцию защиты от тревоги, и, что удивительно, от той же самой тревоги, то есть тревоги кастрации. Неправильно, наверное, утверждать, будто с тревогой кастрации, вызванной восприятием отсутствия фаллического органа у женского субъекта и отрицанием этого отсутствия, фетиш связан именно таким образом. Не важно. Нельзя не заметить, что и здесь объект дополняет собою то, что предстает как дыра, как провал в реальности.
Вопрос состоит в том, чтобы прояснить, есть ли нечто общее между фобическим объектом и фетишем.
Но чтобы поставить вопросы в этих терминах, не отказываясь при этом от мысли рассмотреть проблемы с точки зрения объектных отношений, стоит, наверное, найти повод и отправную точку исследования в самих феноменах. Согласимся рассматривать адресованные нам вопросы о типичном объекте, идеальном объекте, функциональном объекте и любых других формах объекта, которые можно у человека предположить, и
Я не могу в конце сегодняшней нашей встречи не придать очертаний тому, о чём говорил, с помощью иллюстрации на каком-либо примере. И мне достаточно указать на классическую, базовую, фрейдовскую концепцию фобии.
Фрейд, как и все, кто изучал фобию с ним и после него, не преминул показать, что нет никакой прямой связи между объектом и так называемым страхом, который нанёс на него свою фундаментальную метку, формируя его как таковой, как объект примитивный (primitif). Напротив, есть существенная разница между страхом, о котором идёт речь и который в определённых случаях может быть страхом примитивным, а в других случаях таковым не быть, и объектом, который в самой своей сути образуется для того, чтобы этот страх удерживать на расстоянии. Объект заключает субъекта в определённый круг, в бастион, внутри которого он укрывается от своих страхов. Объект сущностно связан с сигналом тревоги. Объект - это прежде всего форпост на пути возникшего страха. Страх сообщает объекту его роль в конкретный момент определённого кризиса субъекта, который при этом не является ни типичным кризисом, ни кризисом развития.
Является ли такое современное, если можно так сказать, понимание фобии справедливым и обоснованным? Нам предстоит подвергнуть сомнению и это, показав, что такой подход лежит у истоков понятия объект в том виде, в котором предстаёт он в работах Гловера и в способе ведения анализа, характерном для его мысли и его техники.
То, что, как нам говорят, тревога является тревогой кастрации, до недавнего времени редко оспаривалось. Тем не менее примечательно, что желание свести всё к воспроизводству в генетическом смысле дошло до попытки вывести из изобилия примитивных, объектно-ориентированных фобических конструкций сам по себе отцовский объект, как если бы он был их следствием и конечным результатом. Именно в этом смысле пишет о фобии Мале в коллективной работе, которую я цитировал. Примечательным образом, он идёт в направлении, противоположном тому, что позволило нам перейти от фобии к пониманию определённой связи с тревогой и обнаружить функцию защиты, которую выполняет объект по отношению к этой тревоге.
Не менее занятно наблюдать за тем, во что в другом регистре превращаются понятия фетиша и фетишизма. Об этом я тоже начну сегодня говорить, чтобы показать вам, что если мы рассмотрим дело в перспективе объектных отношений, то выяснится, что фетиш в аналитической теории выполняет функцию защиты от тревоги, и, что удивительно, от той же самой тревоги, то есть тревоги кастрации. Неправильно, наверное, утверждать, будто с тревогой кастрации, вызванной восприятием отсутствия фаллического органа у женского субъекта и отрицанием этого отсутствия, фетиш связан именно таким образом. Не важно. Нельзя не заметить, что и здесь объект дополняет собою то, что предстает как дыра, как провал в реальности.
Вопрос состоит в том, чтобы прояснить, есть ли нечто общее между фобическим объектом и фетишем.
Но чтобы поставить вопросы в этих терминах, не отказываясь при этом от мысли рассмотреть проблемы с точки зрения объектных отношений, стоит, наверное, найти повод и отправную точку исследования в самих феноменах. Согласимся рассматривать адресованные нам вопросы о типичном объекте, идеальном объекте, функциональном объекте и любых других формах объекта, которые можно у человека предположить, и подойдем к нашей проблеме с этой стороны - но тогда нас не устроят единообразные объяснения для разнообразных феноменов. Возьмём, к примеру, наш исходный вопрос о том, в чём состоит разница между функцией фобии и функцией фетиша, при том, что основанием их обеих служит тревога, против которой обе призваны быть для субъекта защитой или гарантией.
Я принял решение определить в качестве исходного положения именно этот пункт. Мы оттолкнёмся от нашего опыта для приближения к тем же самым проблемам, то есть продвигаясь не в мифической, не в абстрактной манере, но прямо, принимая во внимание те объекты, которые нам предложены в опыте.
Недостаточно обсуждать ни объект в общих чертах, ни объект, который обладал бы каким-то волшебным коммуникативным свойством наподобие способности регулировать отношения со всеми другими объектами, как если бы достижение генитальности решало все вопросы. Мне кажется, то, что может быть объектом для генитального индивида, с точки зрения сугубо биологической, которая здесь выходит на первый план, не должно быть чем-то менее загадочным, чем объекты обыденного человеческого опыта, монетка, например.
Можно ли отрицать, что монетка сама по себе не поднимает вопроса своей объективной ценности? Когда в определённом регистре мы утрачиваем её, обратив в средство обмена, как происходит это с любым другим элементом человеческой жизни из той или иной предполагающей обмен сферы, чья ценность оказалась переведена в товарную стоимость - не возникает ли здесь у нас в тысяче разных форм вопрос, который марксистская теория уже разрешила с помощью термина если не синонимичного, то, по крайней мере, весьма близкого тому, который мы только что упомянули, а именно фетиша? Одним словом, понятие объекта-фетиша, объекта-экрана, а с ними та уникальная функция конституирования реальности, на которую Фрейд с самого начала пролил действительно яркий свет и которую мы непонятно почему предпочли игнорировать, - столь важная для устроения прошлого каждого субъекта как такового функция покрывающего воспоминания (souvenir-écran) - вот те понятия, которые сами по себе и само собой заслуживают быть проработанными.
Они должны быть проанализированы и в своих взаимоотношениях, поскольку, исходя из связей между ними, можно провести необходимые различения, которые позволят нам чётко сформулировать, почему фобия и фетиш - это две разные вещи.
Как связано общепринятое употребление слова фетиш со специальным применением этого термина для описания сексуальной перверсии? Именно таким образом мы сформулируем тему нашей следующей встречи, которую посвятим фобии и фетишу.
Так, обратившись к опыту, сможем мы пересмотреть термин объектных отношений и вернуть ему его истинное значение.
21 ноября 1956
подойдем к нашей проблеме с этой стороны - но тогда нас не устроят единообразные объяснения для разнообразных феноменов. Возьмём, к примеру, наш исходный вопрос о том, в чём состоит разница между функцией фобии и функцией фетиша, при том, что основанием их обеих служит тревога, против которой обе призваны быть для субъекта защитой или гарантией.
Я принял решение определить в качестве исходного положения именно этот пункт. Мы оттолкнёмся от нашего опыта для приближения к тем же самым проблемам, то есть продвигаясь не в мифической, не в абстрактной манере, но прямо, принимая во внимание те объекты, которые нам предложены в опыте.
Недостаточно обсуждать ни объект в общих чертах, ни объект, который обладал бы каким-то волшебным коммуникативным свойством наподобие способности регулировать отношения со всеми другими объектами, как если бы достижение генитальности решало все вопросы. Мне кажется, то, что может быть объектом для генитального индивида, с точки зрения сугубо биологической, которая здесь выходит на первый план, не должно быть чем-то менее загадочным, чем объекты обыденного человеческого опыта, монетка, например.
Можно ли отрицать, что монетка сама по себе не поднимает вопроса своей объективной ценности? Когда в определённом регистре мы утрачиваем её, обратив в средство обмена, как происходит это с любым другим элементом человеческой жизни из той или иной предполагающей обмен сферы, чья ценность оказалась переведена в товарную стоимость - не возникает ли здесь у нас в тысяче разных форм вопрос, который марксистская теория уже разрешила с помощью термина если не синонимичного, то, по крайней мере, весьма близкого тому, который мы только что упомянули, а именно фетиша? Одним словом, понятие объекта-фетиша, объекта-экрана, а с ними та уникальная функция конституирования реальности, на которую Фрейд с самого начала пролил действительно яркий свет и которую мы непонятно почему предпочли игнорировать, - столь важная для устроения прошлого каждого субъекта как такового функция покрывающего воспоминания (souvenir-écran) - вот те понятия, которые сами по себе и само собой заслуживают быть проработанными.
Они должны быть проанализированы и в своих взаимоотношениях, поскольку, исходя из связей между ними, можно провести необходимые различения, которые позволят нам чётко сформулировать, почему фобия и фетиш - это две разные вещи.
Как связано общепринятое употребление слова фетиш со специальным применением этого термина для описания сексуальной перверсии? Именно таким образом мы сформулируем тему нашей следующей встречи, которую посвятим фобии и фетишу.
Так, обратившись к опыту, сможем мы пересмотреть термин объектных отношений и вернуть ему его истинное значение.
21 ноября 1956
 условиях того, что Фрейд называет первичной (primaire) системой удовольствия. Тогда как в аналитической практике совершенно обратным образом понятие объекта сводится в конечном счёте к реальному. Всё дело в том, чтобы разыскать реальное. Объект возникает уже не на фоне тревоги, а на фоне обыденной реальности, если можно так выразиться, и аналитическое исследование стремится показать, что бояться его нет причин. Страх следует отличать от тревоги.
И, наконец, третья тема, связанная у Фрейда с объектом, это тема взаимообратимости (réciprocité), когда в любых отношениях субъекта с объектом на место связанного термина одновременно заступает субъект. Таким образом, идентификация с объектом лежит в основе любых с ним отношений.
Очевидно, что с этим последним пунктом по большей части и связывает себя практика объектных отношений в современной аналитической технике, в результате чего появилось то, что я назвал бы империализмом идентификации. Поскольку ты можешь идентифицировать себя со мной, то и я могу идентифицировать себя с тобой, и, конечно, из нас двоих именно я к реальности адаптирован лучше, именно я являюсь лучшей моделью. В конечном счёте, идеал анализа сводится к идентификации с собственным Я (moi) аналитика. Подобная предвзятость в обращении с объектными отношениями может привести к крайней степени искажения. Что особенно наглядно проявляет себя в практике навязчивого невроза.
Как думает большинство здесь присутствующих, навязчивый невроз - это структурирующее понятие, которое можно сформулировать примерно следующим образом. Кто такой навязчивый невротик? В целом, это актёр, который играет свою роль и выполняет ряд действий, притворяясь мёртвым. Игра, которой он предаётся, является способом укрыться от смерти. Это жизненная игра, состоящая в том, чтобы показать свою неуязвимость. Для этого он упражняется в дрессировке, необходимой для любого приближения к другому. Мы видим его словно участвующим в своего рода шоу, где он демонстрирует, как далеко может он зайти в этой носящей черты игры, в том числе её иллюзорности, дрессировке - то есть как далеко может зайти в ней другой, маленький другой, его альтер эго, двойник его самого. Игра разворачивается перед Другим, который присутствует на спектакле. Сам же невротик лишь наблюдатель: возможность игры и удовольствие, которое она даёт, в этом и состоят. О собственном месте он, напротив, не знает - в этом состоит его бессознательное. Всё, что он делает, он делает в интересах алиби. Это он способен распознать. Он хорошо отдаёт себе отчёт в том, что игра не разыгрывается в том месте, где находится он сам, и именно поэтому почти ничего из того, что происходит, не является для него по-настоящему важным, но это не означает, что ему известно, откуда он всё это наблюдает.
Кто же в конечном итоге ведёт игру? Мы знаем, что это он сам, но мы можем наделать массу ошибок, если не поймём, где ведётся эта игра. Откуда и возникает понятие объекта, объекта, значимого для этого субъекта.
Было бы совершенно ошибочным полагать, что этот объект мог бы быть описан в терминах дуальных отношений с помощью понятия объектных отношений в том виде, в котором оно было разработано упомянутыми авторами. Вы ещё увидите, к чему это приводит. Ясно, что в этой весьма сложной ситуации понятие объекта даётся не сразу, поскольку он участвует в иллюзорной игре, игре агрессивного возмездия, плутовской игре, которая состоит в том, чтобы по возможности близко подходить к смерти и в то же
условиях того, что Фрейд называет первичной (primaire) системой удовольствия. Тогда как в аналитической практике совершенно обратным образом понятие объекта сводится в конечном счёте к реальному. Всё дело в том, чтобы разыскать реальное. Объект возникает уже не на фоне тревоги, а на фоне обыденной реальности, если можно так выразиться, и аналитическое исследование стремится показать, что бояться его нет причин. Страх следует отличать от тревоги.
И, наконец, третья тема, связанная у Фрейда с объектом, это тема взаимообратимости (réciprocité), когда в любых отношениях субъекта с объектом на место связанного термина одновременно заступает субъект. Таким образом, идентификация с объектом лежит в основе любых с ним отношений.
Очевидно, что с этим последним пунктом по большей части и связывает себя практика объектных отношений в современной аналитической технике, в результате чего появилось то, что я назвал бы империализмом идентификации. Поскольку ты можешь идентифицировать себя со мной, то и я могу идентифицировать себя с тобой, и, конечно, из нас двоих именно я к реальности адаптирован лучше, именно я являюсь лучшей моделью. В конечном счёте, идеал анализа сводится к идентификации с собственным Я (moi) аналитика. Подобная предвзятость в обращении с объектными отношениями может привести к крайней степени искажения. Что особенно наглядно проявляет себя в практике навязчивого невроза.
Как думает большинство здесь присутствующих, навязчивый невроз - это структурирующее понятие, которое можно сформулировать примерно следующим образом. Кто такой навязчивый невротик? В целом, это актёр, который играет свою роль и выполняет ряд действий, притворяясь мёртвым. Игра, которой он предаётся, является способом укрыться от смерти. Это жизненная игра, состоящая в том, чтобы показать свою неуязвимость. Для этого он упражняется в дрессировке, необходимой для любого приближения к другому. Мы видим его словно участвующим в своего рода шоу, где он демонстрирует, как далеко может он зайти в этой носящей черты игры, в том числе её иллюзорности, дрессировке - то есть как далеко может зайти в ней другой, маленький другой, его альтер эго, двойник его самого. Игра разворачивается перед Другим, который присутствует на спектакле. Сам же невротик лишь наблюдатель: возможность игры и удовольствие, которое она даёт, в этом и состоят. О собственном месте он, напротив, не знает - в этом состоит его бессознательное. Всё, что он делает, он делает в интересах алиби. Это он способен распознать. Он хорошо отдаёт себе отчёт в том, что игра не разыгрывается в том месте, где находится он сам, и именно поэтому почти ничего из того, что происходит, не является для него по-настоящему важным, но это не означает, что ему известно, откуда он всё это наблюдает.
Кто же в конечном итоге ведёт игру? Мы знаем, что это он сам, но мы можем наделать массу ошибок, если не поймём, где ведётся эта игра. Откуда и возникает понятие объекта, объекта, значимого для этого субъекта.
Было бы совершенно ошибочным полагать, что этот объект мог бы быть описан в терминах дуальных отношений с помощью понятия объектных отношений в том виде, в котором оно было разработано упомянутыми авторами. Вы ещё увидите, к чему это приводит. Ясно, что в этой весьма сложной ситуации понятие объекта даётся не сразу, поскольку он участвует в иллюзорной игре, игре агрессивного возмездия, плутовской игре, которая состоит в том, чтобы по возможности близко подходить к смерти и в то же время оставаться вне пределов её досягаемости в силу того, что субъект загодя убил желание в себе самом, он его, если можно так выразиться, заранее умертвил.
Понятие объекта бесконечно сложное, и следует постоянно заострять на нём внимание, если мы хотим понимать хотя бы, о каком объекте мы говорим. Мы постараемся применить по отношению к понятию объект планомерную проработку, которая позволит нам определиться с собственным словарём.
Это понятие не то чтобы ускользает, скорее, оно предполагает абсолютное затруднение для определения. Чтобы акцентировать наше сравнение, скажем, что речь идёт о том, чтобы выявить то, что субъект формулирует для этого Другого зрителя, которым он, сам того не зная, и является, и на место которого он, по мере того как устанавливается перенос, помещает нас.
Я прошу вас перечитать случай одержимого у автора, о котором я говорю, и обратить внимание на то, что, по его мнению, представляет собою прогресс анализа. Вы увидите, что понимание объектных отношений в данном случае напоминает то, что могло бы происходить, будь вы в цирке, где на ваших глазах клоуны Футит и Шоколад обмениваются пощёчинами. И вы покинули бы представление из страха попасть под руку, тогда как субъект, напротив, ввязался бы в драку в силу своей агрессивности. И тут появился бы Месье-сама-Учтивость со словами: «Посмотрите, как это всё неразумно, проглотите взаимно свои жезлы, и они окажутся таким образом на нужном месте, вы их интериоризируете». Отличный способ разрешить ситуацию и найти из неё выход.
Это может сопровождаться мотивом по-настоящему бессмертной песенки, известной благодаря N*, своего рода гению. Те, кто не видел его выступлений в парижских кабаре, не смогут уже составить себе представление о сакральной клоунаде, которую разыгрывал он при помощи своей шляпы, о священнодействиях этого персонажа в клоунском колпаке. Это было, казалось, богослужением, ритуалом, своего рода черной мессой; не видевший этого так, возможно, и не поймёт, что представляют собой объектные отношения. На заднем плане их явственно ощущается, что воображаемым объектным отношениям присущ глубоко оральный характер. Считая дуальные отношения реальными, практика не может уйти от законов воображаемого, и конечным итогом этих объектных отношений становится фантазм фаллической инкорпорации.
Почему? Не только потому, что опыт не соответствует нашим представлениям о его идеальном завершении, но и потому, что само это представление ещё более заостряет его парадоксальность, так что любое совершенство дуальных отношений выводит на первый план воображаемый привилегированный объект, называемый фаллосом. В сторону этого понимания я и стараюсь сегодня сподвигнуть вас сделать шаг.
Понятие объектных отношений невозможно не только осмыслить, но и даже подойти к нему, если не учесть фаллос как элемент, я не говорю как элемент-посредник, поскольку это означало бы шаг, который мы пока ещё не сделали, но как третий элемент. Именно это подчёркивает схема, которую я дал в конце прошлого года, обобщая анализ означающего, к которому нас подвело исследование психоза, но также это было и введением в тот материал, который я собираюсь предложить вам в этом году по вопросу объектных отношений. Это наша исходная схема.
время оставаться вне пределов её досягаемости в силу того, что субъект загодя убил желание в себе самом, он его, если можно так выразиться, заранее умертвил.
Понятие объекта бесконечно сложное, и следует постоянно заострять на нём внимание, если мы хотим понимать хотя бы, о каком объекте мы говорим. Мы постараемся применить по отношению к понятию объект планомерную проработку, которая позволит нам определиться с собственным словарём.
Это понятие не то чтобы ускользает, скорее, оно предполагает абсолютное затруднение для определения. Чтобы акцентировать наше сравнение, скажем, что речь идёт о том, чтобы выявить то, что субъект формулирует для этого Другого зрителя, которым он, сам того не зная, и является, и на место которого он, по мере того как устанавливается перенос, помещает нас.
Я прошу вас перечитать случай одержимого у автора, о котором я говорю, и обратить внимание на то, что, по его мнению, представляет собою прогресс анализа. Вы увидите, что понимание объектных отношений в данном случае напоминает то, что могло бы происходить, будь вы в цирке, где на ваших глазах клоуны Футит и Шоколад обмениваются пощёчинами. И вы покинули бы представление из страха попасть под руку, тогда как субъект, напротив, ввязался бы в драку в силу своей агрессивности. И тут появился бы Месье-сама-Учтивость со словами: «Посмотрите, как это всё неразумно, проглотите взаимно свои жезлы, и они окажутся таким образом на нужном месте, вы их интериоризируете». Отличный способ разрешить ситуацию и найти из неё выход.
Это может сопровождаться мотивом по-настоящему бессмертной песенки, известной благодаря N*, своего рода гению. Те, кто не видел его выступлений в парижских кабаре, не смогут уже составить себе представление о сакральной клоунаде, которую разыгрывал он при помощи своей шляпы, о священнодействиях этого персонажа в клоунском колпаке. Это было, казалось, богослужением, ритуалом, своего рода черной мессой; не видевший этого так, возможно, и не поймёт, что представляют собой объектные отношения. На заднем плане их явственно ощущается, что воображаемым объектным отношениям присущ глубоко оральный характер. Считая дуальные отношения реальными, практика не может уйти от законов воображаемого, и конечным итогом этих объектных отношений становится фантазм фаллической инкорпорации.
Почему? Не только потому, что опыт не соответствует нашим представлениям о его идеальном завершении, но и потому, что само это представление ещё более заостряет его парадоксальность, так что любое совершенство дуальных отношений выводит на первый план воображаемый привилегированный объект, называемый фаллосом. В сторону этого понимания я и стараюсь сегодня сподвигнуть вас сделать шаг.
Понятие объектных отношений невозможно не только осмыслить, но и даже подойти к нему, если не учесть фаллос как элемент, я не говорю как элемент-посредник, поскольку это означало бы шаг, который мы пока ещё не сделали, но как третий элемент. Именно это подчёркивает схема, которую я дал в конце прошлого года, обобщая анализ означающего, к которому нас подвело исследование психоза, но также это было и введением в тот материал, который я собираюсь предложить вам в этом году по вопросу объектных отношений. Это наша исходная схема.

 всего представляет собой способ поставить вопрос. Если и есть элемент агрессивности, то он в структурном плане вторичен по отношению к элементу вопроса.
Это показывает вам, к упрощению какого плана приводит такая концепция объектных отношений, о которой с настоящего момента я решил больше никогда с вами не говорить.
Итак, мы подошли к фундаментальному вопросу, с которого нам следует начать, к которому нужно будет вернуться, а также он будет тем вопросом, на котором мы закончим. Вся двусмысленность вопроса, который возникает по поводу объекта и обращения с ним в анализе, формулируется следующим образом: объект реален или нет?
2
Такую формулировку подсказывает нам и та проработанная терминология символического, воображаемого и реального, которой пользуемся мы здесь, и непосредственное интуитивное понимание.
Когда вам рассказывают об объектных отношениях с точки зрения доступа к реальному, такого доступа, который должен открыться по завершении анализа, что вам само собой приходит в голову? Объект реальный или нет? То, что находится в реальном, это объект?
Это стоит уточнить. Даже не вдаваясь в суть проблематики фаллицизма, которую я сегодня затрагиваю, можно отметить - поскольку это действительно отчётливо проступающий именно в аналитическом опыте момент - что вся диалектика индивидуального развития, как и вся диалектика анализа, вращается вокруг главенствующего объекта, которым является фаллос. Далее мы более подробно рассмотрим, почему не стоит путать фаллос и пенис. В 1920-1930-ые годы всё аналитическое сообщество угодило в огромную неразбериху вокруг понятия фаллицизма и вопроса фаллической стадии; дело было в том, чтобы произвести различение пениса как реального органа, с поддающимися определению в некоторых реальных координатах функциями, и фаллоса в его воображаемой функции. Одного этого было бы достаточно, чтобы имело смысл озадачить себя вопросом, что именно понятие объекта может подразумевать.
Нельзя сказать, что фаллос не является в аналитической диалектике превалирующим объектом, причём объектом, о котором у индивида есть некоторое представление. Хотя никогда прямо не говорилось, что выделение этого объекта мыслимо только в воображаемом плане, именно это явно прочитывается как в каждой строке, написанной в определённый момент самим Фрейдом, так и в том, чем ответили ему те или иные аналитики, в частности, Хелен Дойч, Мелани Кляйн, Эрнст Джонс. Понятие фаллицизма предполагает освобождение от категории воображаемого.
Но перед тем как продвинуться дальше, зададимся вопросом о том, какие позиции занимают по отношению друг к другу объект и реальное. Существует несколько способов подойти к этому вопросу, потому что как только мы приближаемся к нему, мы понимаем, что реальное имеет более чем один смысл. Я полагаю, некоторые из вас сейчас не преминули вздохнуть с облегчением - наконец он расскажет нам о пресловутом реальном, которое до сих пор оставалось в тени. И в самом деле, не стоит этому удивляться, ведь реальное располагается на пределе нашего опыта.
всего представляет собой способ поставить вопрос. Если и есть элемент агрессивности, то он в структурном плане вторичен по отношению к элементу вопроса.
Это показывает вам, к упрощению какого плана приводит такая концепция объектных отношений, о которой с настоящего момента я решил больше никогда с вами не говорить.
Итак, мы подошли к фундаментальному вопросу, с которого нам следует начать, к которому нужно будет вернуться, а также он будет тем вопросом, на котором мы закончим. Вся двусмысленность вопроса, который возникает по поводу объекта и обращения с ним в анализе, формулируется следующим образом: объект реален или нет?
2
Такую формулировку подсказывает нам и та проработанная терминология символического, воображаемого и реального, которой пользуемся мы здесь, и непосредственное интуитивное понимание.
Когда вам рассказывают об объектных отношениях с точки зрения доступа к реальному, такого доступа, который должен открыться по завершении анализа, что вам само собой приходит в голову? Объект реальный или нет? То, что находится в реальном, это объект?
Это стоит уточнить. Даже не вдаваясь в суть проблематики фаллицизма, которую я сегодня затрагиваю, можно отметить - поскольку это действительно отчётливо проступающий именно в аналитическом опыте момент - что вся диалектика индивидуального развития, как и вся диалектика анализа, вращается вокруг главенствующего объекта, которым является фаллос. Далее мы более подробно рассмотрим, почему не стоит путать фаллос и пенис. В 1920-1930-ые годы всё аналитическое сообщество угодило в огромную неразбериху вокруг понятия фаллицизма и вопроса фаллической стадии; дело было в том, чтобы произвести различение пениса как реального органа, с поддающимися определению в некоторых реальных координатах функциями, и фаллоса в его воображаемой функции. Одного этого было бы достаточно, чтобы имело смысл озадачить себя вопросом, что именно понятие объекта может подразумевать.
Нельзя сказать, что фаллос не является в аналитической диалектике превалирующим объектом, причём объектом, о котором у индивида есть некоторое представление. Хотя никогда прямо не говорилось, что выделение этого объекта мыслимо только в воображаемом плане, именно это явно прочитывается как в каждой строке, написанной в определённый момент самим Фрейдом, так и в том, чем ответили ему те или иные аналитики, в частности, Хелен Дойч, Мелани Кляйн, Эрнст Джонс. Понятие фаллицизма предполагает освобождение от категории воображаемого.
Но перед тем как продвинуться дальше, зададимся вопросом о том, какие позиции занимают по отношению друг к другу объект и реальное. Существует несколько способов подойти к этому вопросу, потому что как только мы приближаемся к нему, мы понимаем, что реальное имеет более чем один смысл. Я полагаю, некоторые из вас сейчас не преминули вздохнуть с облегчением - наконец он расскажет нам о пресловутом реальном, которое до сих пор оставалось в тени. И в самом деле, не стоит этому удивляться, ведь реальное располагается на пределе нашего опыта. Эта позиция по отношению к реальному получает весьма удовлетворительное объяснение в плане нашего опыта, который протекает в абсолютно искусственных условиях, вопреки тому, что рассказывают, когда нам представляют его как ситуацию очень простую. Тем не менее мы можем иметь дело с реальным, только теоретизируя. Но что мы хотим сказать, когда ссылаемся на реальное? Маловероятно, что мы все имеем о нём одинаковое представление, и выглядит правдоподобным, что все мы можем допустить определённые различия или принципиальные расхождения, когда прибегаем к терминам реальное или реальность, если внимательно рассмотрим, в каком смысле они употребляются.
Когда мы говорим о реальном, мы можем иметь в виду разные вещи. Прежде всего то, что действительно происходит. Это понятие подразумевается в немецком термине Wirklichkeit (действительность), обладающим преимуществом распознания в реальности функции, которую французский язык позволяет выделить с трудом. То, что включает в себя всякую возможность (воз)действия Wirkung. Это совокупность всего механизма.
Здесь я сделаю лишь несколько попутных замечаний, чтобы показать, насколько психоаналитики являются узниками категорий по-настоящему чуждых всему тому, к чему их практика вообще-то, как мне кажется, должна была бы их подводить, проще говоря, в отношении самого понятия реальности. Если рассуждать в духе механикодинамической традиции, которая восходит к попытке Ламеттри и Гольбаха разработать в XVIII-ом веке научную концепцию человека-машины (L'homme-machine), предполагавшую, что всё происходящее на уровне психической жизни обязательно должно быть связано с чем-то материальным, может ли подобное размышление представлять малейший интерес для аналитика? - в то время, как сам принцип осуществления его функции включён в последовательность эффектов, которые, если он аналитик, он рассматривает как принадлежащие их собственному порядку. Если следовать Фрейду, если иметь в виду суть системы, то перспектива, которая должна приниматься в расчёт, является перспективой энергетической.
Материя, Stoff, исконная субстанция настолько вошла в медицинское мышление, что мы, в отличие от других, совершенно безосновательно считаем нужным утверждать, что нам кажется, будто мы говорим что-то содержательное, когда совершенно необоснованно, вслед за другими медиками, полагаем в основу всего, что происходит в анализе, органическую реальность. И Фрейд об этом говорил, нужно только обратить внимание на то, где и для чего он это сказал. Он придавал этой реальности совершенно иное значение. Отсылка к органической основе не отвечает у аналитиков ничему иному, как нужде в перестраховке, которая толкает их на то, чтобы непрестанно возвращаться к этому пережитку, как будто стучать по дереву. В конце концов, мы запускаем только поверхностные механизмы, в итоге всё должно быть сведено к тому, о чём мы, возможно, однажды узнаем, к исконной материи, которая лежит в основе всего, что происходит. Для аналитика, если только он допускает действенность своей практики, это абсурд.
Позвольте мне привести простой пример, чтобы вам это показать. Представьте, что некто, работающий на гидроэлектростанции, расположенной посреди течения большой реки, например, Рейна, рассказывая о том, что происходит внутри огромной машины, предавался бы мечтам о том времени, когда пейзаж был девственным и русло Рейна было полноводным. Однако это именно машина, которая работает по принципу
Эта позиция по отношению к реальному получает весьма удовлетворительное объяснение в плане нашего опыта, который протекает в абсолютно искусственных условиях, вопреки тому, что рассказывают, когда нам представляют его как ситуацию очень простую. Тем не менее мы можем иметь дело с реальным, только теоретизируя. Но что мы хотим сказать, когда ссылаемся на реальное? Маловероятно, что мы все имеем о нём одинаковое представление, и выглядит правдоподобным, что все мы можем допустить определённые различия или принципиальные расхождения, когда прибегаем к терминам реальное или реальность, если внимательно рассмотрим, в каком смысле они употребляются.
Когда мы говорим о реальном, мы можем иметь в виду разные вещи. Прежде всего то, что действительно происходит. Это понятие подразумевается в немецком термине Wirklichkeit (действительность), обладающим преимуществом распознания в реальности функции, которую французский язык позволяет выделить с трудом. То, что включает в себя всякую возможность (воз)действия Wirkung. Это совокупность всего механизма.
Здесь я сделаю лишь несколько попутных замечаний, чтобы показать, насколько психоаналитики являются узниками категорий по-настоящему чуждых всему тому, к чему их практика вообще-то, как мне кажется, должна была бы их подводить, проще говоря, в отношении самого понятия реальности. Если рассуждать в духе механикодинамической традиции, которая восходит к попытке Ламеттри и Гольбаха разработать в XVIII-ом веке научную концепцию человека-машины (L'homme-machine), предполагавшую, что всё происходящее на уровне психической жизни обязательно должно быть связано с чем-то материальным, может ли подобное размышление представлять малейший интерес для аналитика? - в то время, как сам принцип осуществления его функции включён в последовательность эффектов, которые, если он аналитик, он рассматривает как принадлежащие их собственному порядку. Если следовать Фрейду, если иметь в виду суть системы, то перспектива, которая должна приниматься в расчёт, является перспективой энергетической.
Материя, Stoff, исконная субстанция настолько вошла в медицинское мышление, что мы, в отличие от других, совершенно безосновательно считаем нужным утверждать, что нам кажется, будто мы говорим что-то содержательное, когда совершенно необоснованно, вслед за другими медиками, полагаем в основу всего, что происходит в анализе, органическую реальность. И Фрейд об этом говорил, нужно только обратить внимание на то, где и для чего он это сказал. Он придавал этой реальности совершенно иное значение. Отсылка к органической основе не отвечает у аналитиков ничему иному, как нужде в перестраховке, которая толкает их на то, чтобы непрестанно возвращаться к этому пережитку, как будто стучать по дереву. В конце концов, мы запускаем только поверхностные механизмы, в итоге всё должно быть сведено к тому, о чём мы, возможно, однажды узнаем, к исконной материи, которая лежит в основе всего, что происходит. Для аналитика, если только он допускает действенность своей практики, это абсурд.
Позвольте мне привести простой пример, чтобы вам это показать. Представьте, что некто, работающий на гидроэлектростанции, расположенной посреди течения большой реки, например, Рейна, рассказывая о том, что происходит внутри огромной машины, предавался бы мечтам о том времени, когда пейзаж был девственным и русло Рейна было полноводным. Однако это именно машина, которая работает по принципу преобразования некой энергии в электрическую силу, впоследствии распределяемую и доступную потребителям. То, что аккумулируется в машине, прежде всего наиболее тесно связано с машиной. Нам никак не пригодится рассказ о том, что энергия уже некогда существовала в потенциальном виде в течении реки. Строго говоря, это ничего не значит, поскольку энергия в этом случае становится для нас интересной только с момента, когда она накоплена, только с момента, когда машины приступили к работе. Конечно, они приводятся в действие течением реки, но верить, что течение реки есть изначальное состояние энергии, путать его с понятием типа маны, которое представляет вещь совершенно иного порядка, нежели энергия и даже сила; старательно пытаться разыскать в том, что пребывает от вечности, постоянство того, что аккумулируется в итоге как элемент возможного Wirkung, Wirklichkeit (действия, действительности) -такая идея может посетить только напрочь дурную голову.
То, что вынуждает нас путать Stoff, или примитивную материю, или импульс, или поток, или тенденцию с тем, что реально задействовано в аналитической реальности, представляет собой не что иное, как неверное понимание (méconnaissance) Wirklichkeit (действительности) символического. Конфликт, диалектика, организация, структуризация элементов, которые формируются и выстраиваются в композицию, придают тому, о чём идёт речь, совершенно иное энергетическое значение. Сохранять потребность говорить о некой другой реальности, якобы расположенной где-то в другом месте, нежели в самом действии, значит заблуждаться (méconnaître) относительно подлинной реальности, в которой мы пребываем. В данном случае я действительно могу квалифицировать подобную отсылку как суеверие. Это своего рода пережиток, называемый органистическим, который не может иметь никакого смысла в аналитической перспективе. Я покажу вам, где Фрейд явно даёт понять, что это больше не имеет никакого смысла.
В анализе применяется другое, гораздо более важное понимание реальности, и нет никакой надобности иметь дело с предыдущим. Реальность фактически фигурирует в двойном принципе: принципе удовольствия и принципе реальности. Речь там идёт о чём-то совершенно другом, поскольку принцип удовольствия действует образом не менее реальным, чем принцип реальности, я даже думаю, что анализ был создан для того, чтобы это показать. Термин реальность используется здесь совсем иначе.
Здесь имеет место весьма поразительный контраст. Это другое применение, которое оказалось поначалу так плодотворно и позволило ввести в порядок психического термины первичной и вторичной систем, по мере развития анализа каким-то загадочным образом превратилось в нечто, наиболее проблематичное. Чтобы оценить дистанцию между тем, как использовалось противопоставление двух принципов поначалу, и тем, к чему мы теперь незаметно соскользнули, нужно вспомнить, как делаем мы это время от времени, о ребёнке, сказавшем, что король голый. Кто он, этот ребёнок - дурак? Гений? Шут? Чудовище? Никто об этом никогда и ничего не узнает. Ясно одно - он возвращает нам некоторую свободу.
Что ж, такое время от времени происходит. Мы видим, как аналитики обращаются порой к своего рода примитивной интуиции и обнаруживают, что всё ими сказанное ничего не объясняет. Так произошло с Месье Винникоттом в небольшой статье, где он рассказывает о том, что называет transitional object (переходным объектом) - передадим это как переход объекта или феномен переходности.
преобразования некой энергии в электрическую силу, впоследствии распределяемую и доступную потребителям. То, что аккумулируется в машине, прежде всего наиболее тесно связано с машиной. Нам никак не пригодится рассказ о том, что энергия уже некогда существовала в потенциальном виде в течении реки. Строго говоря, это ничего не значит, поскольку энергия в этом случае становится для нас интересной только с момента, когда она накоплена, только с момента, когда машины приступили к работе. Конечно, они приводятся в действие течением реки, но верить, что течение реки есть изначальное состояние энергии, путать его с понятием типа маны, которое представляет вещь совершенно иного порядка, нежели энергия и даже сила; старательно пытаться разыскать в том, что пребывает от вечности, постоянство того, что аккумулируется в итоге как элемент возможного Wirkung, Wirklichkeit (действия, действительности) -такая идея может посетить только напрочь дурную голову.
То, что вынуждает нас путать Stoff, или примитивную материю, или импульс, или поток, или тенденцию с тем, что реально задействовано в аналитической реальности, представляет собой не что иное, как неверное понимание (méconnaissance) Wirklichkeit (действительности) символического. Конфликт, диалектика, организация, структуризация элементов, которые формируются и выстраиваются в композицию, придают тому, о чём идёт речь, совершенно иное энергетическое значение. Сохранять потребность говорить о некой другой реальности, якобы расположенной где-то в другом месте, нежели в самом действии, значит заблуждаться (méconnaître) относительно подлинной реальности, в которой мы пребываем. В данном случае я действительно могу квалифицировать подобную отсылку как суеверие. Это своего рода пережиток, называемый органистическим, который не может иметь никакого смысла в аналитической перспективе. Я покажу вам, где Фрейд явно даёт понять, что это больше не имеет никакого смысла.
В анализе применяется другое, гораздо более важное понимание реальности, и нет никакой надобности иметь дело с предыдущим. Реальность фактически фигурирует в двойном принципе: принципе удовольствия и принципе реальности. Речь там идёт о чём-то совершенно другом, поскольку принцип удовольствия действует образом не менее реальным, чем принцип реальности, я даже думаю, что анализ был создан для того, чтобы это показать. Термин реальность используется здесь совсем иначе.
Здесь имеет место весьма поразительный контраст. Это другое применение, которое оказалось поначалу так плодотворно и позволило ввести в порядок психического термины первичной и вторичной систем, по мере развития анализа каким-то загадочным образом превратилось в нечто, наиболее проблематичное. Чтобы оценить дистанцию между тем, как использовалось противопоставление двух принципов поначалу, и тем, к чему мы теперь незаметно соскользнули, нужно вспомнить, как делаем мы это время от времени, о ребёнке, сказавшем, что король голый. Кто он, этот ребёнок - дурак? Гений? Шут? Чудовище? Никто об этом никогда и ничего не узнает. Ясно одно - он возвращает нам некоторую свободу.
Что ж, такое время от времени происходит. Мы видим, как аналитики обращаются порой к своего рода примитивной интуиции и обнаруживают, что всё ими сказанное ничего не объясняет. Так произошло с Месье Винникоттом в небольшой статье, где он рассказывает о том, что называет transitional object (переходным объектом) - передадим это как переход объекта или феномен переходности. Винникотт обращает внимание на то, что нас всегда больше интересует функция матери и что в вопросе восприятия ребёнком реальности мы принимаем её в качестве абсолютно решающей. То есть в диалектической и безличностной оппозиции двух принципов мы заменили принцип реальности и принцип удовольствия на актёров. Несомненно, это весьма идеальные субъекты, несомненно, это скорее своего рода представление кукольного театра или воображаемая постановка, но именно с неё мы начинаем. Мы отождествили принцип удовольствия с определёнными объектными отношениями, а именно с отношениями с материнской грудью, тогда как принцип реальности мы отождествили с тем фактом, что ребёнок должен уметь обходиться без неё.
Винникотт очень точно указывает, при каких условиях всё будет хорошо -поскольку это важно, чтобы всё было хорошо, и если происходит что-то плохое, то мы имеем дело с последствиями ранней аномалии, фрустрации, которая становится ключевым термином нашей диалектики. Винникотт подчёркивает, что в целом для того, чтобы всё было хорошо, а именно чтобы ребёнок не был травмирован, требуется, чтобы мать всегда оказывалась рядом в нужный момент, то есть в момент бредоподобной галлюцинации ребёнка давала ему отвечающий ей реальный объект. Поэтому в идеальных отношениях мать-ребёнок изначально нет никакой возможности провести различие между галлюцинацией материнской груди, которая возникает под действием принципа первичной системы в соответствии с нашим представлением о нём, и реальным объектом, о котором идёт речь.
Если всё идёт хорошо, то у ребёнка нет никакой возможности отличить то, что принадлежит порядку удовлетворения, основанного на галлюцинации по принципу, связанному с работой первичной системы, от усвоения реального, которое его наполняет и действительно удовлетворяет. Поэтому речь идёт о том, что мать постепенно обучает ребёнка проходить через фрустрации и в то же время воспринимать в форме некоторой начальной напряжённости разницу между реальностью и иллюзией. Эта разница может быть постигнута только на пути избавления от иллюзий, когда время от времени реальность не совпадает с порождаемой желанием галлюцинацией.
Просто Винникотт главным образом указывает на то, что в эту диалектику совершенно не укладывается возможность развить что бы то ни было, выходящее за рамки понятия объекта, строго соответствующего первичному желанию. Предельное разнообразие объектов, как инструментальных, так и фантазматических, которые вмешиваются в развитие области человеческого желания, остаётся в рамках такой диалектики немыслимым, пока мы воплощаем её в двух реальных персонажах: матери и ребёнке. Во-вторых, из опыта нам известен тот факт, что даже у совсем маленького ребёнка мы наблюдаем появление тех объектов, которые Винникотт назвал объектами переходными, потому что мы не можем сказать, где они располагаются в рамках упрощённой и воплощённой диалектики: на стороне галлюцинации или реального объекта.
Все объекты детской игры являются переходными объектами. Строго говоря, ребёнку не обязательно давать игрушки, он сделает их из всего, что попадёт под руку. Это и есть переходные объекты. По их поводу не возникает вопроса, являются ли они более субъективными или более объективными, они имеют другую природу. Хотя Винникотт себе такого не позволяет, мы назовём их попросту воображаемыми.
Винникотт обращает внимание на то, что нас всегда больше интересует функция матери и что в вопросе восприятия ребёнком реальности мы принимаем её в качестве абсолютно решающей. То есть в диалектической и безличностной оппозиции двух принципов мы заменили принцип реальности и принцип удовольствия на актёров. Несомненно, это весьма идеальные субъекты, несомненно, это скорее своего рода представление кукольного театра или воображаемая постановка, но именно с неё мы начинаем. Мы отождествили принцип удовольствия с определёнными объектными отношениями, а именно с отношениями с материнской грудью, тогда как принцип реальности мы отождествили с тем фактом, что ребёнок должен уметь обходиться без неё.
Винникотт очень точно указывает, при каких условиях всё будет хорошо -поскольку это важно, чтобы всё было хорошо, и если происходит что-то плохое, то мы имеем дело с последствиями ранней аномалии, фрустрации, которая становится ключевым термином нашей диалектики. Винникотт подчёркивает, что в целом для того, чтобы всё было хорошо, а именно чтобы ребёнок не был травмирован, требуется, чтобы мать всегда оказывалась рядом в нужный момент, то есть в момент бредоподобной галлюцинации ребёнка давала ему отвечающий ей реальный объект. Поэтому в идеальных отношениях мать-ребёнок изначально нет никакой возможности провести различие между галлюцинацией материнской груди, которая возникает под действием принципа первичной системы в соответствии с нашим представлением о нём, и реальным объектом, о котором идёт речь.
Если всё идёт хорошо, то у ребёнка нет никакой возможности отличить то, что принадлежит порядку удовлетворения, основанного на галлюцинации по принципу, связанному с работой первичной системы, от усвоения реального, которое его наполняет и действительно удовлетворяет. Поэтому речь идёт о том, что мать постепенно обучает ребёнка проходить через фрустрации и в то же время воспринимать в форме некоторой начальной напряжённости разницу между реальностью и иллюзией. Эта разница может быть постигнута только на пути избавления от иллюзий, когда время от времени реальность не совпадает с порождаемой желанием галлюцинацией.
Просто Винникотт главным образом указывает на то, что в эту диалектику совершенно не укладывается возможность развить что бы то ни было, выходящее за рамки понятия объекта, строго соответствующего первичному желанию. Предельное разнообразие объектов, как инструментальных, так и фантазматических, которые вмешиваются в развитие области человеческого желания, остаётся в рамках такой диалектики немыслимым, пока мы воплощаем её в двух реальных персонажах: матери и ребёнке. Во-вторых, из опыта нам известен тот факт, что даже у совсем маленького ребёнка мы наблюдаем появление тех объектов, которые Винникотт назвал объектами переходными, потому что мы не можем сказать, где они располагаются в рамках упрощённой и воплощённой диалектики: на стороне галлюцинации или реального объекта.
Все объекты детской игры являются переходными объектами. Строго говоря, ребёнку не обязательно давать игрушки, он сделает их из всего, что попадёт под руку. Это и есть переходные объекты. По их поводу не возникает вопроса, являются ли они более субъективными или более объективными, они имеют другую природу. Хотя Винникотт себе такого не позволяет, мы назовём их попросту воображаемыми. В очень нерешительных, исполненных манёврами и путаницей работах мы видим, тем не менее, что к этим объектам всегда обращаются авторы, которые ищут объяснение такому факту, как существование сексуального фетиша. Им приходится делать всё возможное, чтобы найти общие моменты между объектом ребёнка и фетишем, который заступает на первый план опредмеченных (о^ес1а1ез) требований в целях главного для субъекта удовлетворения, а именно удовлетворения сексуального. Они шпионят за малейшими предпочтениями ребёнка в наборе его объектов, платком матери, краешком простыни, какой-то частичкой реальности, случайно попавшей в зону его досягаемости, за тем, что появляется в течение переходного периода, который, будучи названным так, тем не менее является не промежуточным, но непрерывным периодом развития ребёнка. В результате они практически не различают два типа объекта и не задаются вопросом о дистанции, которая может присутствовать между эротизацией объекта-фетиша и первым появлением объекта как объекта воображаемого.
То, что в рамках такой диалектики оказывается утраченным, вызывает необходимость в различных формах восполнения, на которые я обратил внимание, ссылаясь на статью Винникотта. Дело в том, что одной из главных внутренних пружин аналитической практики было с самого начала понятие утраты объекта.
3
В нашем практическом применении аналитической теории мы никак не можем обойтись без понятия нехватки объекта как центрального. Это не обратная сторона, но сама основа отношений субъекта с миром.
С самого начала анализ, анализ невроза, исходит из такого парадоксального, можно сказать, ещё не проработанного полностью понятия как кастрация.
Мы полагаем, что мы постоянно говорим о ней, как это происходило во время Фрейда. Это заблуждение. Мы говорим о ней все меньше и меньше, и в этом наша ошибка. Гораздо больше мы говорим о фрустрации. Есть ещё один, третий термин, к обсуждению которого мы приступаем и убедимся в дальнейшем, насколько он необходим, и увидим, каким образом и по каким причинам мы его вводим - это понятие лишения.
Это три совершенно неэквивалентные друг другу вещи. Они различны. Я сделаю несколько простых замечаний и постараюсь сначала дать вам понять, что они собой представляют.
Начнём с того, что нам наиболее знакомо, - с понятия фрустрации.
В чём разница между фрустрацией и лишением? Оттолкнёмся от этого, поскольку Джонс вводит понятие лишения и говорит, что в психике эти два понятия дают о себе знать одинаковым образом. Это очень смелое предположение. Ясно, что если мы прибегаем к понятию лишения, то происходит это постольку, поскольку фаллицизм, то есть нужда в фаллосе, является, как говорит Фрейд, главным моментом всей воображаемой игры того конфликтного процесса, который описывает анализ субъекта. Только относительно реального, как чего-то совершенно отличного от воображаемого, можно говорить о лишении. Нужда в фаллосе возникает не по этой причине. В действительности наиболее проблематичным выглядит то, каким образом существо, выступающее в качестве цельного, может чувствовать себя лишённым чего-то такого,
В очень нерешительных, исполненных манёврами и путаницей работах мы видим, тем не менее, что к этим объектам всегда обращаются авторы, которые ищут объяснение такому факту, как существование сексуального фетиша. Им приходится делать всё возможное, чтобы найти общие моменты между объектом ребёнка и фетишем, который заступает на первый план опредмеченных (о^ес1а1ез) требований в целях главного для субъекта удовлетворения, а именно удовлетворения сексуального. Они шпионят за малейшими предпочтениями ребёнка в наборе его объектов, платком матери, краешком простыни, какой-то частичкой реальности, случайно попавшей в зону его досягаемости, за тем, что появляется в течение переходного периода, который, будучи названным так, тем не менее является не промежуточным, но непрерывным периодом развития ребёнка. В результате они практически не различают два типа объекта и не задаются вопросом о дистанции, которая может присутствовать между эротизацией объекта-фетиша и первым появлением объекта как объекта воображаемого.
То, что в рамках такой диалектики оказывается утраченным, вызывает необходимость в различных формах восполнения, на которые я обратил внимание, ссылаясь на статью Винникотта. Дело в том, что одной из главных внутренних пружин аналитической практики было с самого начала понятие утраты объекта.
3
В нашем практическом применении аналитической теории мы никак не можем обойтись без понятия нехватки объекта как центрального. Это не обратная сторона, но сама основа отношений субъекта с миром.
С самого начала анализ, анализ невроза, исходит из такого парадоксального, можно сказать, ещё не проработанного полностью понятия как кастрация.
Мы полагаем, что мы постоянно говорим о ней, как это происходило во время Фрейда. Это заблуждение. Мы говорим о ней все меньше и меньше, и в этом наша ошибка. Гораздо больше мы говорим о фрустрации. Есть ещё один, третий термин, к обсуждению которого мы приступаем и убедимся в дальнейшем, насколько он необходим, и увидим, каким образом и по каким причинам мы его вводим - это понятие лишения.
Это три совершенно неэквивалентные друг другу вещи. Они различны. Я сделаю несколько простых замечаний и постараюсь сначала дать вам понять, что они собой представляют.
Начнём с того, что нам наиболее знакомо, - с понятия фрустрации.
В чём разница между фрустрацией и лишением? Оттолкнёмся от этого, поскольку Джонс вводит понятие лишения и говорит, что в психике эти два понятия дают о себе знать одинаковым образом. Это очень смелое предположение. Ясно, что если мы прибегаем к понятию лишения, то происходит это постольку, поскольку фаллицизм, то есть нужда в фаллосе, является, как говорит Фрейд, главным моментом всей воображаемой игры того конфликтного процесса, который описывает анализ субъекта. Только относительно реального, как чего-то совершенно отличного от воображаемого, можно говорить о лишении. Нужда в фаллосе возникает не по этой причине. В действительности наиболее проблематичным выглядит то, каким образом существо, выступающее в качестве цельного, может чувствовать себя лишённым чего-то такого, чего по определению у него нет. Поэтому мы скажем, что лишение, будучи по своей природе нехваткой, является нехваткой реальной. Это дыра (un trou).
Когда мы обсуждаем фрустрацию, мы используем понятие ущерба (dam). Это повреждение ( lésion ), урон ( dommage ) - понятие, которое в том смысле, в котором мы привыкли его применять, и в соответствии с тем, как мы его используем в нашей диалектике, определяется не иначе как воображаемый ущерб. Фрустрация - это, по сути, область притязания (revendication). Она касается какой-то желанной и неуловимой вещи, желание которой никак не связано с какой бы то ни было перспективой удовлетворения и обретения. Сама по себе фрустрация является областью необузданных и беспорядочных требований. Сутью понятия фрустрации как одной из категорий нехватки является воображаемый ущерб. Фрустрация расположена в плане воображаемого.
Принимая во внимание эти два замечания, нам будет легче обнаружить, как обстоит дело с кастрацией, сущность которой, Wesen, оказалась в гораздо большей степени оставленной и заброшенной, нежели проработанной.
Кастрация была введена Фрейдом в абсолютной координации с понятием первичного закона, того, что происходит от фундаментального закона запрета на инцест и структуры Эдипа. Вот в чём, стоит нам лишь поразмыслить об этом, состоит смысл того, что было изначально высказано Фрейдом. Это было чем-то вроде головокружительного кульбита, когда Фрейд установил настолько парадоксальное понятие как кастрация в центр решающего, образующего, главного кризиса, коим является Эдип. Мы можем восхититься этим только задним числом, так как теперь, как это ни удивительно, мы делаем всё, чтобы об этом не вспоминать. Кастрация может рассматриваться только как категория символического долга.
Символический долг, воображаемый ущерб и реальное отсутствие, дыра - вот то, что позволяет нам охарактеризовать места элементов, которые мы называем тремя терминами нехватки объекта.
Конечно, некоторым может показаться, что это непригодно для применения без некоторых оговорок. Они будут правы, поскольку для того, чтобы это было справедливым, необходимо строго придерживаться центрального понятия о категориях нехватки объекта. Я говорю о нехватке объекта, а не об объекте, поскольку, оказавшись на уровне объекта, мы зададим себе вопрос: чем является объект нехватки в этих трёх случаях?
Именно на уровне кастрации это наиболее очевидно. Совершенно очевидно, что в нашем аналитическом опыте то, что является нехваткой на уровне кастрации как организованной символическим долгом - тем, что санкционируется законом и, в свою очередь, даёт ему опору и его оборотную сторону, наказание - не является реальным объектом. Только в законе Ману говорится, что тот, кто переспит с матерью, должен отсечь себе гениталии и, держа их в руке, идти прямо на запад, пока не умрёт. До сих пор мы чрезвычайно редко наблюдали подобное и только в тех случаях, которые не имеют к нашему опыту никакого отношения и кажутся нам заслуживающими объяснений, принадлежащих к совсем другому порядку, нежели механизмы структурирования и нормализации, обыкновенно применяемые в нашем опыте.
Объект является воображаемым. Кастрация, о которой идёт речь, всегда касается воображаемого объекта. Именно эта общность между воображаемым характером нехватки во фрустрации и воображаемым характером объекта кастрации, а также тот факт, что кастрация является нехваткой воображаемого объекта, убедили нас в том, что
чего по определению у него нет. Поэтому мы скажем, что лишение, будучи по своей природе нехваткой, является нехваткой реальной. Это дыра (un trou).
Когда мы обсуждаем фрустрацию, мы используем понятие ущерба (dam). Это повреждение ( lésion ), урон ( dommage ) - понятие, которое в том смысле, в котором мы привыкли его применять, и в соответствии с тем, как мы его используем в нашей диалектике, определяется не иначе как воображаемый ущерб. Фрустрация - это, по сути, область притязания (revendication). Она касается какой-то желанной и неуловимой вещи, желание которой никак не связано с какой бы то ни было перспективой удовлетворения и обретения. Сама по себе фрустрация является областью необузданных и беспорядочных требований. Сутью понятия фрустрации как одной из категорий нехватки является воображаемый ущерб. Фрустрация расположена в плане воображаемого.
Принимая во внимание эти два замечания, нам будет легче обнаружить, как обстоит дело с кастрацией, сущность которой, Wesen, оказалась в гораздо большей степени оставленной и заброшенной, нежели проработанной.
Кастрация была введена Фрейдом в абсолютной координации с понятием первичного закона, того, что происходит от фундаментального закона запрета на инцест и структуры Эдипа. Вот в чём, стоит нам лишь поразмыслить об этом, состоит смысл того, что было изначально высказано Фрейдом. Это было чем-то вроде головокружительного кульбита, когда Фрейд установил настолько парадоксальное понятие как кастрация в центр решающего, образующего, главного кризиса, коим является Эдип. Мы можем восхититься этим только задним числом, так как теперь, как это ни удивительно, мы делаем всё, чтобы об этом не вспоминать. Кастрация может рассматриваться только как категория символического долга.
Символический долг, воображаемый ущерб и реальное отсутствие, дыра - вот то, что позволяет нам охарактеризовать места элементов, которые мы называем тремя терминами нехватки объекта.
Конечно, некоторым может показаться, что это непригодно для применения без некоторых оговорок. Они будут правы, поскольку для того, чтобы это было справедливым, необходимо строго придерживаться центрального понятия о категориях нехватки объекта. Я говорю о нехватке объекта, а не об объекте, поскольку, оказавшись на уровне объекта, мы зададим себе вопрос: чем является объект нехватки в этих трёх случаях?
Именно на уровне кастрации это наиболее очевидно. Совершенно очевидно, что в нашем аналитическом опыте то, что является нехваткой на уровне кастрации как организованной символическим долгом - тем, что санкционируется законом и, в свою очередь, даёт ему опору и его оборотную сторону, наказание - не является реальным объектом. Только в законе Ману говорится, что тот, кто переспит с матерью, должен отсечь себе гениталии и, держа их в руке, идти прямо на запад, пока не умрёт. До сих пор мы чрезвычайно редко наблюдали подобное и только в тех случаях, которые не имеют к нашему опыту никакого отношения и кажутся нам заслуживающими объяснений, принадлежащих к совсем другому порядку, нежели механизмы структурирования и нормализации, обыкновенно применяемые в нашем опыте.
Объект является воображаемым. Кастрация, о которой идёт речь, всегда касается воображаемого объекта. Именно эта общность между воображаемым характером нехватки во фрустрации и воображаемым характером объекта кастрации, а также тот факт, что кастрация является нехваткой воображаемого объекта, убедили нас в том, что фрустрация облегчит нам понимание проблемы. Так вот, нехватка, объект и ещё один термин, который мы обозначим как агент, совершенно не обязательно должны быть расположены в этих категориях на одном уровне. В действительности объект кастрации является воображаемым объектом, и именно это должно заставить нас задуматься о том, что такое фаллос, для определения которого потребовалось так много времени.
С другой стороны, объект фрустрации совершенно точно по своей природе является объектом реальным, притом что фрустрация носит воображаемый характер. Это всегда объект реальный, которого не хватает, например, ребёнку, привилегированному субъекту нашей диалектики фрустрации. Это помогает нам понять положение, которое требует немного более метафизической обработки терминов, нежели мы привыкли, когда ссылаемся на упомянутые ранее критерии реальности; объект лишения - это всегда объект символический.
Это совершенно очевидно, ведь каким ещё образом нечто может отсутствовать на своём месте, не быть в том месте, где его точно нет? С точки зрения реального говорить здесь абсолютно не о чем. Всё, что есть реальное, всегда и в обязательном порядке находится на своём месте, даже когда что-то идёт не так. Реальное вы носите на подошве своих башмаков, вы сколь угодно можете его перетряхивать, оно не станет от этого меньше, также как наши тела после взрыва атомной бомбы останутся на своих местах - в реальном найдётся место для каждого кусочка. Отсутствие чего-либо в реальном является чисто символическим. Объект нехватки имеет место лишь постольку, поскольку мы законодательно определили, что он должен быть там. Лучший пример этому следующий - представьте, что вы просите книгу в библиотеке. Вам отвечают, что она отсутствует на своём месте, она может стоять прямо по соседству, тем не менее принципиально она отсутствует на своём месте, по принципу символического учёта она невидима. Это означает, что библиотекарь живёт всецело в символическом мире. Когда мы говорим о лишении, речь идёт о символических объектах и ни о чём другом.
Это может показаться немного абстрактным, но вы увидите, насколько нам это впоследствии пригодится, чтобы обнаружить уловки, благодаря которым мы даём ложным проблемам надуманные решения. Мы предпринимаем, вы в этом убедитесь, отчаянные попытки разобраться в том, с чем не можем смириться, в том, что пути развития так называемой сексуальности у мужчины и у женщины совершенно различны, пытаясь свести два термина к единому принципу. Тогда как, возможно, с самого начала есть что-то такое, что позволяет простым и ясным образом объяснить, почему существует большая разница в развитии двух полов.
Я хочу только добавить несколько слов о понятии, которое впоследствии также получит свою область применения, это понятие агента. Я понимаю, что делаю здесь скачок, который обязывает меня вернуться к воображаемой триаде матери, ребёнка и фаллоса, но у меня нет времени, чтобы сделать это. Я просто хочу дополнить картину. Агент также играет свою роль в нехватке объекта.
Обсуждая фрустрацию, мы исходим из того, что именно мать играет роль агента. Но является этот агент символическим, воображаемым или реальным? Кто является агентом кастрации? Он символический, воображаемый или реальный? Кто является агентом лишения? Действительно ли нет никакого измерения реального существования, как я об этом ранее сказал?
Эти вопросы заслуживают по крайней мере того, чтобы их поставили. Я оставляю их в конце этой встречи открытыми. Поскольку совершенно ясно, что если начать
фрустрация облегчит нам понимание проблемы. Так вот, нехватка, объект и ещё один термин, который мы обозначим как агент, совершенно не обязательно должны быть расположены в этих категориях на одном уровне. В действительности объект кастрации является воображаемым объектом, и именно это должно заставить нас задуматься о том, что такое фаллос, для определения которого потребовалось так много времени.
С другой стороны, объект фрустрации совершенно точно по своей природе является объектом реальным, притом что фрустрация носит воображаемый характер. Это всегда объект реальный, которого не хватает, например, ребёнку, привилегированному субъекту нашей диалектики фрустрации. Это помогает нам понять положение, которое требует немного более метафизической обработки терминов, нежели мы привыкли, когда ссылаемся на упомянутые ранее критерии реальности; объект лишения - это всегда объект символический.
Это совершенно очевидно, ведь каким ещё образом нечто может отсутствовать на своём месте, не быть в том месте, где его точно нет? С точки зрения реального говорить здесь абсолютно не о чем. Всё, что есть реальное, всегда и в обязательном порядке находится на своём месте, даже когда что-то идёт не так. Реальное вы носите на подошве своих башмаков, вы сколь угодно можете его перетряхивать, оно не станет от этого меньше, также как наши тела после взрыва атомной бомбы останутся на своих местах - в реальном найдётся место для каждого кусочка. Отсутствие чего-либо в реальном является чисто символическим. Объект нехватки имеет место лишь постольку, поскольку мы законодательно определили, что он должен быть там. Лучший пример этому следующий - представьте, что вы просите книгу в библиотеке. Вам отвечают, что она отсутствует на своём месте, она может стоять прямо по соседству, тем не менее принципиально она отсутствует на своём месте, по принципу символического учёта она невидима. Это означает, что библиотекарь живёт всецело в символическом мире. Когда мы говорим о лишении, речь идёт о символических объектах и ни о чём другом.
Это может показаться немного абстрактным, но вы увидите, насколько нам это впоследствии пригодится, чтобы обнаружить уловки, благодаря которым мы даём ложным проблемам надуманные решения. Мы предпринимаем, вы в этом убедитесь, отчаянные попытки разобраться в том, с чем не можем смириться, в том, что пути развития так называемой сексуальности у мужчины и у женщины совершенно различны, пытаясь свести два термина к единому принципу. Тогда как, возможно, с самого начала есть что-то такое, что позволяет простым и ясным образом объяснить, почему существует большая разница в развитии двух полов.
Я хочу только добавить несколько слов о понятии, которое впоследствии также получит свою область применения, это понятие агента. Я понимаю, что делаю здесь скачок, который обязывает меня вернуться к воображаемой триаде матери, ребёнка и фаллоса, но у меня нет времени, чтобы сделать это. Я просто хочу дополнить картину. Агент также играет свою роль в нехватке объекта.
Обсуждая фрустрацию, мы исходим из того, что именно мать играет роль агента. Но является этот агент символическим, воображаемым или реальным? Кто является агентом кастрации? Он символический, воображаемый или реальный? Кто является агентом лишения? Действительно ли нет никакого измерения реального существования, как я об этом ранее сказал?
Эти вопросы заслуживают по крайней мере того, чтобы их поставили. Я оставляю их в конце этой встречи открытыми. Поскольку совершенно ясно, что если начать отвечать сейчас, то сделать это придётся очень формальным образом, который ни в коем случае не будет достаточно удовлетворительным для того пункта нашего движения, которого мы достигли на данный момент, потому что понятие агента выходит за пределы сегодняшнего разговора, который в первую очередь касался вопроса отношений объекта и реального. Мы оставались в рамках категорий воображаемого и реального, тогда как ясно, что агент принадлежит другому порядку.
Тем не менее вы видите, что характеристика агента на этих трех уровнях является тем вопросом, к которому мы подходим с началом построения фаллоса.
28 ноября 1956
отвечать сейчас, то сделать это придётся очень формальным образом, который ни в коем случае не будет достаточно удовлетворительным для того пункта нашего движения, которого мы достигли на данный момент, потому что понятие агента выходит за пределы сегодняшнего разговора, который в первую очередь касался вопроса отношений объекта и реального. Мы оставались в рамках категорий воображаемого и реального, тогда как ясно, что агент принадлежит другому порядку.
Тем не менее вы видите, что характеристика агента на этих трех уровнях является тем вопросом, к которому мы подходим с началом построения фаллоса.
28 ноября 1956
 К тому же, как вы могли заметить, число сексуальных фетишей было довольно ограниченным. Почему? Если сбросить со счетов обувь, которая исполняет здесь столь удивительную роль, что можно было бы задаться вопросом, как так происходит, что ей не уделяется больше внимания, то вряд ли вы сможете найти что-то, кроме подвязок, носков, бюстгальтеров и прочего - всего того, что довольно близко прилегает к коже. Главное - это обувь. Как тогда можно было стать фетишистом во времена Катулла? Перед нами ещё один такой остаток.
Вот те объекты, о которых мы спрашиваем, не являются ли они воображаемыми. Как понимать их кинетическое значение в экономике либидо? Может ли оно принадлежать порядку происхождения, то есть в конечном итоге эктопии, по отношению к определённой типичной взаимосвязи? Возникают ли эти объекты только лишь в типичной последовательности того, что называется стадиями?
Как бы то ни было, объекты - если это вообще объекты - с которыми вы имели дело вчера вечером, нас сильно смущают. Принимая во внимание возникший на собрании интерес и значительность дискуссии, тема притягательная. Как мы услышали, в первом приближении речь идёт о конструкциях, которые упорядочивают, организуют, формулируют определённое переживание. Но наиболее поразительно то, каким образом оперирует ими - по поводу эффективности такого применения ни на мгновение не возникает сомнения - докладчица, в данном случае Мадам Дольто. Определённо, именно в этом обнаруживает себя как факт задействованности понятий означаемого и означающего, так и то, что может быть осмыслено только исходя из этого. Этот объект, или полагаемый таковым образ, Мадам Дольто использует как означающее. В её докладе образ вступает в игру именно как означающее, некоторую вещь она представляет именно как означающее. Это особенно очевидно проявляется в том, что никакой из этих образов не поддерживается самим собой. Именно посредством связи с другим образом каждый из них обретает своё кристаллизирующее, ориентирующее значение, которое внедряется в субъекта, о котором идёт речь, то есть в ребёнка.
Таким образом, мы снова возвращаемся к понятию означающего.
1
Поскольку мы занимаемся здесь обучением и нет ничего более важного, чем недопонимание, то для начала я хотел бы подчеркнуть, что - я имел возможность прямо и косвенно в этом убедиться - некоторые вещи, которые я сказал в прошлый раз, когда говорил о понятии реальности, остались непонятыми.
Я сказал, что психоаналитики имели настолько мифическое представление о реальности, что оно примкнуло к тому понятию реальности, которое на протяжении десятков лет препятствовало прогрессу психиатрии, и мы могли бы ожидать, что именно психоанализ избавит нас от него. Это препятствие возникает вместе с намерением искать реальность в чём-то, что могло бы обладать более материальным качеством. Для иллюстрации я привел пример гидроэлектростанции и сказал, что это можно представить себе так, как если бы некий специалист, имеющий дело с предотвращением различных происшествий, знающий толк в поломках машинной установки и её ремонте, считал бы возможным и обоснованным обращаться в этих целях к примитивной материи, которая приводит её в действие, в данном случае к падающей воде.
К тому же, как вы могли заметить, число сексуальных фетишей было довольно ограниченным. Почему? Если сбросить со счетов обувь, которая исполняет здесь столь удивительную роль, что можно было бы задаться вопросом, как так происходит, что ей не уделяется больше внимания, то вряд ли вы сможете найти что-то, кроме подвязок, носков, бюстгальтеров и прочего - всего того, что довольно близко прилегает к коже. Главное - это обувь. Как тогда можно было стать фетишистом во времена Катулла? Перед нами ещё один такой остаток.
Вот те объекты, о которых мы спрашиваем, не являются ли они воображаемыми. Как понимать их кинетическое значение в экономике либидо? Может ли оно принадлежать порядку происхождения, то есть в конечном итоге эктопии, по отношению к определённой типичной взаимосвязи? Возникают ли эти объекты только лишь в типичной последовательности того, что называется стадиями?
Как бы то ни было, объекты - если это вообще объекты - с которыми вы имели дело вчера вечером, нас сильно смущают. Принимая во внимание возникший на собрании интерес и значительность дискуссии, тема притягательная. Как мы услышали, в первом приближении речь идёт о конструкциях, которые упорядочивают, организуют, формулируют определённое переживание. Но наиболее поразительно то, каким образом оперирует ими - по поводу эффективности такого применения ни на мгновение не возникает сомнения - докладчица, в данном случае Мадам Дольто. Определённо, именно в этом обнаруживает себя как факт задействованности понятий означаемого и означающего, так и то, что может быть осмыслено только исходя из этого. Этот объект, или полагаемый таковым образ, Мадам Дольто использует как означающее. В её докладе образ вступает в игру именно как означающее, некоторую вещь она представляет именно как означающее. Это особенно очевидно проявляется в том, что никакой из этих образов не поддерживается самим собой. Именно посредством связи с другим образом каждый из них обретает своё кристаллизирующее, ориентирующее значение, которое внедряется в субъекта, о котором идёт речь, то есть в ребёнка.
Таким образом, мы снова возвращаемся к понятию означающего.
1
Поскольку мы занимаемся здесь обучением и нет ничего более важного, чем недопонимание, то для начала я хотел бы подчеркнуть, что - я имел возможность прямо и косвенно в этом убедиться - некоторые вещи, которые я сказал в прошлый раз, когда говорил о понятии реальности, остались непонятыми.
Я сказал, что психоаналитики имели настолько мифическое представление о реальности, что оно примкнуло к тому понятию реальности, которое на протяжении десятков лет препятствовало прогрессу психиатрии, и мы могли бы ожидать, что именно психоанализ избавит нас от него. Это препятствие возникает вместе с намерением искать реальность в чём-то, что могло бы обладать более материальным качеством. Для иллюстрации я привел пример гидроэлектростанции и сказал, что это можно представить себе так, как если бы некий специалист, имеющий дело с предотвращением различных происшествий, знающий толк в поломках машинной установки и её ремонте, считал бы возможным и обоснованным обращаться в этих целях к примитивной материи, которая приводит её в действие, в данном случае к падающей воде. На что мне сказали: «Что вы собираетесь там искать? Считайте, что инженер имеет дело только с водопадом. Вы говорите об энергии, аккумулированной этой установкой, но она является не чем иным, как преобразованной потенциальной энергией, изначально заданной в том месте, где мы построили машинную установку. Чтобы посчитать её количество, инженеру достаточно измерить разницу, на которую упадёт уровень поверхности воды. Всё дело в потенциальной энергии. Мощность гидроэлектростанции определяется в уже изначально заданных условиях».
Это возражение требует нескольких комментариев. Во-первых, в разговоре о реальности я начал с того, что определил её через Wirklichkeit, через действенность системы, в данном случае системы психической. С другой стороны, я хотел уточнить для вас мифический характер определённой концепции реальности и воспользовался для этого примером машинной установки. Я не успел изложить вам третью точку зрения, с которой можно представить перспективу реального с акцентом на то, что было до того (ce qui est avant).
Мы постоянно имеем с этим дело. Конечно, это правомочный способ рассмотреть реальность, связав её с тем, что было до того, как было установлено символическое функционирование, и в этой самой перспективе расположены наиболее веские основания миража, на котором зиждется высказанное мне возражение. Я никоим образом не отрицаю того, что нечто могло быть до того. Например, до того, как случилось Я (Je), было Оно ($а). Дело в том, что такое это Оно.
Мне говорят, что в случае с машинной установкой тем, что было до того, является энергия. Так я ничего другого и не сказал. Но между энергией и природной реальностью - целый мир. Энергия может приниматься в расчёт только начиная с того момента, когда вы её измерите. И задумались вы о том, чтобы измерять её, только с того момента, когда заработали машинные установки. Именно в связи с их работой вампришлось проделать множественные расчеты, в число которых действительно входит энергия, попадающая в ваше распоряжение. Другими словами, понятие энергии появляется в условиях необходимости производящей цивилизации осуществлять расчёты - какую работу нужно произвести, чтобы получить возможный выигрыш в эффективности?
Эту энергию вы всегда замеряете между двумя контрольными значениями. Нет абсолютной энергии резервуара природного происхождения, есть энергия этого резервуара по отношению к более низкому уровню, на который спускается жидкость в потоке, когда вы создаёте для этого условия. Но само по себе устройство для водостока не позволит вам рассчитать энергию, вы сможете это сделать только с учётом перепада высоты.
Но вопрос не в этом. Дело в том, что есть определённые природные условия, которые необходимо учитывать для того, чтобы появился малейший интерес к расчёту энергии. Любая разница уровня в течении воды, будь то ручеёк или даже капли, может обладать некоторым значением потенциальной энергии, только это никому не интересно. Нужно, чтобы определенные природные материалы, участвующие в работе машины, оказались представлены в привилегированной, по сути дела, означающей форме. Мы возводим машинную установку только там, где что-то в природе предстает как пригодное к использованию, как значимое и в данном случае как измеримое. Нужно встать на путь, что ведёт к системе, которую следует рассматривать как означающее. Это не подлежит сомнению.
На что мне сказали: «Что вы собираетесь там искать? Считайте, что инженер имеет дело только с водопадом. Вы говорите об энергии, аккумулированной этой установкой, но она является не чем иным, как преобразованной потенциальной энергией, изначально заданной в том месте, где мы построили машинную установку. Чтобы посчитать её количество, инженеру достаточно измерить разницу, на которую упадёт уровень поверхности воды. Всё дело в потенциальной энергии. Мощность гидроэлектростанции определяется в уже изначально заданных условиях».
Это возражение требует нескольких комментариев. Во-первых, в разговоре о реальности я начал с того, что определил её через Wirklichkeit, через действенность системы, в данном случае системы психической. С другой стороны, я хотел уточнить для вас мифический характер определённой концепции реальности и воспользовался для этого примером машинной установки. Я не успел изложить вам третью точку зрения, с которой можно представить перспективу реального с акцентом на то, что было до того (ce qui est avant).
Мы постоянно имеем с этим дело. Конечно, это правомочный способ рассмотреть реальность, связав её с тем, что было до того, как было установлено символическое функционирование, и в этой самой перспективе расположены наиболее веские основания миража, на котором зиждется высказанное мне возражение. Я никоим образом не отрицаю того, что нечто могло быть до того. Например, до того, как случилось Я (Je), было Оно ($а). Дело в том, что такое это Оно.
Мне говорят, что в случае с машинной установкой тем, что было до того, является энергия. Так я ничего другого и не сказал. Но между энергией и природной реальностью - целый мир. Энергия может приниматься в расчёт только начиная с того момента, когда вы её измерите. И задумались вы о том, чтобы измерять её, только с того момента, когда заработали машинные установки. Именно в связи с их работой вампришлось проделать множественные расчеты, в число которых действительно входит энергия, попадающая в ваше распоряжение. Другими словами, понятие энергии появляется в условиях необходимости производящей цивилизации осуществлять расчёты - какую работу нужно произвести, чтобы получить возможный выигрыш в эффективности?
Эту энергию вы всегда замеряете между двумя контрольными значениями. Нет абсолютной энергии резервуара природного происхождения, есть энергия этого резервуара по отношению к более низкому уровню, на который спускается жидкость в потоке, когда вы создаёте для этого условия. Но само по себе устройство для водостока не позволит вам рассчитать энергию, вы сможете это сделать только с учётом перепада высоты.
Но вопрос не в этом. Дело в том, что есть определённые природные условия, которые необходимо учитывать для того, чтобы появился малейший интерес к расчёту энергии. Любая разница уровня в течении воды, будь то ручеёк или даже капли, может обладать некоторым значением потенциальной энергии, только это никому не интересно. Нужно, чтобы определенные природные материалы, участвующие в работе машины, оказались представлены в привилегированной, по сути дела, означающей форме. Мы возводим машинную установку только там, где что-то в природе предстает как пригодное к использованию, как значимое и в данном случае как измеримое. Нужно встать на путь, что ведёт к системе, которую следует рассматривать как означающее. Это не подлежит сомнению. Для нас важно то сопоставление с психикой, которое я предпринял. Рассмотрим, в чём оно заключается.
Фрейд, руководствуясь энергетической моделью, формулирует понятие, которое нам следует применять в анализе в сопоставлении с понятием энергии. Это понятие, точно так же, как и понятие энергии, является совершенно абстрактным и состоит в неоправданном логическом допущении, позволяющем развивать определённый ход мысли. Только оно позволяет предположить, опять же виртуально, эквивалентность, существование общего измерения явлений, представляющихся совершенно разнородными. Речь идёт о понятии либидо.
И нет ничего менее ориентированного на материальность, чем понятие либидо в психоанализе. Поразительно, что в Трёх очерках Фрейд в первый раз, в 1905 году, заговорил о психической основе либидо в терминах, к которым дальнейшему развитию в теории сексуальных гормонов почти нечего оказалось добавить. Но в этом нет ничего удивительного. Обращение к химической основе процесса не имеет никакого смысла в разговоре о либидо. Это говорит сам Фрейд - одно это либидо или их несколько, или есть одно женское, а одно мужское, может два или три для каждого пола, или они взаимозаменяемые, или существует лишь одно-единственное, что всего вероятней, - не важно, поскольку в любом случае аналитический опыт убеждает нас, что есть только одно единственное и уникальное либидо. То есть Фрейд сразу же представляет либидо в плане, если можно так выразиться, нейтральном, каким бы парадоксальным этот термин ни показался.
Либидо - это то, что связывает друг с другом существа в их взаимодействии, что придаёт им, например, активную или пассивную позицию - но, говорит нам Фрейд, этому либидо в любом случае присущи эффекты активности, даже в пассивной позиции, потому что нужно быть весьма активным, чтобы освоить пассивную позицию. С учётом этого факта Фрейд указывает на то, что либидо всегда проявляет себя в действенной и активной форме, в аспекте, который роднит его скорее с мужской позицией. Фрейд доходит до утверждения, что мы располагаем только мужской формой либидо.
И насколько это было бы парадоксальным, если бы речь не шла просто-напросто о понятии, которое существует только для того, чтобы позволить нам описать связь особого типа, возникающую на определённом уровне, который, собственно говоря, является уровнем воображаемого, где поведение одного живого существа в присутствии другого живого существа обусловлено узами желания, стремления; либидо -важнейший инструмент, которым пользуется фрейдовская теория для осмысления любых проявлений сексуальности.
Мы привыкли рассматривать Es как инстанцию, в наибольшей степени связанную с психическими тенденциями (tendances), инстинктами (instincts), либидо. Так что такое Es? С чем мы можем сравнить его в машинной установке? С самой машинной установкой, об устройстве которой абсолютно ничего не известно. Если некий персонаж, далёкий от техники, увидит её, он подумает, что, вероятно, некий демон течения предаётся внутри шалостям и трансформирует воду в свет или силу.
Es является в субъекте тем, что посредством сообщения от большого Другого способно обратиться в Я (Je). Вот наилучшее определение.
Если анализ нечто доносит до нас, то как раз это: Es не является ни грубой реальностью, ни только лишь тем, что было до того; Es уже организовано и артикулировано так же, как организовано и артикулировано означающее.
Для нас важно то сопоставление с психикой, которое я предпринял. Рассмотрим, в чём оно заключается.
Фрейд, руководствуясь энергетической моделью, формулирует понятие, которое нам следует применять в анализе в сопоставлении с понятием энергии. Это понятие, точно так же, как и понятие энергии, является совершенно абстрактным и состоит в неоправданном логическом допущении, позволяющем развивать определённый ход мысли. Только оно позволяет предположить, опять же виртуально, эквивалентность, существование общего измерения явлений, представляющихся совершенно разнородными. Речь идёт о понятии либидо.
И нет ничего менее ориентированного на материальность, чем понятие либидо в психоанализе. Поразительно, что в Трёх очерках Фрейд в первый раз, в 1905 году, заговорил о психической основе либидо в терминах, к которым дальнейшему развитию в теории сексуальных гормонов почти нечего оказалось добавить. Но в этом нет ничего удивительного. Обращение к химической основе процесса не имеет никакого смысла в разговоре о либидо. Это говорит сам Фрейд - одно это либидо или их несколько, или есть одно женское, а одно мужское, может два или три для каждого пола, или они взаимозаменяемые, или существует лишь одно-единственное, что всего вероятней, - не важно, поскольку в любом случае аналитический опыт убеждает нас, что есть только одно единственное и уникальное либидо. То есть Фрейд сразу же представляет либидо в плане, если можно так выразиться, нейтральном, каким бы парадоксальным этот термин ни показался.
Либидо - это то, что связывает друг с другом существа в их взаимодействии, что придаёт им, например, активную или пассивную позицию - но, говорит нам Фрейд, этому либидо в любом случае присущи эффекты активности, даже в пассивной позиции, потому что нужно быть весьма активным, чтобы освоить пассивную позицию. С учётом этого факта Фрейд указывает на то, что либидо всегда проявляет себя в действенной и активной форме, в аспекте, который роднит его скорее с мужской позицией. Фрейд доходит до утверждения, что мы располагаем только мужской формой либидо.
И насколько это было бы парадоксальным, если бы речь не шла просто-напросто о понятии, которое существует только для того, чтобы позволить нам описать связь особого типа, возникающую на определённом уровне, который, собственно говоря, является уровнем воображаемого, где поведение одного живого существа в присутствии другого живого существа обусловлено узами желания, стремления; либидо -важнейший инструмент, которым пользуется фрейдовская теория для осмысления любых проявлений сексуальности.
Мы привыкли рассматривать Es как инстанцию, в наибольшей степени связанную с психическими тенденциями (tendances), инстинктами (instincts), либидо. Так что такое Es? С чем мы можем сравнить его в машинной установке? С самой машинной установкой, об устройстве которой абсолютно ничего не известно. Если некий персонаж, далёкий от техники, увидит её, он подумает, что, вероятно, некий демон течения предаётся внутри шалостям и трансформирует воду в свет или силу.
Es является в субъекте тем, что посредством сообщения от большого Другого способно обратиться в Я (Je). Вот наилучшее определение.
Если анализ нечто доносит до нас, то как раз это: Es не является ни грубой реальностью, ни только лишь тем, что было до того; Es уже организовано и артикулировано так же, как организовано и артикулировано означающее. Это также справедливо и для того, что производит машина. Вся сила в ней может быть трансформирована, с той лишь разницей, что она не только трансформируется, но также может быть и накоплена. Поэтому важное значение имеет здесь тот факт, что речь идёт о гидроэлектростанции, а не просто о гидромеханической установке, например. Конечно, вся эта энергия была и до того, тем не менее никто не оспорит, что строительство гидроэлектростанции ощутимо меняет не только ландшафт, но и реальное.
Машинная установка появилась не из-за вмешательства Святого Духа. Вернее, именно из-за вмешательства Святого Духа она и появилась, и вы ошибаетесь, если подвергаете это сомнению.
Именно для того, чтобы напомнить вам о присутствии Святого Духа, абсолютно необходимого для продвижения в нашем понимании анализа, я предлагаю вам теорию означающего и означаемого.
2
Подойдём к этому вопросу на другом уровне, на уровне принципа реальности и принципа удовольствия.
Каким образом противопоставляются две системы, первичная и вторичная? Принимая во внимание только то, что определяет их для внешнего наблюдателя, можно сказать следующее: происходящее на уровне первичной системы регулируется принципом удовольствия, то есть тенденцией возвращения к покою, тогда как происходящее на уровне системы реальности определяется тем, что заставляет субъекта в реальности - как мы называем её, внешней - идти в обход. Так вот, в этих определениях ничто не создаёт ощущения того, что следует из конфликтного и диалектического применения этих понятий на практике, в вашем конкретном ежедневном опыте. Вы всегда прибегаете к использованию этих систем, лишь снабдив их каким-то своим, особенным указателем, который для каждого является его собственным парадоксом, часто ускользающим, но всегда отражающимся на практике.
Парадокс принципа удовольствия состоит в следующем. Несомненно, происходящее на его уровне представляется связанным с вышеуказанным законом возвращения к покою, тенденцией возвращения к покою. Тем не менее Фрейд ввёл и чётко сформулировал понятие либидо именно по той причине, что удовольствие, Lust, имеет двусмысленное значение в немецком, он подчёркивает, что это одновременно и удовольствие, и вожделение, то есть состояние как успокоения, так и эрекции. Эти два термина выглядят противоречащими друг другу, что не мешает им с успехом переплетаться в опыте.
Не меньший парадокс обнаруживается на уровне реальности. Как и в принципе удовольствия, где присутствует, с одной стороны, возврат к покою, но с другой, вожделение, также существует не только та реальность, о которую мы набиваем шишки, но и реальность манёвра, обходного пути.
Это приобретёт гораздо более ясные очертания, если мы поставим в соответствие с существованием двух принципов два термина, которые их свяжут и позволят сохранить их диалектическое взаимодействие, а именно два уровня речи, которые отражены в понятиях означающего и означаемого.
Это также справедливо и для того, что производит машина. Вся сила в ней может быть трансформирована, с той лишь разницей, что она не только трансформируется, но также может быть и накоплена. Поэтому важное значение имеет здесь тот факт, что речь идёт о гидроэлектростанции, а не просто о гидромеханической установке, например. Конечно, вся эта энергия была и до того, тем не менее никто не оспорит, что строительство гидроэлектростанции ощутимо меняет не только ландшафт, но и реальное.
Машинная установка появилась не из-за вмешательства Святого Духа. Вернее, именно из-за вмешательства Святого Духа она и появилась, и вы ошибаетесь, если подвергаете это сомнению.
Именно для того, чтобы напомнить вам о присутствии Святого Духа, абсолютно необходимого для продвижения в нашем понимании анализа, я предлагаю вам теорию означающего и означаемого.
2
Подойдём к этому вопросу на другом уровне, на уровне принципа реальности и принципа удовольствия.
Каким образом противопоставляются две системы, первичная и вторичная? Принимая во внимание только то, что определяет их для внешнего наблюдателя, можно сказать следующее: происходящее на уровне первичной системы регулируется принципом удовольствия, то есть тенденцией возвращения к покою, тогда как происходящее на уровне системы реальности определяется тем, что заставляет субъекта в реальности - как мы называем её, внешней - идти в обход. Так вот, в этих определениях ничто не создаёт ощущения того, что следует из конфликтного и диалектического применения этих понятий на практике, в вашем конкретном ежедневном опыте. Вы всегда прибегаете к использованию этих систем, лишь снабдив их каким-то своим, особенным указателем, который для каждого является его собственным парадоксом, часто ускользающим, но всегда отражающимся на практике.
Парадокс принципа удовольствия состоит в следующем. Несомненно, происходящее на его уровне представляется связанным с вышеуказанным законом возвращения к покою, тенденцией возвращения к покою. Тем не менее Фрейд ввёл и чётко сформулировал понятие либидо именно по той причине, что удовольствие, Lust, имеет двусмысленное значение в немецком, он подчёркивает, что это одновременно и удовольствие, и вожделение, то есть состояние как успокоения, так и эрекции. Эти два термина выглядят противоречащими друг другу, что не мешает им с успехом переплетаться в опыте.
Не меньший парадокс обнаруживается на уровне реальности. Как и в принципе удовольствия, где присутствует, с одной стороны, возврат к покою, но с другой, вожделение, также существует не только та реальность, о которую мы набиваем шишки, но и реальность манёвра, обходного пути.
Это приобретёт гораздо более ясные очертания, если мы поставим в соответствие с существованием двух принципов два термина, которые их свяжут и позволят сохранить их диалектическое взаимодействие, а именно два уровня речи, которые отражены в понятиях означающего и означаемого. Я уже установил в своего рода параллельную суперпозицию поток означающего, то есть конкретную, например, речь, и поток означаемого, в виде и в качестве которого предстаёт непрерывность потока переживаний в субъекте и между субъектами.
СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЕЙ
------------ означающее
------------- означаемое
Ещё большая ценность такого представления заключается в том, что невозможно что-либо понять не только в речи и языке, но и в феноменах аналитического опыта, если хотя бы не допустить принципиальную возможность постоянного скольжения означаемых под означающими и означающих над означаемыми. Ничто в аналитическом опыте не объясняется иным образом, кроме как посредством этой основополагающей схемы.
В соответствии с этой схемой, означающее одной вещи может в любое мгновение стать означающим другой вещи, и всё то, что представлено в вожделении, психической тенденции, либидо субъекта всегда несёт на себе отпечаток означающего. Это не исключает, что во влечении или вожделении нет чего-то другого, никак не отмеченного отпечатком означающего. Означающее вводится в естественное движение, в желание или в demand. Последний термин используют в английском языке для выражения примитивного аппетита в смысле требования, хотя аппетит как таковой не отмечен законами означающего. Таким образом, мы можем сказать, что вожделение становится означаемым.
Вмешательство означающего поднимает вопрос, который тотчас заставил меня напомнить вам о присутствии Святого Духа в том виде, в котором он предстал для нас в позапрошлом году непосредственно в мысли и в учении Фрейда. Святой Дух есть пришествие означающего в мир.
Это именно то, что Фрейд совершенно определённо вкладывает в термин инстинкта смерти. Речь идёт о пределе означаемого, который никогда не преодолевается ни одним живым существом или даже вовсе никогда не достижим, кроме исключительных случаев, вероятно, мифических, поскольку мы встречаем свидетельства о нем только в описаниях определённого философского опыта высшего порядка. Тем не менее этот виртуальный предел размышления человека о жизни позволяет ему обнаружить смерть как абсолютное условие, неотвратимую данность его существования, как выражается Хайдеггер. Отношения человека с означающим в их совокупности теснейшим образом связаны с этой перспективой упразднения, заключения в скобки всего переживаемого.
То, что находится в основе существования означающего, его присутствия в мире, показано на нашей схеме как действующая поверхность означающего, в которой это последнее отображает то, что мы можем назвать последним словом означаемого, то есть жизни, переживания эмоциональных и либидинальных течений. Речь идёт о смерти - она-то и является основанием и поддержкой вмешательства Святого Духа, которым исполнено существование означающего.
Я уже установил в своего рода параллельную суперпозицию поток означающего, то есть конкретную, например, речь, и поток означаемого, в виде и в качестве которого предстаёт непрерывность потока переживаний в субъекте и между субъектами.
СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЕЙ
------------ означающее
------------- означаемое
Ещё большая ценность такого представления заключается в том, что невозможно что-либо понять не только в речи и языке, но и в феноменах аналитического опыта, если хотя бы не допустить принципиальную возможность постоянного скольжения означаемых под означающими и означающих над означаемыми. Ничто в аналитическом опыте не объясняется иным образом, кроме как посредством этой основополагающей схемы.
В соответствии с этой схемой, означающее одной вещи может в любое мгновение стать означающим другой вещи, и всё то, что представлено в вожделении, психической тенденции, либидо субъекта всегда несёт на себе отпечаток означающего. Это не исключает, что во влечении или вожделении нет чего-то другого, никак не отмеченного отпечатком означающего. Означающее вводится в естественное движение, в желание или в demand. Последний термин используют в английском языке для выражения примитивного аппетита в смысле требования, хотя аппетит как таковой не отмечен законами означающего. Таким образом, мы можем сказать, что вожделение становится означаемым.
Вмешательство означающего поднимает вопрос, который тотчас заставил меня напомнить вам о присутствии Святого Духа в том виде, в котором он предстал для нас в позапрошлом году непосредственно в мысли и в учении Фрейда. Святой Дух есть пришествие означающего в мир.
Это именно то, что Фрейд совершенно определённо вкладывает в термин инстинкта смерти. Речь идёт о пределе означаемого, который никогда не преодолевается ни одним живым существом или даже вовсе никогда не достижим, кроме исключительных случаев, вероятно, мифических, поскольку мы встречаем свидетельства о нем только в описаниях определённого философского опыта высшего порядка. Тем не менее этот виртуальный предел размышления человека о жизни позволяет ему обнаружить смерть как абсолютное условие, неотвратимую данность его существования, как выражается Хайдеггер. Отношения человека с означающим в их совокупности теснейшим образом связаны с этой перспективой упразднения, заключения в скобки всего переживаемого.
То, что находится в основе существования означающего, его присутствия в мире, показано на нашей схеме как действующая поверхность означающего, в которой это последнее отображает то, что мы можем назвать последним словом означаемого, то есть жизни, переживания эмоциональных и либидинальных течений. Речь идёт о смерти - она-то и является основанием и поддержкой вмешательства Святого Духа, которым исполнено существование означающего.

 Образ эрегированного фаллоса - вот что является основополагающим. Он единственный. Нет другого выбора, только образ мужественности или кастрация.
Сейчас я не стараюсь подтвердить правоту Фрейда. Я лишь указываю на то, что здесь располагается исходный пункт его реконструкции развития. Мы можем отправиться на поиски натуралистических оснований для этого аналитического открытия, что, собственно, и происходит во всём, что предшествует Трём очеркам по теории сексуальности. Но в анализе подчёркивается именно то, что опыт обнаруживает для нас массу непредвиденных событий, которые весьма далеки от того, чтобы быть такими уж естественными.
То, что я полагаю здесь в качестве принципа аналитического опыта, касается существования уже внедрённого и уже структурированного означающего. Машинная установка уже построена и функционирует. И не вы её построили. Она представляет собой язык, функционирующий, покуда вы себя помните. Поскольку за его пределами вы буквально не можете себя вспомнить, если говорить об истории человечества в целом. С тех пор, как существуют функционирующие означающие, психика субъектов организуется собственной игрой означающих. Следовательно, Es, которое вы собираетесь разыскать в глубинах, не столь уж естественно - оно ещё менее
естественно, нежели образы. Откровенно говоря, появление в природе гидроэлектростанции, построенной благодаря вмешательству Святого Духа,
противоречит самому понятию природы.
Скандальный характер такого положения дел - вот на чём зиждется аналитическая позиция. Когда мы обращаемся к субъекту, мы знаем, что в природе уже есть нечто, представляющее собой его Es, которое структурировано в соответствии со способом артикуляции означающих, накладывающей на всё, что происходит с этим субъектом, свою печать, сообщающей ему свои противоречия, свое глубокое отличие от природных коаптаций.
Я счёл своим долгом напомнить те позиции, которые представляются мне основополагающими. За означающим я располагаю на схеме эту последнюю реальность, которая полностью скрыта для означаемого, равно как и для использования означающего - возможность того, что ничто из того, что есть в означаемом, не существует. Инстинкт смерти и есть на самом деле обнаружение нами невозможности и обречённости жизни. Понятия такого рода не имеют ничего общего с какой-либо жизнедеятельностью, поскольку жизнедеятельность состоит именно в том, чтобы пройти в существовании свой путь, как все те, кто предшествовал нам по линии рода.
Существование означающего не связано ни с чем другим, кроме факта, поскольку это именно факт, что существует дискурс, и дискурс этот введён в мир на фоне, представления о котором у нас остаются довольно смутными - фоне, о котором Фрейд, опираясь на аналитический опыт, сказал лишь одно: означающее, сказал он, функционирует на фоне определённого опыта смерти.
Опыт, о котором идёт речь, не имеет ничего общего с чем-либо переживаемым. Наша работа с текстом По ту сторону принципа удовольствия, проделанная нами два года назад, показала, что речь идёт ни о чём ином, как о реконструкции, которая опирается на парадоксальные черты опыта, именно на то необъяснимое явление, что означивающая деятельность субъекта волей-неволей состоит в том, что он занят бесконечным повторением чего-то для себя смертоносного.
Образ эрегированного фаллоса - вот что является основополагающим. Он единственный. Нет другого выбора, только образ мужественности или кастрация.
Сейчас я не стараюсь подтвердить правоту Фрейда. Я лишь указываю на то, что здесь располагается исходный пункт его реконструкции развития. Мы можем отправиться на поиски натуралистических оснований для этого аналитического открытия, что, собственно, и происходит во всём, что предшествует Трём очеркам по теории сексуальности. Но в анализе подчёркивается именно то, что опыт обнаруживает для нас массу непредвиденных событий, которые весьма далеки от того, чтобы быть такими уж естественными.
То, что я полагаю здесь в качестве принципа аналитического опыта, касается существования уже внедрённого и уже структурированного означающего. Машинная установка уже построена и функционирует. И не вы её построили. Она представляет собой язык, функционирующий, покуда вы себя помните. Поскольку за его пределами вы буквально не можете себя вспомнить, если говорить об истории человечества в целом. С тех пор, как существуют функционирующие означающие, психика субъектов организуется собственной игрой означающих. Следовательно, Es, которое вы собираетесь разыскать в глубинах, не столь уж естественно - оно ещё менее
естественно, нежели образы. Откровенно говоря, появление в природе гидроэлектростанции, построенной благодаря вмешательству Святого Духа,
противоречит самому понятию природы.
Скандальный характер такого положения дел - вот на чём зиждется аналитическая позиция. Когда мы обращаемся к субъекту, мы знаем, что в природе уже есть нечто, представляющее собой его Es, которое структурировано в соответствии со способом артикуляции означающих, накладывающей на всё, что происходит с этим субъектом, свою печать, сообщающей ему свои противоречия, свое глубокое отличие от природных коаптаций.
Я счёл своим долгом напомнить те позиции, которые представляются мне основополагающими. За означающим я располагаю на схеме эту последнюю реальность, которая полностью скрыта для означаемого, равно как и для использования означающего - возможность того, что ничто из того, что есть в означаемом, не существует. Инстинкт смерти и есть на самом деле обнаружение нами невозможности и обречённости жизни. Понятия такого рода не имеют ничего общего с какой-либо жизнедеятельностью, поскольку жизнедеятельность состоит именно в том, чтобы пройти в существовании свой путь, как все те, кто предшествовал нам по линии рода.
Существование означающего не связано ни с чем другим, кроме факта, поскольку это именно факт, что существует дискурс, и дискурс этот введён в мир на фоне, представления о котором у нас остаются довольно смутными - фоне, о котором Фрейд, опираясь на аналитический опыт, сказал лишь одно: означающее, сказал он, функционирует на фоне определённого опыта смерти.
Опыт, о котором идёт речь, не имеет ничего общего с чем-либо переживаемым. Наша работа с текстом По ту сторону принципа удовольствия, проделанная нами два года назад, показала, что речь идёт ни о чём ином, как о реконструкции, которая опирается на парадоксальные черты опыта, именно на то необъяснимое явление, что означивающая деятельность субъекта волей-неволей состоит в том, что он занят бесконечным повторением чего-то для себя смертоносного. И наоборот, подобно тому, как смерть отражается в глубине означаемого, точно так же означающее заимствует целый ряд элементов, которые связаны с тем, что глубоко укоренено в означаемом, а именно с телом. Так же, как в природе уже существуют определённые резервуары, в означаемом есть определённое количество элементов, которые даны в опыте в качестве телесных происшествий, но оказываются заточёнными в означающем и становятся его, если можно так выразиться, первыми орудиями (armes). Речь идёт о неуловимых и в тоже время неустранимых вещах, в число которых входит такое фаллическое понятие, как обыкновенная эрекция. Одним её примером можно считать расположенный вертикально камень, другим можно считать прямостоящее положение тела человека. Таким образом, определённые элементы, связанные непосредственно со строением тела, а не просто с телесными переживаниями, образуют первые элементы, которые заимствуются опытом, но при этом полностью трансформируются в процессе символизации. Символизация переводит их в пространство означающего, характер которого определяется артикуляцией в соответствии с логическими законами.
Если я недавно заставлял вас играть в чёт и нечет, рассматривая инстинкт смерти, и учил вас писать ряды плюсов и минусов по двойкам и тройкам во временной последовательности, то делал это для того, чтобы напомнить вам об этих логических законах, которые являются законами означающего, действующими, конечно, неявно, но неотвратимо.
Вернёмся к тому, на чём мы остановились в прошлый раз, а именно к тому, что происходит на уровне аналитического опыта.
3
Главные, порождающие динамику, объектные отношения заданы нехваткой. На уровне аналитического опыта всякий Findung (поиск) объекта, говорит нам Фрейд, является его Wiederbefindung (новым, повторным поиском).
Не стоит читать Три очерка по теории сексуальности, как если бы это была работа, написанная за один присест. Конечно, не было такой книги Фрейда, которая бы не подверглась пересмотру, он очень часто вносил изменения в тексты, все они содержат дополнения. Но Traumdeutung, например, был дополнен без потерь первоначального содержания. И напротив, если вы прочитаете первое издание Трёх очерков, вы не встретите ничего из той книги, которую вы обычно читаете с добавлениями, сделанными в основном в 1915 году, то есть через несколько лет после выхода первого издания и уже после Einführung des Narzissmus. Это первое, что вы должны иметь в виду, изучая этот текст. Всё, что касается догенитального развития либидо, поддаётся осмыслению только после появления теории нарциссизма, и пока не была пересмотрена концепция детских сексуальных теорий с их главными недоразумениями, состоявшими в том, что ребёнок не имеет никакого понятия ни о вагине, ни о сперме, ни о продолжении рода. В этом была их основная ошибка. Понятие фаллической фазы будет прорабатываться после выхода последнего издания Трёх очерков в статье 1923 года Детская генитальная организация. Этот решающий для развития момент генитальности остается за пределами Трёх очерков. Но если они не в полной мере проясняют весь вопрос, продвижение в исследовании догенитальных
И наоборот, подобно тому, как смерть отражается в глубине означаемого, точно так же означающее заимствует целый ряд элементов, которые связаны с тем, что глубоко укоренено в означаемом, а именно с телом. Так же, как в природе уже существуют определённые резервуары, в означаемом есть определённое количество элементов, которые даны в опыте в качестве телесных происшествий, но оказываются заточёнными в означающем и становятся его, если можно так выразиться, первыми орудиями (armes). Речь идёт о неуловимых и в тоже время неустранимых вещах, в число которых входит такое фаллическое понятие, как обыкновенная эрекция. Одним её примером можно считать расположенный вертикально камень, другим можно считать прямостоящее положение тела человека. Таким образом, определённые элементы, связанные непосредственно со строением тела, а не просто с телесными переживаниями, образуют первые элементы, которые заимствуются опытом, но при этом полностью трансформируются в процессе символизации. Символизация переводит их в пространство означающего, характер которого определяется артикуляцией в соответствии с логическими законами.
Если я недавно заставлял вас играть в чёт и нечет, рассматривая инстинкт смерти, и учил вас писать ряды плюсов и минусов по двойкам и тройкам во временной последовательности, то делал это для того, чтобы напомнить вам об этих логических законах, которые являются законами означающего, действующими, конечно, неявно, но неотвратимо.
Вернёмся к тому, на чём мы остановились в прошлый раз, а именно к тому, что происходит на уровне аналитического опыта.
3
Главные, порождающие динамику, объектные отношения заданы нехваткой. На уровне аналитического опыта всякий Findung (поиск) объекта, говорит нам Фрейд, является его Wiederbefindung (новым, повторным поиском).
Не стоит читать Три очерка по теории сексуальности, как если бы это была работа, написанная за один присест. Конечно, не было такой книги Фрейда, которая бы не подверглась пересмотру, он очень часто вносил изменения в тексты, все они содержат дополнения. Но Traumdeutung, например, был дополнен без потерь первоначального содержания. И напротив, если вы прочитаете первое издание Трёх очерков, вы не встретите ничего из той книги, которую вы обычно читаете с добавлениями, сделанными в основном в 1915 году, то есть через несколько лет после выхода первого издания и уже после Einführung des Narzissmus. Это первое, что вы должны иметь в виду, изучая этот текст. Всё, что касается догенитального развития либидо, поддаётся осмыслению только после появления теории нарциссизма, и пока не была пересмотрена концепция детских сексуальных теорий с их главными недоразумениями, состоявшими в том, что ребёнок не имеет никакого понятия ни о вагине, ни о сперме, ни о продолжении рода. В этом была их основная ошибка. Понятие фаллической фазы будет прорабатываться после выхода последнего издания Трёх очерков в статье 1923 года Детская генитальная организация. Этот решающий для развития момент генитальности остается за пределами Трёх очерков. Но если они не в полной мере проясняют весь вопрос, продвижение в исследовании догенитальных отношений как таковых можно объяснить одной лишь важностью сексуальных теорий. То же самое касается и теории либидо как таковой.
Глава под названием Теория либидо посвящена непосредственно понятию нарциссизма. Сама идея теории либидо появляется, когда Фрейд говорит нам о понятии Ich-libido как о резервуаре, наполненном либидо объектов, по поводу этого резервуара он добавляет - мы способны лишь бросить беглый взгляд поверх его стен. В целом, именно это понятие нарциссической напряжённости, основанное на отношениях человека с образом, вводит идею общей либидинальной меры и идею резервуара, за счёт которого устанавливаются любые объектные отношения в их фундаментально воображаемом качестве. Другими словами, одним из принципиально важных переходных пунктов является зачарованность субъекта образом, который в конечном счёте никогда не является более чем его собственным образом. Вот последнее слово нарциссической теории.
Если в рамках определённой аналитической ориентации мы впоследствии смогли распознать организующее значение фантазмов, то произошло это постольку, поскольку мы не полагались на предустановленную гармонию и природную совместимость объекта и субъекта. Уже в первой, исходной версии Трёх очерков показано, что развитие инфантильной сексуальности происходит ступенчато в два этапа. В латентный период, то есть в воспоминаниях, сопровождающих этот период, первый объект, а именно мать, сохраняется в памяти в определённом неизменном виде, который, как говорит Фрейд, неисправим в том смысле, что объект всегда будет только Wiedergefunden, вновь найденным объектом и будет отмечен характером первого объекта. Таким образом, всегда существует неустранимый, глубоко конфликтный раскол во вновь найденном объекте и в самом факте его повторного обнаружения, то есть всегда имеет место несоответствие (discordance) между вновь найденным объектом и объектом, который разыскивается. Вот понятие, исходя из которого вводится первая фрейдовская диалектика теории сексуальности.
Этот фундаментальный опыт предполагает, что в течение латентного периода объект сохраняется в памяти без ведома субъекта, то есть происходит означающая передача. Далее объект входит в несоответствие (discordance), играет разрушительную роль в любых последующих объектных отношениях субъекта. Именно в этом кадре в определённых артикуляциях и на определённых этапах развития раскрываются подлинно воображаемые функции. Всё, что предполагают догенитальные отношения, заключено в эти скобки и располагается на уровне воображаемого. Так в диалектику, которая в наших терминах прежде всего является диалектикой символического и реального, вводится слой воображаемого.
Введение воображаемого, ставшего с тех пор настолько преобладающим, начинается в статье о нарциссизме, формулируется в теории сексуальности только в 1915 году, а также в концепции фаллической фазы в 1920, но утверждается в настолько категорической манере, что с тех пор тревожит и погружает всё психоаналитическое сообщество в замешательство, так что именно отношение к Эдипу лежит в основе диалектики, именовавшейся тогда, заметьте, не доэдипальной, а догенитальной.
Термин доэдипальный появился при обсуждении женской сексуальности десять лет спустя. В 1920 году догенитальные отношения применялись для описания переживаний, которые подготавливают эдипальный опыт, но могут быть артикулированы только в этом последнем. Догенитальные отношения постигаемы
отношений как таковых можно объяснить одной лишь важностью сексуальных теорий. То же самое касается и теории либидо как таковой.
Глава под названием Теория либидо посвящена непосредственно понятию нарциссизма. Сама идея теории либидо появляется, когда Фрейд говорит нам о понятии Ich-libido как о резервуаре, наполненном либидо объектов, по поводу этого резервуара он добавляет - мы способны лишь бросить беглый взгляд поверх его стен. В целом, именно это понятие нарциссической напряжённости, основанное на отношениях человека с образом, вводит идею общей либидинальной меры и идею резервуара, за счёт которого устанавливаются любые объектные отношения в их фундаментально воображаемом качестве. Другими словами, одним из принципиально важных переходных пунктов является зачарованность субъекта образом, который в конечном счёте никогда не является более чем его собственным образом. Вот последнее слово нарциссической теории.
Если в рамках определённой аналитической ориентации мы впоследствии смогли распознать организующее значение фантазмов, то произошло это постольку, поскольку мы не полагались на предустановленную гармонию и природную совместимость объекта и субъекта. Уже в первой, исходной версии Трёх очерков показано, что развитие инфантильной сексуальности происходит ступенчато в два этапа. В латентный период, то есть в воспоминаниях, сопровождающих этот период, первый объект, а именно мать, сохраняется в памяти в определённом неизменном виде, который, как говорит Фрейд, неисправим в том смысле, что объект всегда будет только Wiedergefunden, вновь найденным объектом и будет отмечен характером первого объекта. Таким образом, всегда существует неустранимый, глубоко конфликтный раскол во вновь найденном объекте и в самом факте его повторного обнаружения, то есть всегда имеет место несоответствие (discordance) между вновь найденным объектом и объектом, который разыскивается. Вот понятие, исходя из которого вводится первая фрейдовская диалектика теории сексуальности.
Этот фундаментальный опыт предполагает, что в течение латентного периода объект сохраняется в памяти без ведома субъекта, то есть происходит означающая передача. Далее объект входит в несоответствие (discordance), играет разрушительную роль в любых последующих объектных отношениях субъекта. Именно в этом кадре в определённых артикуляциях и на определённых этапах развития раскрываются подлинно воображаемые функции. Всё, что предполагают догенитальные отношения, заключено в эти скобки и располагается на уровне воображаемого. Так в диалектику, которая в наших терминах прежде всего является диалектикой символического и реального, вводится слой воображаемого.
Введение воображаемого, ставшего с тех пор настолько преобладающим, начинается в статье о нарциссизме, формулируется в теории сексуальности только в 1915 году, а также в концепции фаллической фазы в 1920, но утверждается в настолько категорической манере, что с тех пор тревожит и погружает всё психоаналитическое сообщество в замешательство, так что именно отношение к Эдипу лежит в основе диалектики, именовавшейся тогда, заметьте, не доэдипальной, а догенитальной.
Термин доэдипальный появился при обсуждении женской сексуальности десять лет спустя. В 1920 году догенитальные отношения применялись для описания переживаний, которые подготавливают эдипальный опыт, но могут быть артикулированы только в этом последнем. Догенитальные отношения постигаемы только исходя из означающей артикуляции Эдипа. Образы и фантазмы, формирующие означающий материал догенитальных отношений, сами по себе приходят из опыта, который случается при контакте означающего и означаемого. Означающее частично заимствует свой материал в означаемом, в ряде живых, в действительности осуществляющихся в проживании взаимосвязей. Именно в последействии формируется это прошлое и обретает свою структуру воображаемая организация, предстающая перед нами прежде всего в своём парадоксальном характере. Более всего она не согласуется с идеей размеренного гармонического развития. Напротив, речь идёт о кризисном развитии, в котором уже с самого начала объекты, как мы их называем, различных периодов - орального, анального - уже принимаются за нечто другое, нежели то, чем они являются. Эти объекты уже обработаны означающим и подвержены операциям, чью означающую структуру от них уже не отмыслить.
Именно это описывает любой из терминов инкорпорации, которые их организуют, подчиняют и позволяют артикулировать.
Как организовать этот опыт? Как я сказал вам в прошлый раз, мы можем сделать это вокруг понятия нехватки объекта.
Касательно этой нехватки я показал вам три уровня, которые важно распознать каждый раз, когда имеет место кризис, встреча, успешный акт в регистре поиска объекта, который всегда сам по себе является критическим. Три эти уровня - кастрация, фрустрация, лишение. Формы нехватки, которая является структурной основой каждого из них, представляют собой вещи принципиально разные.
На последующих встречах мы установим точное местоположение, в котором пребывает современная теория и актуальная практика. Аналитики сегодня действительно переориентируют аналитический опыт на уровень фрустрации, пренебрегая понятием кастрации, тогда как оно, вместе с Эдипом, было исходным открытием Фрейда. На следующий раз я оставлю пример, который взял наугад из выпуска 3-4 Psychoanalytic Study of the Child, вышедшего в 1949 году, где есть доклад ученицы Анны Фрейд Мадам Шнурман.
Она непродолжительный период времени наблюдала случай фобии у одного ребёнка, переданного на попечение в Hamstead Nursery, лечебное заведение Анны Фрейд. Мы прочтём этот отчёт о наблюдении, один из тысячи других, и посмотрим, что мы сможем понять, а также попытаемся увидеть, что поняла та, кто пишет его с показательной точностью, которая не исключает использования обращения к заранее установленным категориям. Того, что она собрала, будет достаточно, чтобы мы составили представление о временной последовательности появления и исчезновения фобии, которую мы определим как воображаемое творение, оказавшееся на некоторое время в привилегированном положении и оказавшее целый ряд воздействий на поведение субъекта. Мы увидим, действительно ли автору удаётся сформулировать суть наблюдения, исходя из понятия фрустрации в актуальном смысле, связав её с лишением привилегированного объекта на той стадии развития, где субъект находится в момент возникновения вышеупомянутого лишения. Воздействия более или менее регрессивные - хотя в определенных случаях и прогрессивные, почему бы и нет? Но может ли такой феномен как фобия быть понят, исходя лишь из его места в определённой хронологической последовательности? Не лучше ли объяснить положение дел, обратившись к трём перечисленным мною терминам? Что же, мы это увидим.
только исходя из означающей артикуляции Эдипа. Образы и фантазмы, формирующие означающий материал догенитальных отношений, сами по себе приходят из опыта, который случается при контакте означающего и означаемого. Означающее частично заимствует свой материал в означаемом, в ряде живых, в действительности осуществляющихся в проживании взаимосвязей. Именно в последействии формируется это прошлое и обретает свою структуру воображаемая организация, предстающая перед нами прежде всего в своём парадоксальном характере. Более всего она не согласуется с идеей размеренного гармонического развития. Напротив, речь идёт о кризисном развитии, в котором уже с самого начала объекты, как мы их называем, различных периодов - орального, анального - уже принимаются за нечто другое, нежели то, чем они являются. Эти объекты уже обработаны означающим и подвержены операциям, чью означающую структуру от них уже не отмыслить.
Именно это описывает любой из терминов инкорпорации, которые их организуют, подчиняют и позволяют артикулировать.
Как организовать этот опыт? Как я сказал вам в прошлый раз, мы можем сделать это вокруг понятия нехватки объекта.
Касательно этой нехватки я показал вам три уровня, которые важно распознать каждый раз, когда имеет место кризис, встреча, успешный акт в регистре поиска объекта, который всегда сам по себе является критическим. Три эти уровня - кастрация, фрустрация, лишение. Формы нехватки, которая является структурной основой каждого из них, представляют собой вещи принципиально разные.
На последующих встречах мы установим точное местоположение, в котором пребывает современная теория и актуальная практика. Аналитики сегодня действительно переориентируют аналитический опыт на уровень фрустрации, пренебрегая понятием кастрации, тогда как оно, вместе с Эдипом, было исходным открытием Фрейда. На следующий раз я оставлю пример, который взял наугад из выпуска 3-4 Psychoanalytic Study of the Child, вышедшего в 1949 году, где есть доклад ученицы Анны Фрейд Мадам Шнурман.
Она непродолжительный период времени наблюдала случай фобии у одного ребёнка, переданного на попечение в Hamstead Nursery, лечебное заведение Анны Фрейд. Мы прочтём этот отчёт о наблюдении, один из тысячи других, и посмотрим, что мы сможем понять, а также попытаемся увидеть, что поняла та, кто пишет его с показательной точностью, которая не исключает использования обращения к заранее установленным категориям. Того, что она собрала, будет достаточно, чтобы мы составили представление о временной последовательности появления и исчезновения фобии, которую мы определим как воображаемое творение, оказавшееся на некоторое время в привилегированном положении и оказавшее целый ряд воздействий на поведение субъекта. Мы увидим, действительно ли автору удаётся сформулировать суть наблюдения, исходя из понятия фрустрации в актуальном смысле, связав её с лишением привилегированного объекта на той стадии развития, где субъект находится в момент возникновения вышеупомянутого лишения. Воздействия более или менее регрессивные - хотя в определенных случаях и прогрессивные, почему бы и нет? Но может ли такой феномен как фобия быть понят, исходя лишь из его места в определённой хронологической последовательности? Не лучше ли объяснить положение дел, обратившись к трём перечисленным мною терминам? Что же, мы это увидим. Я коротко напомню вам значение этих терминов. В кастрации налицо такая фундаментальная нехватка, расположенная в символической цепи, как долг. Во фрустрации нехватка подразумевается только на воображаемом плане, как воображаемый ущерб (dam). В лишении нехватка располагается непосредственно в реальном - это реальный предел или реальный провал.
Когда в разговоре о лишении речь идёт о нехватке в реальном, это означает, что располагается она не в субъекте. Для того, чтобы субъект получил доступ к лишению, нужно, чтобы реальное он представил себе таким, каким оно в действительности не является, то есть нужно, чтобы реальное уже было символизировано. Такое представление лишения подразумевает уже установленное прежде символическое, которое появляется прежде, чем мы можем говорить о предполагаемых вещах. Таким образом, осмысленное лишение опровергает концепцию генезиса, которую нам обычно предлагают для описания психического развития.
В текущих психоаналитических представлениях о происхождении психической жизни всё происходит как во сне идеалиста - каждый субъект, как паук, должен вытянуть из себя нити паутины и завернуться в их кокон, и всё понимание мира он должен вывести из себя и своих образов. Так, мы видим субъекта, источающего из себя, во имя какого-то предначертанного ему созревания, вереницы отношений с объектами, которые станут объектами нашего человеческого мира. Мы предаёмся такому же упражнению, поскольку совершенно очевидно, что анализ располагает для этого всеми возможностями. Но происходит так потому, что в опыте мы желаем придерживаться только этого аспекта и всякий раз, когда запутываемся, полагаем, что имеем дело лишь с трудностями языка, тогда как это проявление нашего заблуждения. Осознание телесности, образ тела как означающее, хорошо это показывает.
Проблема объектных отношений может быть правильно сформулирована только в рамках чётко заданных положений, которые следует принять за основу для понимания. Первое из этих положений заключается в том, что нехватка является структурой, определяющей мир человеческих отношений с объектом. И нам следует иметь представление о различных этажах этой нехватки в субъекте - на уровне символической цепи, которая ускользает от субъекта как в своём начале, так и в конце -на уровне фрустрации, где она располагается в им самим осознаваемом проживании -но также необходимо рассматривать эту нехватку в реальном, поскольку, когда мы говорим здесь о лишении, речь не идёт о том лишении, которое ощущается.
Лишение является тем центральным пунктом, в котором мы нуждаемся. К этому понятию обращаются повсеместно, но в определённый момент идут на ухищрение, как делает это Джонс, превращая лишение в эквивалент фрустрации. Лишение располагается в реальном, полностью за пределами субъекта. Для того, чтобы субъекта постигло лишение, нужно, чтобы он прежде символизировал реальное. Как субъект приходит к тому, чтобы его символизировать? Каким образом фрустрация вводит символический порядок? Вот вопрос, который мы поднимаем, и мы увидим, что субъект не является ни изолированным, ни автономным и не является тем, кто вводит символический порядок.
Поразительно, что вчера вечером никто не отметил важное замечание Мадам Дольто о том, что, по её мнению, фобия появляется только у детей одного или другого пола, чьи матери имели трудности в отношениях с их, матерей, родителями противоположного пола. Вот положение, позволяющее убедительно обосновать
Я коротко напомню вам значение этих терминов. В кастрации налицо такая фундаментальная нехватка, расположенная в символической цепи, как долг. Во фрустрации нехватка подразумевается только на воображаемом плане, как воображаемый ущерб (dam). В лишении нехватка располагается непосредственно в реальном - это реальный предел или реальный провал.
Когда в разговоре о лишении речь идёт о нехватке в реальном, это означает, что располагается она не в субъекте. Для того, чтобы субъект получил доступ к лишению, нужно, чтобы реальное он представил себе таким, каким оно в действительности не является, то есть нужно, чтобы реальное уже было символизировано. Такое представление лишения подразумевает уже установленное прежде символическое, которое появляется прежде, чем мы можем говорить о предполагаемых вещах. Таким образом, осмысленное лишение опровергает концепцию генезиса, которую нам обычно предлагают для описания психического развития.
В текущих психоаналитических представлениях о происхождении психической жизни всё происходит как во сне идеалиста - каждый субъект, как паук, должен вытянуть из себя нити паутины и завернуться в их кокон, и всё понимание мира он должен вывести из себя и своих образов. Так, мы видим субъекта, источающего из себя, во имя какого-то предначертанного ему созревания, вереницы отношений с объектами, которые станут объектами нашего человеческого мира. Мы предаёмся такому же упражнению, поскольку совершенно очевидно, что анализ располагает для этого всеми возможностями. Но происходит так потому, что в опыте мы желаем придерживаться только этого аспекта и всякий раз, когда запутываемся, полагаем, что имеем дело лишь с трудностями языка, тогда как это проявление нашего заблуждения. Осознание телесности, образ тела как означающее, хорошо это показывает.
Проблема объектных отношений может быть правильно сформулирована только в рамках чётко заданных положений, которые следует принять за основу для понимания. Первое из этих положений заключается в том, что нехватка является структурой, определяющей мир человеческих отношений с объектом. И нам следует иметь представление о различных этажах этой нехватки в субъекте - на уровне символической цепи, которая ускользает от субъекта как в своём начале, так и в конце -на уровне фрустрации, где она располагается в им самим осознаваемом проживании -но также необходимо рассматривать эту нехватку в реальном, поскольку, когда мы говорим здесь о лишении, речь не идёт о том лишении, которое ощущается.
Лишение является тем центральным пунктом, в котором мы нуждаемся. К этому понятию обращаются повсеместно, но в определённый момент идут на ухищрение, как делает это Джонс, превращая лишение в эквивалент фрустрации. Лишение располагается в реальном, полностью за пределами субъекта. Для того, чтобы субъекта постигло лишение, нужно, чтобы он прежде символизировал реальное. Как субъект приходит к тому, чтобы его символизировать? Каким образом фрустрация вводит символический порядок? Вот вопрос, который мы поднимаем, и мы увидим, что субъект не является ни изолированным, ни автономным и не является тем, кто вводит символический порядок.
Поразительно, что вчера вечером никто не отметил важное замечание Мадам Дольто о том, что, по её мнению, фобия появляется только у детей одного или другого пола, чьи матери имели трудности в отношениях с их, матерей, родителями противоположного пола. Вот положение, позволяющее убедительно обосновать наличие ещё чего-то в отношениях матери и ребёнка, именно поэтому я предложил трио: мать - ребёнок - фаллос.
У матери всегда, кроме ребёнка, есть нужда в фаллосе, который ребёнок более или менее символизирует и воплощает. Сам ребёнок, находящийся в отношениях с матерью, ничего об этом не знает. Когда мы вчера вечером говорили об образе тела, обсуждая детей, вы должны были заметить одну вещь - если этот образ тела действительно и есть ребёнок, больше того, если он ребёнку доступен, означает ли это, что мать видит своего ребёнка именно так? Такой вопрос не был задан.
Возникает и другой вопрос: в какой момент ребёнок способен осознать, что мать желает, насыщает и удовлетворяет в нём свой собственный фаллический образ? Каким образом ребёнок получает доступ к этому элементу отношений? Осуществляется ли это в порядке непосредственной передачи или даже проекции? Не предполагает ли это, что любые отношения между субъектами располагаются в том же порядке, что отношения Мадам Дольто с её субъектом? Я удивлён, что никто не спросил у неё, есть ли кто-то, кроме неё, кто видит все эти образы тела, есть ли другие аналитики её школы, мужчины и женщины, кто-нибудь, кто их тоже видит? Вообще-то, это важный момент.
То обстоятельство, что для матери ребёнок является далеко не просто ребёнком в силу того, что он ещё и фаллос, учреждает воображаемый диссонанс, по отношению к которому возникает вопрос, каким образом ребёнок, будь то мальчик или девочка, к нему подводится и в него вводится. Это то, что доступно наблюдению в практике. Определённые моменты, которые проясняются в опыте, показывают нам, например, что ребёнок получает туда доступ только в период символизации, но в некоторых случаях он постигает воображаемую утрату (dam) напрямую, не свою собственную, но ту, которую испытывает мать в результате лишения фаллоса. Является ли это воображаемым, которое отражается в символическом? Или, наоборот, это символический элемент, который проявляется в воображаемом? Вот те поворотные пункты, в отношении которых мы задаёмся важнейшим для развития фобии вопросом.
Чтобы не оставлять вас на сухом пайке, я немного проясню ситуацию и скажу вам, что в случае тройственной схемы матери, ребенка и фаллоса дело касается фетишизма. Тогда как фобия является другим вопросом, который, безусловно, ведёт нас дальше.
наличие ещё чего-то в отношениях матери и ребёнка, именно поэтому я предложил трио: мать - ребёнок - фаллос.
У матери всегда, кроме ребёнка, есть нужда в фаллосе, который ребёнок более или менее символизирует и воплощает. Сам ребёнок, находящийся в отношениях с матерью, ничего об этом не знает. Когда мы вчера вечером говорили об образе тела, обсуждая детей, вы должны были заметить одну вещь - если этот образ тела действительно и есть ребёнок, больше того, если он ребёнку доступен, означает ли это, что мать видит своего ребёнка именно так? Такой вопрос не был задан.
Возникает и другой вопрос: в какой момент ребёнок способен осознать, что мать желает, насыщает и удовлетворяет в нём свой собственный фаллический образ? Каким образом ребёнок получает доступ к этому элементу отношений? Осуществляется ли это в порядке непосредственной передачи или даже проекции? Не предполагает ли это, что любые отношения между субъектами располагаются в том же порядке, что отношения Мадам Дольто с её субъектом? Я удивлён, что никто не спросил у неё, есть ли кто-то, кроме неё, кто видит все эти образы тела, есть ли другие аналитики её школы, мужчины и женщины, кто-нибудь, кто их тоже видит? Вообще-то, это важный момент.
То обстоятельство, что для матери ребёнок является далеко не просто ребёнком в силу того, что он ещё и фаллос, учреждает воображаемый диссонанс, по отношению к которому возникает вопрос, каким образом ребёнок, будь то мальчик или девочка, к нему подводится и в него вводится. Это то, что доступно наблюдению в практике. Определённые моменты, которые проясняются в опыте, показывают нам, например, что ребёнок получает туда доступ только в период символизации, но в некоторых случаях он постигает воображаемую утрату (dam) напрямую, не свою собственную, но ту, которую испытывает мать в результате лишения фаллоса. Является ли это воображаемым, которое отражается в символическом? Или, наоборот, это символический элемент, который проявляется в воображаемом? Вот те поворотные пункты, в отношении которых мы задаёмся важнейшим для развития фобии вопросом.
Чтобы не оставлять вас на сухом пайке, я немного проясню ситуацию и скажу вам, что в случае тройственной схемы матери, ребенка и фаллоса дело касается фетишизма. Тогда как фобия является другим вопросом, который, безусловно, ведёт нас дальше.

 фаллосом и матерью. До какой степени он вовлекается в неё сам? Эти отношения матери с фаллосом - открываются ли они для ребёнка спонтанно и непосредственно? Всё это происходит, когда ребёнок просто смотрит на свою мать и вдруг понимает, что она желает фаллос? Выглядит так, что нет. Мы к этому вернёмся.
Развитие фобии происходит в совершенно другом измерении. Она не соотносится с вышеупомянутой связью. Она предлагает другой способ решения сложной проблемы, возникающей в отношениях ребёнка и матери. Как я показал вам в прошлом году, для образования этой тройки терминов необходимо замкнутое пространство, уклад символического мира, называемый отцом. Так вот, фобия скорее относится к этому порядку. Она подразумевает эту взаимосвязь. В определённый, особенно критический момент, когда никаким другим образом решить проблему не удаётся, фобия производит крик (appel) о помощи, воззвание к единственному в своём роде символическому элементу.
В чём заключается его единственность? Скажем так, он всегда проявляет себя как чрезвычайно символический, то есть как чрезвычайно далёкий от воображаемого элемент. В момент, когда он призывается на помощь, чтобы поддержать жизненно важную целостность, попавшую под угрозу со стороны зияния, образованного появлением фаллоса между матерью и ребёнком, элемент, который появляется в фобии, имеет подлинно мифический характер.
5 декабря 1956
фаллосом и матерью. До какой степени он вовлекается в неё сам? Эти отношения матери с фаллосом - открываются ли они для ребёнка спонтанно и непосредственно? Всё это происходит, когда ребёнок просто смотрит на свою мать и вдруг понимает, что она желает фаллос? Выглядит так, что нет. Мы к этому вернёмся.
Развитие фобии происходит в совершенно другом измерении. Она не соотносится с вышеупомянутой связью. Она предлагает другой способ решения сложной проблемы, возникающей в отношениях ребёнка и матери. Как я показал вам в прошлом году, для образования этой тройки терминов необходимо замкнутое пространство, уклад символического мира, называемый отцом. Так вот, фобия скорее относится к этому порядку. Она подразумевает эту взаимосвязь. В определённый, особенно критический момент, когда никаким другим образом решить проблему не удаётся, фобия производит крик (appel) о помощи, воззвание к единственному в своём роде символическому элементу.
В чём заключается его единственность? Скажем так, он всегда проявляет себя как чрезвычайно символический, то есть как чрезвычайно далёкий от воображаемого элемент. В момент, когда он призывается на помощь, чтобы поддержать жизненно важную целостность, попавшую под угрозу со стороны зияния, образованного появлением фаллоса между матерью и ребёнком, элемент, который появляется в фобии, имеет подлинно мифический характер.
5 декабря 1956
 согласно принципу удовольствия, цель психической тенденции (tendence) заключается в том, чтобы достичь удовлетворения.
То есть понятие артикулировано таким образом, что о существовании предустановленной гармонии между объектом и психической тенденцией не может быть и речи. Объект оказывается непосредственно с ней связанным лишь благодаря своим собственным свойствам. Короче говоря, вот то положение, которого мы стараемся держаться. Это не догма, это только цитата. Но одна из многих других цитат с тем же смыслом. Сейчас задача состоит в том, чтобы сформулировать концепцию объекта в этом ключе и увидеть, какими путями Фрейд ведёт нас к обнаружению его, этого объекта, действенного присутствия.
Благодаря нескольким другим положениям, высказанным Фрейдом, нам уже удалось прояснить, что объект всегда является лишь вновь найденным объектом в процессе поиска того, что было первичной Findung (находкой), и что, следовательно, Wiederfindung, вновь сделанная другая находка, никогда не сможет удовлетворить. Кроме этого, в других характеристиках объекта мы увидели его, с одной стороны, как неподходящий (inadéquat), с другой стороны, как частично ускользающий от осмысления. Это позволяет нам более строго подойти к фундаментальным понятиям и, в частности, пересмотреть понятие фрустрации, которое оказалось в центре современной аналитической теории.
Насколько это понятие было необходимым? Каким образом следует его пересмотреть? Мы займёмся его критикой для того, чтобы сделать его пригодным для применения и, вообще говоря, сделать его соответствующим тому, что составляет основу аналитического учения, то есть расположено на принципиальном уровне мысли Фрейда, где, как я много раз об этом говорил, понятие фрустрации имеет вспомогательное значение.
1
Я напомнил вам о том, что было представлено в качестве исходных пунктов -кастрация, фрустрация и лишение - три термина, различие которых полезно иметь в виду.
Что насчёт кастрации?
Кастрация сущностно связана со сложившимся символическим порядком, обладающим продолжительной согласованностью, от которой субъект в любом случае не может быть абстрагирован. Связь кастрации с символическим порядком очевидно обнаруживает себя как в ходе всех наших предыдущих размышлений, так и в простом первоначальном положении Фрейда о том, что кастрация связана с центральной позицией Эдипова комплекса как элемента принципиальной артикуляции любого развития сексуальности. Если я написал на доске символический долг, то именно потому, что комплекс Эдипа непосредственно в себе самом содержит абсолютно неустранимое из его основы понятие закона. Полагаю, что размещение кастрации на уровне символического долга можно считать достаточно обоснованным и достаточно подтверждённым с помощью упомянутого замечания, поддержанного всеми нашими предыдущими размышлениями. Поэтому я продолжу.
Что в символическом долге, образованном кастрацией, задействовано в качестве объекта? Как я в прошлый раз вам это показал, это воображаемый объект, фаллос. По
согласно принципу удовольствия, цель психической тенденции (tendence) заключается в том, чтобы достичь удовлетворения.
То есть понятие артикулировано таким образом, что о существовании предустановленной гармонии между объектом и психической тенденцией не может быть и речи. Объект оказывается непосредственно с ней связанным лишь благодаря своим собственным свойствам. Короче говоря, вот то положение, которого мы стараемся держаться. Это не догма, это только цитата. Но одна из многих других цитат с тем же смыслом. Сейчас задача состоит в том, чтобы сформулировать концепцию объекта в этом ключе и увидеть, какими путями Фрейд ведёт нас к обнаружению его, этого объекта, действенного присутствия.
Благодаря нескольким другим положениям, высказанным Фрейдом, нам уже удалось прояснить, что объект всегда является лишь вновь найденным объектом в процессе поиска того, что было первичной Findung (находкой), и что, следовательно, Wiederfindung, вновь сделанная другая находка, никогда не сможет удовлетворить. Кроме этого, в других характеристиках объекта мы увидели его, с одной стороны, как неподходящий (inadéquat), с другой стороны, как частично ускользающий от осмысления. Это позволяет нам более строго подойти к фундаментальным понятиям и, в частности, пересмотреть понятие фрустрации, которое оказалось в центре современной аналитической теории.
Насколько это понятие было необходимым? Каким образом следует его пересмотреть? Мы займёмся его критикой для того, чтобы сделать его пригодным для применения и, вообще говоря, сделать его соответствующим тому, что составляет основу аналитического учения, то есть расположено на принципиальном уровне мысли Фрейда, где, как я много раз об этом говорил, понятие фрустрации имеет вспомогательное значение.
1
Я напомнил вам о том, что было представлено в качестве исходных пунктов -кастрация, фрустрация и лишение - три термина, различие которых полезно иметь в виду.
Что насчёт кастрации?
Кастрация сущностно связана со сложившимся символическим порядком, обладающим продолжительной согласованностью, от которой субъект в любом случае не может быть абстрагирован. Связь кастрации с символическим порядком очевидно обнаруживает себя как в ходе всех наших предыдущих размышлений, так и в простом первоначальном положении Фрейда о том, что кастрация связана с центральной позицией Эдипова комплекса как элемента принципиальной артикуляции любого развития сексуальности. Если я написал на доске символический долг, то именно потому, что комплекс Эдипа непосредственно в себе самом содержит абсолютно неустранимое из его основы понятие закона. Полагаю, что размещение кастрации на уровне символического долга можно считать достаточно обоснованным и достаточно подтверждённым с помощью упомянутого замечания, поддержанного всеми нашими предыдущими размышлениями. Поэтому я продолжу.
Что в символическом долге, образованном кастрацией, задействовано в качестве объекта? Как я в прошлый раз вам это показал, это воображаемый объект, фаллос. По крайней мере так утверждает Фрейд, и именно из этого я сегодня буду исходить, чтобы в осмыслении диалектики фрустрации продвинуться чуть дальше.
Теперь, что касается фрустрации. Она занимает центральное положение в этой таблице, что никак не противоречит общепринятой концепции. Акцентируя внимание на понятии фрустрации, мы не слишком отступаем от понятия, поставленного Фрейдом в центр аналитической проблематики, а именно от понятия желания. Теперь важно установить, что означает фрустрация, как она была введена и с чем она соотносится.
Когда понятие фрустрации оказывается в центре внимания аналитической теории, её относят к первому году жизни субъекта. Фрустрация связывается с исследованием травм, фиксаций, впечатлений, происходящих в доэдипальных переживаниях. Это не подразумевает, что она вынесена за пределы Эдипа - она создаёт для него своего рода подготовительную площадку, его основу и фундамент. Она моделирует опыт субъекта и намечает в нём определённые акценты, задающие для эдипального конфликта направленность, в которой его течение будет в большей или меньшей степени отклоняться в сторону атипичности или гетеротипичности.
Какой способ отношений с объектом характерен для фрустрации? Очевидно, что здесь возникает вопрос о реальном. Так, в действительности, вместе с понятием фрустрации в образование, в развитие субъекта вводится целая вереница понятий, представленных в обсуждениях количественной метафорой - говорится об удовлетворениях, о вознаграждениях, об адаптационных благоприобретениях и приспособлениях на каждом этапе развития юного субъекта, большая или меньшая степень насыщенности ими или же, наоборот, их недостаток рассматривается как важнейший элемент. Речь идёт о реальных условиях, которые предположительно должны быть выявлены в анамнезе субъекта в процессе анализа.
Этот интерес к реальным условиям вспыхнул в современной психоаналитическойлитературе, тогда как в первых аналитических наблюдениях, в целом, отсутствует, по крайней мере на концептуальном уровне он сформулирован иначе. В подтверждениях этого недостатка нет. Достаточно обратиться к текстам, чтобы увидеть тот шаг в аналитическом исследовании детей, который был сделан по причине одного только этого факта смещения интереса в аналитической литературе. Вам будет легко это оценить, по крайней мере тем из вас, кто познакомился с тремя понятиями нашей таблицы достаточно хорошо, чтобы с лёгкостью их различать.
Таким образом, фрустрация рассматривается как ансамбль реальных впечатлений, проживаемых субъектом в тот период развития, когда его отношения с реальным объектом сосредоточены, как правило, на так называемом первичном (primordiale) имаго материнской груди, в связи с чем у него формируется то, что я назвал выше его первыми акцентами, и задаются его первые фиксации, позволяющие описать различные типы инстинктивных стадий. Именно исходя из этого, оказалось возможным артикулировать отношения оральной и анальной стадий с другими их производными частями, такими как фаллическая, садистская и т.д., и показать, что все они отмечены элементом амбивалентности, которая создаёт саму позицию субъекта в его сопричастности позиции другого, где субъект раздвоен, где он всегда причастен дуальной ситуации, вне которой нет никакой возможности как-либо его позицию определить. Короче говоря, мы имеем здесь воображаемую анатомию развития субъекта.
крайней мере так утверждает Фрейд, и именно из этого я сегодня буду исходить, чтобы в осмыслении диалектики фрустрации продвинуться чуть дальше.
Теперь, что касается фрустрации. Она занимает центральное положение в этой таблице, что никак не противоречит общепринятой концепции. Акцентируя внимание на понятии фрустрации, мы не слишком отступаем от понятия, поставленного Фрейдом в центр аналитической проблематики, а именно от понятия желания. Теперь важно установить, что означает фрустрация, как она была введена и с чем она соотносится.
Когда понятие фрустрации оказывается в центре внимания аналитической теории, её относят к первому году жизни субъекта. Фрустрация связывается с исследованием травм, фиксаций, впечатлений, происходящих в доэдипальных переживаниях. Это не подразумевает, что она вынесена за пределы Эдипа - она создаёт для него своего рода подготовительную площадку, его основу и фундамент. Она моделирует опыт субъекта и намечает в нём определённые акценты, задающие для эдипального конфликта направленность, в которой его течение будет в большей или меньшей степени отклоняться в сторону атипичности или гетеротипичности.
Какой способ отношений с объектом характерен для фрустрации? Очевидно, что здесь возникает вопрос о реальном. Так, в действительности, вместе с понятием фрустрации в образование, в развитие субъекта вводится целая вереница понятий, представленных в обсуждениях количественной метафорой - говорится об удовлетворениях, о вознаграждениях, об адаптационных благоприобретениях и приспособлениях на каждом этапе развития юного субъекта, большая или меньшая степень насыщенности ими или же, наоборот, их недостаток рассматривается как важнейший элемент. Речь идёт о реальных условиях, которые предположительно должны быть выявлены в анамнезе субъекта в процессе анализа.
Этот интерес к реальным условиям вспыхнул в современной психоаналитическойлитературе, тогда как в первых аналитических наблюдениях, в целом, отсутствует, по крайней мере на концептуальном уровне он сформулирован иначе. В подтверждениях этого недостатка нет. Достаточно обратиться к текстам, чтобы увидеть тот шаг в аналитическом исследовании детей, который был сделан по причине одного только этого факта смещения интереса в аналитической литературе. Вам будет легко это оценить, по крайней мере тем из вас, кто познакомился с тремя понятиями нашей таблицы достаточно хорошо, чтобы с лёгкостью их различать.
Таким образом, фрустрация рассматривается как ансамбль реальных впечатлений, проживаемых субъектом в тот период развития, когда его отношения с реальным объектом сосредоточены, как правило, на так называемом первичном (primordiale) имаго материнской груди, в связи с чем у него формируется то, что я назвал выше его первыми акцентами, и задаются его первые фиксации, позволяющие описать различные типы инстинктивных стадий. Именно исходя из этого, оказалось возможным артикулировать отношения оральной и анальной стадий с другими их производными частями, такими как фаллическая, садистская и т.д., и показать, что все они отмечены элементом амбивалентности, которая создаёт саму позицию субъекта в его сопричастности позиции другого, где субъект раздвоен, где он всегда причастен дуальной ситуации, вне которой нет никакой возможности как-либо его позицию определить. Короче говоря, мы имеем здесь воображаемую анатомию развития субъекта. Давайте посмотрим, куда всё это нас ведёт. Итак, мы в присутствии субъекта, который находится в позиции желания по отношению к груди в качестве реального объекта. Так мы оказываемся в сердцевине вопроса: какие последствия имеет эта наиболее ранняя (primitif) связь субъекта с реальным объектом?
Теоретики анализа погрузились по этому поводу в дискуссию, которая изобилует недоразумениями. Фрейд говорил о стадии аутоэротизма, и некоторые ошибочно истолковали понятие аутоэротизма как раннюю (primitif) связь между ребёнком и первичным материнским объектом. Другие возразили, что было бы сложно соотнести понятие, которое выглядит основанным на факте замыкания субъекта на себе самом, с тем большим количеством данных прямых наблюдений за отношениями ребёнка и матери, которые выглядят прямой противоположностью отсутствия продуктивных отношений субъекта с объектом. Что может быть ещё более внешним для субъекта, чем этот объект, по преимуществу представляющий собой первую его пищу, по отношению к которому он испытывает наиболее насущную нужду?
Здесь есть недоразумение, порождённое заблуждением, которое застопорило дискуссию и привело к такому количеству формулировок, что я не могу взяться за их перечисление до тех пор, пока мы не продвинемся в концептуализации того, о чём идёт речь. Я кратко напомню вам теорию Алисы Балинт, которую мы уже обсуждали.
Эта теория пытается согласовать понятие аутоэротизма в том виде, в котором оно представлено у Фрейда, с тем, что навязывается реальностью объекта, с чем ребёнок сталкивается на самой ранней стадии своего развития. Она приходит к чётко сформулированной и поразительной концепции, которую Месье и Мадам Балинт называют Primary Love. По их мнению, это единственная форма любви, в которой эгоизм и дар совершенно согласованы, поскольку между тем, что требует ребёнок от матери, и тем, что мать требует от ребёнка, устанавливается полное обоюдное соответствие (réciprocité), совершенное взаимодополнение двух полюсов потребности.
Эта концепция совершенно противоречит данным любого клинического опыта. Мы постоянно имеем дело с появлением у субъекта памятной метки, которая возникает в действительно фундаментальных несоответствиях (discordances). Впрочем, теория так называемой первичной, совершенной и взаимодополняющей любви на уровне самой своей формулировки несёт отпечаток этого несоответствия. Речь идёт о замечании Алисы Балинт в Mother’s Love and Love of the Mother о том, что в среде натурализованных отношений, то есть у дикарей, ребёнок всегда находится в контакте с матерью. Как известно каждому, где-то там в стране чудес, в саду Гесперид, ребёнок всегда находится под материнской опекой. Фактически понятие о такой строго дополняющей любви, предначертанием которой является обоюдность, представляет собой настолько неуместное в корректном теоретическом построении допущение, что авторы признают в конце концов эту позицию если не надуманной, то умозрительной.
Я взял этот пример только для того, чтобы ввести движущий элемент нашей критики понятия фрустрации, а именно кляйнианскую теорию. Ясно, что основное положение этой теории совершенно не согласуется с теорией Primary love, поэтому забавно наблюдать, каким несуразным нападкам подвергается теоретическая реконструкция, которую теория Кляйн предлагает.
Мне под руку попался информационный бюллетень, посвящённый деятельности ассоциации психоаналитиков Бельгии. В его содержании есть авторы, которые фигурируют в том выпуске журнала, на который я ссылался в первой лекции и который
Давайте посмотрим, куда всё это нас ведёт. Итак, мы в присутствии субъекта, который находится в позиции желания по отношению к груди в качестве реального объекта. Так мы оказываемся в сердцевине вопроса: какие последствия имеет эта наиболее ранняя (primitif) связь субъекта с реальным объектом?
Теоретики анализа погрузились по этому поводу в дискуссию, которая изобилует недоразумениями. Фрейд говорил о стадии аутоэротизма, и некоторые ошибочно истолковали понятие аутоэротизма как раннюю (primitif) связь между ребёнком и первичным материнским объектом. Другие возразили, что было бы сложно соотнести понятие, которое выглядит основанным на факте замыкания субъекта на себе самом, с тем большим количеством данных прямых наблюдений за отношениями ребёнка и матери, которые выглядят прямой противоположностью отсутствия продуктивных отношений субъекта с объектом. Что может быть ещё более внешним для субъекта, чем этот объект, по преимуществу представляющий собой первую его пищу, по отношению к которому он испытывает наиболее насущную нужду?
Здесь есть недоразумение, порождённое заблуждением, которое застопорило дискуссию и привело к такому количеству формулировок, что я не могу взяться за их перечисление до тех пор, пока мы не продвинемся в концептуализации того, о чём идёт речь. Я кратко напомню вам теорию Алисы Балинт, которую мы уже обсуждали.
Эта теория пытается согласовать понятие аутоэротизма в том виде, в котором оно представлено у Фрейда, с тем, что навязывается реальностью объекта, с чем ребёнок сталкивается на самой ранней стадии своего развития. Она приходит к чётко сформулированной и поразительной концепции, которую Месье и Мадам Балинт называют Primary Love. По их мнению, это единственная форма любви, в которой эгоизм и дар совершенно согласованы, поскольку между тем, что требует ребёнок от матери, и тем, что мать требует от ребёнка, устанавливается полное обоюдное соответствие (réciprocité), совершенное взаимодополнение двух полюсов потребности.
Эта концепция совершенно противоречит данным любого клинического опыта. Мы постоянно имеем дело с появлением у субъекта памятной метки, которая возникает в действительно фундаментальных несоответствиях (discordances). Впрочем, теория так называемой первичной, совершенной и взаимодополняющей любви на уровне самой своей формулировки несёт отпечаток этого несоответствия. Речь идёт о замечании Алисы Балинт в Mother’s Love and Love of the Mother о том, что в среде натурализованных отношений, то есть у дикарей, ребёнок всегда находится в контакте с матерью. Как известно каждому, где-то там в стране чудес, в саду Гесперид, ребёнок всегда находится под материнской опекой. Фактически понятие о такой строго дополняющей любви, предначертанием которой является обоюдность, представляет собой настолько неуместное в корректном теоретическом построении допущение, что авторы признают в конце концов эту позицию если не надуманной, то умозрительной.
Я взял этот пример только для того, чтобы ввести движущий элемент нашей критики понятия фрустрации, а именно кляйнианскую теорию. Ясно, что основное положение этой теории совершенно не согласуется с теорией Primary love, поэтому забавно наблюдать, каким несуразным нападкам подвергается теоретическая реконструкция, которую теория Кляйн предлагает.
Мне под руку попался информационный бюллетень, посвящённый деятельности ассоциации психоаналитиков Бельгии. В его содержании есть авторы, которые фигурируют в том выпуске журнала, на который я ссылался в первой лекции и который сосредоточен на позитивистском, беззастенчивом и совершенно некритичном взгляде на объектные отношения. В этом более конфиденциальном бюллетене делаются более изощрённые нападки, как если бы авторы немного стыдились из-за недостатка уверенности и давали это понять лишь косвенно там, где в глазах обнаружившего это чувство читателя оно пойдёт авторам лишь на пользу.
Итак, мы находим в этом бюллетене статью Месье Паше и Месье Ренара, в которой воспроизводится высказанная ими на Женевском конгрессе критика положений кляйнианской теории. Они ставят Мелани Кляйн в упрёк теорию развития, которая, по их словам, загодя размещает всё внутри субъекта. Весь Эдип с его возможным развитием изначально задан как инстинкт, и его различным, уже сформированным элементам остаётся только проявляться. Авторы предлагают сопоставить это с некоторыми воззрениями в биологической теории развития, согласно которым весь дуб уже целиком содержится в жёлуде. К такому субъекту ничего не приходит извне. Первичные агрессивные влечения заложены с самого начала -действительно, у Мелани Кляйн преобладание агрессивности обозначено в такой перспективе, - и затем, уже в ответ на эти агрессивные влечения, следуют акты возмездия, которые воспринимаются субъектом приходящими извне, а именно из поля матери; с их помощью постепенно выстраивается целокупность матери, которая, как нам говорят, может быть рассмотрена только как заранее сформированная данность, исходя из которой устанавливается так называемая депрессивная позиция.
Не представляя все эти критические замечания одно за другим, как следовало бы сделать, чтобы оценить их истинную ценность, я хотел бы только подчеркнуть для вас, к чему в целом они парадоксальным образом приводят и в чём заключается суть статьи.
Кажется, что авторы увлечены здесь вопросом о том, как вписывается в развитие то, что является привнесенным извне. Они вычитали у Мелани Кляйн, что это уже изначально заложено во внутреннем устроении, и не удивительно, что впоследствии приоритет отдаётся понятию внутреннего объекта, который выходит на первый план. Так они приходят к заключению, что вклад Мелани Кляйн в действительности можно свести к понятию передающейся по наследству схемы, которую, как они подчёркивают, очень трудно себе представить. Итак, говорят они, ребёнок рождается с унаследованными инстинктами в мир, который он не способен воспринимать, но который он помнит и который ему предстоит в дальнейшем не создать, исходя из себя самого или чего-то другого, не обнаружить путем необычных открытий, а всего лишь узнать.
Большинство из вас улавливает платоновский характер такой формулировки. Этот мир, о котором нам нужно только вспомнить, появляется в условиях уже пройденной субъектом определённой воображаемой подготовки. Это представлено в качестве критики и даже противоположной точки зрения. Мы присмотримся не только к тому, не идёт ли эта критика вразрез со всем, что написано Фрейдом, но и к тому, не оказываются ли сами авторы гораздо ближе к той позиции, в которой они упрекают Мелани Кляйн. Ведь они сами как раз утверждают, что субъект наследует уже сформированные, готовые появиться в нужный момент схемы, все те элементы, которые позволят субъекту обустроиться в последовательности этапов, которые именуются идеальными лишь постольку, поскольку они представляют собой воспоминания субъекта, а именно филогенетические воспоминания, сообщающие ему образец и норму.
сосредоточен на позитивистском, беззастенчивом и совершенно некритичном взгляде на объектные отношения. В этом более конфиденциальном бюллетене делаются более изощрённые нападки, как если бы авторы немного стыдились из-за недостатка уверенности и давали это понять лишь косвенно там, где в глазах обнаружившего это чувство читателя оно пойдёт авторам лишь на пользу.
Итак, мы находим в этом бюллетене статью Месье Паше и Месье Ренара, в которой воспроизводится высказанная ими на Женевском конгрессе критика положений кляйнианской теории. Они ставят Мелани Кляйн в упрёк теорию развития, которая, по их словам, загодя размещает всё внутри субъекта. Весь Эдип с его возможным развитием изначально задан как инстинкт, и его различным, уже сформированным элементам остаётся только проявляться. Авторы предлагают сопоставить это с некоторыми воззрениями в биологической теории развития, согласно которым весь дуб уже целиком содержится в жёлуде. К такому субъекту ничего не приходит извне. Первичные агрессивные влечения заложены с самого начала -действительно, у Мелани Кляйн преобладание агрессивности обозначено в такой перспективе, - и затем, уже в ответ на эти агрессивные влечения, следуют акты возмездия, которые воспринимаются субъектом приходящими извне, а именно из поля матери; с их помощью постепенно выстраивается целокупность матери, которая, как нам говорят, может быть рассмотрена только как заранее сформированная данность, исходя из которой устанавливается так называемая депрессивная позиция.
Не представляя все эти критические замечания одно за другим, как следовало бы сделать, чтобы оценить их истинную ценность, я хотел бы только подчеркнуть для вас, к чему в целом они парадоксальным образом приводят и в чём заключается суть статьи.
Кажется, что авторы увлечены здесь вопросом о том, как вписывается в развитие то, что является привнесенным извне. Они вычитали у Мелани Кляйн, что это уже изначально заложено во внутреннем устроении, и не удивительно, что впоследствии приоритет отдаётся понятию внутреннего объекта, который выходит на первый план. Так они приходят к заключению, что вклад Мелани Кляйн в действительности можно свести к понятию передающейся по наследству схемы, которую, как они подчёркивают, очень трудно себе представить. Итак, говорят они, ребёнок рождается с унаследованными инстинктами в мир, который он не способен воспринимать, но который он помнит и который ему предстоит в дальнейшем не создать, исходя из себя самого или чего-то другого, не обнаружить путем необычных открытий, а всего лишь узнать.
Большинство из вас улавливает платоновский характер такой формулировки. Этот мир, о котором нам нужно только вспомнить, появляется в условиях уже пройденной субъектом определённой воображаемой подготовки. Это представлено в качестве критики и даже противоположной точки зрения. Мы присмотримся не только к тому, не идёт ли эта критика вразрез со всем, что написано Фрейдом, но и к тому, не оказываются ли сами авторы гораздо ближе к той позиции, в которой они упрекают Мелани Кляйн. Ведь они сами как раз утверждают, что субъект наследует уже сформированные, готовые появиться в нужный момент схемы, все те элементы, которые позволят субъекту обустроиться в последовательности этапов, которые именуются идеальными лишь постольку, поскольку они представляют собой воспоминания субъекта, а именно филогенетические воспоминания, сообщающие ему образец и норму. Это ли имела в виду Мадам Мелани Кляйн? Совершенно немыслимо с этим согласиться. Если Мадам Мелани Кляйн даёт нам кое о чём представление - не в этом ли, впрочем, и заключается смысл критики авторов? - то как раз о том, что первичная (première) ситуация является наиболее хаотичной, по-настоящему анархичной. Для происхождения в самом начале характерен шум и неистовство влечений, и речь идёт как раз о том, чтобы понять, как в этой ситуации может быть установлен некий порядок.
Не вызывает сомнений, что в кляйнианской концепции есть нечто мифическое. Эти фантазмы, конечно, имеют ретроактивный характер. Мы видим, как в процессе формирования субъекта они проецируются на прошлое, причем в моменты, которые могут относиться к очень ранним периодам. Но почему моменты эти возникают так преждевременно рано? Каким образом Мадам Мелани Кляйн, на манер прорицательницы, склонившейся над магическим зеркалом, удаётся разглядеть в прошлом чрезвычайно развитого субъекта двух с половиной лет не что иное, как эдипальную структуру? Этому должно быть какое-то объяснение.
Конечно, есть в этом своего рода мираж, и речь не о том, что мы соглашаемся с ней, когда слышим, что Эдип уже давал о себе знать в тех самых формах разделённого на части пениса, что перемещаются среди братьев и сестёр в области, заданной внутренним пространством материнского тела. Но само то, что такая взаимосвязь может быть заметной и выраженной у ребёнка в очень раннем возрасте, - вот что поднимает действительно плодотворный вопрос.
Эта теоретически установленная взаимосвязь, чисто гипотетическая, изначально задаёт параметры, которые, лучшим образом удовлетворяя наши идеи о естественной гармонии, всё же никак не соответствуют тому, что происходит в опыте.
Я полагаю, что всё это помогает вам увидеть, под каким углом мы можем внести нечто новое в прояснение той путаницы, которая имеет место на уровне отношений мать-ребёнок.
2
Было бы ошибкой отталкиваться не от фрустрации, поскольку она является истинным центром темы первичных отношений ребёнка. Но в дополнение к центральному своему положению понятие должно быть точным. Многое проясняется, если мы подходим к нему следующим образом - фрустрация с самого начала имеет два аспекта, которые мы видим в таблице по обе её стороны.
С одной стороны, имеется реальный объект. Очевидно, что объект может оказывать влияние на отношения субъекта задолго до того, как будет воспринят в качестве объекта. Объект реальный, связь прямая. Только в условиях периодичности появления дыр и недостач будет установлен определённый режим отношений субъекта, при котором ему совершенно не обязательно иметь в виду различие между Я и не-Я. Так, например, он пребывает в аутоэротической позиции, в том смысле, как её понимает Фрейд, в которой, прямо говоря, нет ни такого образования, как другой, ни сколь-нибудь мыслимой возможности отношений.
С другой стороны, имеется агент. В действительности объект образуется в качестве инстанции и вступает в осуществление своей функции только посредством нехватки. И в этих основополагающих отношениях, отношениях нехватки с объектом,
Это ли имела в виду Мадам Мелани Кляйн? Совершенно немыслимо с этим согласиться. Если Мадам Мелани Кляйн даёт нам кое о чём представление - не в этом ли, впрочем, и заключается смысл критики авторов? - то как раз о том, что первичная (première) ситуация является наиболее хаотичной, по-настоящему анархичной. Для происхождения в самом начале характерен шум и неистовство влечений, и речь идёт как раз о том, чтобы понять, как в этой ситуации может быть установлен некий порядок.
Не вызывает сомнений, что в кляйнианской концепции есть нечто мифическое. Эти фантазмы, конечно, имеют ретроактивный характер. Мы видим, как в процессе формирования субъекта они проецируются на прошлое, причем в моменты, которые могут относиться к очень ранним периодам. Но почему моменты эти возникают так преждевременно рано? Каким образом Мадам Мелани Кляйн, на манер прорицательницы, склонившейся над магическим зеркалом, удаётся разглядеть в прошлом чрезвычайно развитого субъекта двух с половиной лет не что иное, как эдипальную структуру? Этому должно быть какое-то объяснение.
Конечно, есть в этом своего рода мираж, и речь не о том, что мы соглашаемся с ней, когда слышим, что Эдип уже давал о себе знать в тех самых формах разделённого на части пениса, что перемещаются среди братьев и сестёр в области, заданной внутренним пространством материнского тела. Но само то, что такая взаимосвязь может быть заметной и выраженной у ребёнка в очень раннем возрасте, - вот что поднимает действительно плодотворный вопрос.
Эта теоретически установленная взаимосвязь, чисто гипотетическая, изначально задаёт параметры, которые, лучшим образом удовлетворяя наши идеи о естественной гармонии, всё же никак не соответствуют тому, что происходит в опыте.
Я полагаю, что всё это помогает вам увидеть, под каким углом мы можем внести нечто новое в прояснение той путаницы, которая имеет место на уровне отношений мать-ребёнок.
2
Было бы ошибкой отталкиваться не от фрустрации, поскольку она является истинным центром темы первичных отношений ребёнка. Но в дополнение к центральному своему положению понятие должно быть точным. Многое проясняется, если мы подходим к нему следующим образом - фрустрация с самого начала имеет два аспекта, которые мы видим в таблице по обе её стороны.
С одной стороны, имеется реальный объект. Очевидно, что объект может оказывать влияние на отношения субъекта задолго до того, как будет воспринят в качестве объекта. Объект реальный, связь прямая. Только в условиях периодичности появления дыр и недостач будет установлен определённый режим отношений субъекта, при котором ему совершенно не обязательно иметь в виду различие между Я и не-Я. Так, например, он пребывает в аутоэротической позиции, в том смысле, как её понимает Фрейд, в которой, прямо говоря, нет ни такого образования, как другой, ни сколь-нибудь мыслимой возможности отношений.
С другой стороны, имеется агент. В действительности объект образуется в качестве инстанции и вступает в осуществление своей функции только посредством нехватки. И в этих основополагающих отношениях, отношениях нехватки с объектом, образуется место для понятия агента, которое позволит нам ввести важнейшую для общей постановки проблемы формулировку. В данном случае агент - это мать.
Чтобы показать это, мне достаточно напомнить вам о том, чем мы уже занимались в прошлые годы, а именно о том, что Фрейд сформулировал, рассматривая принципиальную позицию ребёнка в играх повторения, которую он блестяще распознаёт в его поведении.
Мать - это нечто иное, нежели примитивный объект. Сразу же она не появляется в этом качестве, но, как подчёркивает Фрейд, это справедливо, если исходить из первых игр, игр, где сам по себе объект совершенно не имеет значения и какой бы то ни было биологической ценности. Это может быть мяч или неважно какой ещё предмет, который маленький шестимесячный ребёнок перебрасывает через край своей кровати, чтобы потом им снова завладеть. Это чрезвычайно рано сформулированное ребёнком сочетание присутствия-отсутствия знаменует первое образование агента фрустрации, которым изначально является мать. Мы можем записать S(M) как символ фрустрации.
О матери нам говорят, что на определённом этапе развития, в депрессивной позиции, она вводит новый элемент целокупности, который противопоставляется характерному для предыдущего этапа хаосу частичных объектов. Так вот, в гораздо большей степени таким новым элементом является присутствие-отсутствие.
Присутствие-отсутствие не только объективно задано как таковое, но и формулируется самим субъектом. Мы уже обсуждали это в прошлом году - присутствие-отсутствие артикулируется для субъекта в регистре зова (appel). Материнский объект здесь призывается, когда отсутствует, а когда присутствует, бывает отвергнутым в том же регистре, что и зов, то есть с помощью вокализации.
Конечно, этот ритм зова (scansion de l’appel) далёк от того, чтобы сразу же образовать весь символический порядок, но знаменует его начало. Таким образом, он позволяет нам выявить отличительный элемент реальных объектных отношений, который впоследствии предоставит субъекту возможность установить при помощи этого ритма отношения с реальным объектом и следами, метками, которые тот оставляет. Это даёт субъекту возможность согласовать отношения реальные с отношениями символическими.
Прежде чем более наглядно это для вас продемонстрировать, я хочу подчеркнуть то, что влечёт за собой сама возможность появления в опыте ребёнка оппозиционной пары присутствия-отсутствия. То, что таким образом вводится в опыт ребёнка, является тем, что имеет естественную тенденцию засыпать в момент фрустрации. Так, ребёнок располагается между понятием агента, который уже вовлечён в порядок символизации, и оппозиционной парой присутствия-отсутствия, в коннотации плюс-минус, которая даёт нам первый элемент символического порядка. Безусловно, одного этого элемента недостаточно, чтобы образовать символический порядок, поскольку в дальнейшем нужна последовательность, сгруппированная как таковая, но в оппозиции плюс-минус, присутствие-отсутствие, фактически уже имеет место происхождение, рождение, возможность, фундаментальное условие символического порядка.
Теперь вопрос заключается в следующем: каким образом можно осмыслить тот поворотный момент, в который это первичное отношение к реальному объекту открывается для более сложных отношений? В чём суть этого поворотного момента, когда отношения мать-ребёнок открываются элементам, которые вводят то, что мы назвали диалектикой? Я думаю, мы можем выразить это схематически, поставив
образуется место для понятия агента, которое позволит нам ввести важнейшую для общей постановки проблемы формулировку. В данном случае агент - это мать.
Чтобы показать это, мне достаточно напомнить вам о том, чем мы уже занимались в прошлые годы, а именно о том, что Фрейд сформулировал, рассматривая принципиальную позицию ребёнка в играх повторения, которую он блестяще распознаёт в его поведении.
Мать - это нечто иное, нежели примитивный объект. Сразу же она не появляется в этом качестве, но, как подчёркивает Фрейд, это справедливо, если исходить из первых игр, игр, где сам по себе объект совершенно не имеет значения и какой бы то ни было биологической ценности. Это может быть мяч или неважно какой ещё предмет, который маленький шестимесячный ребёнок перебрасывает через край своей кровати, чтобы потом им снова завладеть. Это чрезвычайно рано сформулированное ребёнком сочетание присутствия-отсутствия знаменует первое образование агента фрустрации, которым изначально является мать. Мы можем записать S(M) как символ фрустрации.
О матери нам говорят, что на определённом этапе развития, в депрессивной позиции, она вводит новый элемент целокупности, который противопоставляется характерному для предыдущего этапа хаосу частичных объектов. Так вот, в гораздо большей степени таким новым элементом является присутствие-отсутствие.
Присутствие-отсутствие не только объективно задано как таковое, но и формулируется самим субъектом. Мы уже обсуждали это в прошлом году - присутствие-отсутствие артикулируется для субъекта в регистре зова (appel). Материнский объект здесь призывается, когда отсутствует, а когда присутствует, бывает отвергнутым в том же регистре, что и зов, то есть с помощью вокализации.
Конечно, этот ритм зова (scansion de l’appel) далёк от того, чтобы сразу же образовать весь символический порядок, но знаменует его начало. Таким образом, он позволяет нам выявить отличительный элемент реальных объектных отношений, который впоследствии предоставит субъекту возможность установить при помощи этого ритма отношения с реальным объектом и следами, метками, которые тот оставляет. Это даёт субъекту возможность согласовать отношения реальные с отношениями символическими.
Прежде чем более наглядно это для вас продемонстрировать, я хочу подчеркнуть то, что влечёт за собой сама возможность появления в опыте ребёнка оппозиционной пары присутствия-отсутствия. То, что таким образом вводится в опыт ребёнка, является тем, что имеет естественную тенденцию засыпать в момент фрустрации. Так, ребёнок располагается между понятием агента, который уже вовлечён в порядок символизации, и оппозиционной парой присутствия-отсутствия, в коннотации плюс-минус, которая даёт нам первый элемент символического порядка. Безусловно, одного этого элемента недостаточно, чтобы образовать символический порядок, поскольку в дальнейшем нужна последовательность, сгруппированная как таковая, но в оппозиции плюс-минус, присутствие-отсутствие, фактически уже имеет место происхождение, рождение, возможность, фундаментальное условие символического порядка.
Теперь вопрос заключается в следующем: каким образом можно осмыслить тот поворотный момент, в который это первичное отношение к реальному объекту открывается для более сложных отношений? В чём суть этого поворотного момента, когда отношения мать-ребёнок открываются элементам, которые вводят то, что мы назвали диалектикой? Я думаю, мы можем выразить это схематически, поставив следующий вопрос: что происходит, если символический агент как сущностное условие отношений ребёнка с реальным объектом, мать как таковая, больше не отвечает? Если на зов субъекта она больше не отвечает?
Ответим сами. Она утрачивает своё положение (déchoit). Несмотря на то, что она была вписана в символическую структуризацию, которая превратила её в объект присутствия-отсутствия, в ответе на зов она становится реальной.
Почему? До этого момента она существовала в этой структуризации как агент, отличный от реального объекта, который является объектом удовлетворения ребёнка. Как только она больше не отвечает, как только она отвечает по своей прихоти, она выходит из структуризации и становится реальной, то есть она обретает могущество. Отметим, что это становится отправным пунктом для всей последующей структуризации реальности.
Соответственно переворачивается позиция объекта. Пока речь идёт о реальных отношениях с грудью - возьмём её в качестве примера - вполне можно превратить её в поглощающую, если захочется. Что происходит, когда, наоборот, мать обретает могущество и становится реальной и с этого момента заведомо от неё зависит доступ ребёнка к объектам? Эти объекты, которые до сих пор были просто-напросто объектами удовлетворения, становятся частью этого могущества, объектами дара. Теперь они сами, как до этого момента мать, вписаны в коннотацию присутствия-отсутствия, зависят от этого реального объекта материнского могущества. Короче говоря, объекты, как мы их здесь понимаем, то есть не в метафорическом смысле, а как объекты, которые можно удержать, которыми можно обладать - я оставлю в стороне решение выясняемого лишь наблюдением вопроса о том, лежит ли в основе понятия not-me, не-я, образ другого или то, чем можно обладать - объекты, которые ребёнок хочет удерживать при себе, являются теперь не объектами удовлетворения, а знаками того могущества, которое может не отвечать, которое является могуществом матери.
Другими словами, позиция переворачивается - мать стала реальной, а объект символическим. Объект расценивается как свидетельство дара по соизволению материнского могущества. С этого момента объект имеет два измерения своей удовлетворяющей способности, он раздваивает качество возможного удовлетворения -как и прежде он удовлетворяет потребность, но также символизирует благоволение могущества.
Очень важно иметь это в виду, если учесть, что с тех пор, как теория стала, по одному выражению, генетическим психоанализом, одним из наиболее громоздких её понятий является понятие всесилия, всемогущества мыслей. Это легко улавливается во всём, что наиболее от нас далеко. Но возможно ли, чтобы ребёнок имел представление о всемогуществе? Возможно, в этом действительно есть резон, но это не означает, что всемогуществом, о котором идёт речь, наделён он сам. Всемогуществом, о котором идёт речь, наделена его мать.
В этот момент, который я вам сейчас представляю, не ребёнок, но мать, именно она, является всемогущей. В этот решающий момент мать переходит из совершенно архаичной символизации в реальность. И в этот момент мать может дать всё, что угодно. Предположение о том, что ребёнок обладает представлением о своём собственном всемогуществе, совершенно непостижимо и ошибочно. В его развитии на это ничто не указывает, скорее, всё, что в его развитии и связанных с ним осложнениях представляет для нас интерес, подтверждает нам, что его пресловутое всемогущество и его провалы
следующий вопрос: что происходит, если символический агент как сущностное условие отношений ребёнка с реальным объектом, мать как таковая, больше не отвечает? Если на зов субъекта она больше не отвечает?
Ответим сами. Она утрачивает своё положение (déchoit). Несмотря на то, что она была вписана в символическую структуризацию, которая превратила её в объект присутствия-отсутствия, в ответе на зов она становится реальной.
Почему? До этого момента она существовала в этой структуризации как агент, отличный от реального объекта, который является объектом удовлетворения ребёнка. Как только она больше не отвечает, как только она отвечает по своей прихоти, она выходит из структуризации и становится реальной, то есть она обретает могущество. Отметим, что это становится отправным пунктом для всей последующей структуризации реальности.
Соответственно переворачивается позиция объекта. Пока речь идёт о реальных отношениях с грудью - возьмём её в качестве примера - вполне можно превратить её в поглощающую, если захочется. Что происходит, когда, наоборот, мать обретает могущество и становится реальной и с этого момента заведомо от неё зависит доступ ребёнка к объектам? Эти объекты, которые до сих пор были просто-напросто объектами удовлетворения, становятся частью этого могущества, объектами дара. Теперь они сами, как до этого момента мать, вписаны в коннотацию присутствия-отсутствия, зависят от этого реального объекта материнского могущества. Короче говоря, объекты, как мы их здесь понимаем, то есть не в метафорическом смысле, а как объекты, которые можно удержать, которыми можно обладать - я оставлю в стороне решение выясняемого лишь наблюдением вопроса о том, лежит ли в основе понятия not-me, не-я, образ другого или то, чем можно обладать - объекты, которые ребёнок хочет удерживать при себе, являются теперь не объектами удовлетворения, а знаками того могущества, которое может не отвечать, которое является могуществом матери.
Другими словами, позиция переворачивается - мать стала реальной, а объект символическим. Объект расценивается как свидетельство дара по соизволению материнского могущества. С этого момента объект имеет два измерения своей удовлетворяющей способности, он раздваивает качество возможного удовлетворения -как и прежде он удовлетворяет потребность, но также символизирует благоволение могущества.
Очень важно иметь это в виду, если учесть, что с тех пор, как теория стала, по одному выражению, генетическим психоанализом, одним из наиболее громоздких её понятий является понятие всесилия, всемогущества мыслей. Это легко улавливается во всём, что наиболее от нас далеко. Но возможно ли, чтобы ребёнок имел представление о всемогуществе? Возможно, в этом действительно есть резон, но это не означает, что всемогуществом, о котором идёт речь, наделён он сам. Всемогуществом, о котором идёт речь, наделена его мать.
В этот момент, который я вам сейчас представляю, не ребёнок, но мать, именно она, является всемогущей. В этот решающий момент мать переходит из совершенно архаичной символизации в реальность. И в этот момент мать может дать всё, что угодно. Предположение о том, что ребёнок обладает представлением о своём собственном всемогуществе, совершенно непостижимо и ошибочно. В его развитии на это ничто не указывает, скорее, всё, что в его развитии и связанных с ним осложнениях представляет для нас интерес, подтверждает нам, что его пресловутое всемогущество и его провалы не имеют никакого отношения к данному вопросу. Вы убедитесь, что значение имеют лишения и разочарования, затрагивающие всемогущество матери.
Это исследование может показаться немного теоретическим. Его преимущество заключается в том, что оно вводит сущностные различия и намечает дальнейшие ходы, которыми обычно мы не пользуемся. Сейчас вы увидите, к чему они нас уже привели.
Итак, вот ребёнок в присутствии некоторой вещи, которую он осознал как могущество. То, что до сих пор располагалось в плане первой коннотации присутствия-отсутствия, разом переходит в другой регистр, становится тем, что может отказать и что обладает всем, в чём субъект может испытывать нужду. И даже если он не испытывает в чём-то нужду, это что-то становится символическим постольку, поскольку зависит от могущества.
3
А теперь подойдём к этому вопросу совсем с другой стороны.
Фрейд говорит нам, что в мире объектов есть один, функция которого является парадоксальным образом решающей, таким объектом является фаллос. Он определяется как воображаемый, его ни в коем случае нельзя путать с реальным пенисом, это, строго говоря, форма, эрегированный образ. Этот фаллос играет настолько решающую роль, что томление по нему, как и его присутствие или его представленность в воображаемом, оказываются ещё более важными для тех представителей человечества, которым недостаёт его реального коррелята, то есть для женщин, нежели для тех, кто может удостовериться в реальном наличии такого коррелята и чья сексуальная жизнь определяется тем фактом, что в воображении они считают его законно и правомерно своим, то есть для мужчин.
Такова наша данность. Рассмотрим, исходя из неё, нашу мать и нашего ребёнка, которые, согласно Микаэлю и Алисе Балинт, образуют единую совокупность потребностей, так же как у супругов Мортимер у Жана Кокто было одно на двоих сердце. Тем не менее на моей схеме они представлены двумя внешними кругами.
Фрейд, со своей стороны, говорит нам, что у женщины в число важнейших объектов нехватки входит фаллос, что тесно связано с её отношениями с ребёнком. По той простой причине, что если женщина ищет в ребенке удовлетворение, то ровно для того, чтобы более-менее успокоить свою нужду в фаллосе, насытить нехватку. Если мы этого не учитываем, то мы отрекаемся не только от учения Фрейда, но и от всего того, что постоянно даёт о себе знать в опыте.
Итак, вот мать и ребёнок в определённых диалектических взаимоотношениях. Ребёнок ожидает нечто от матери, и кое-что он получает. Мы не можем этого не учитывать. В приблизительной манере, в манере Балинтов, скажем, что ребёнок может поверить, что любят его за него самого.
Тогда возникает следующий вопрос: что происходит в измерении, в котором образ фаллоса у матери не полностью совпадает с образом ребёнка? Где происходит двоение, разделение так называемого первичного (primordial) объекта желания? Далеко не гармоничная связь матери с ребёнком раздвоена - с одной стороны, это потребность определённого воображаемого насыщения, с другой стороны, те эффекты реальных отношений с ребёнком на первичном, инстинктивном уровне, который остаётся в конечном счёте мифическим. В том, о чём идёт речь, для матери всегда
не имеют никакого отношения к данному вопросу. Вы убедитесь, что значение имеют лишения и разочарования, затрагивающие всемогущество матери.
Это исследование может показаться немного теоретическим. Его преимущество заключается в том, что оно вводит сущностные различия и намечает дальнейшие ходы, которыми обычно мы не пользуемся. Сейчас вы увидите, к чему они нас уже привели.
Итак, вот ребёнок в присутствии некоторой вещи, которую он осознал как могущество. То, что до сих пор располагалось в плане первой коннотации присутствия-отсутствия, разом переходит в другой регистр, становится тем, что может отказать и что обладает всем, в чём субъект может испытывать нужду. И даже если он не испытывает в чём-то нужду, это что-то становится символическим постольку, поскольку зависит от могущества.
3
А теперь подойдём к этому вопросу совсем с другой стороны.
Фрейд говорит нам, что в мире объектов есть один, функция которого является парадоксальным образом решающей, таким объектом является фаллос. Он определяется как воображаемый, его ни в коем случае нельзя путать с реальным пенисом, это, строго говоря, форма, эрегированный образ. Этот фаллос играет настолько решающую роль, что томление по нему, как и его присутствие или его представленность в воображаемом, оказываются ещё более важными для тех представителей человечества, которым недостаёт его реального коррелята, то есть для женщин, нежели для тех, кто может удостовериться в реальном наличии такого коррелята и чья сексуальная жизнь определяется тем фактом, что в воображении они считают его законно и правомерно своим, то есть для мужчин.
Такова наша данность. Рассмотрим, исходя из неё, нашу мать и нашего ребёнка, которые, согласно Микаэлю и Алисе Балинт, образуют единую совокупность потребностей, так же как у супругов Мортимер у Жана Кокто было одно на двоих сердце. Тем не менее на моей схеме они представлены двумя внешними кругами.
Фрейд, со своей стороны, говорит нам, что у женщины в число важнейших объектов нехватки входит фаллос, что тесно связано с её отношениями с ребёнком. По той простой причине, что если женщина ищет в ребенке удовлетворение, то ровно для того, чтобы более-менее успокоить свою нужду в фаллосе, насытить нехватку. Если мы этого не учитываем, то мы отрекаемся не только от учения Фрейда, но и от всего того, что постоянно даёт о себе знать в опыте.
Итак, вот мать и ребёнок в определённых диалектических взаимоотношениях. Ребёнок ожидает нечто от матери, и кое-что он получает. Мы не можем этого не учитывать. В приблизительной манере, в манере Балинтов, скажем, что ребёнок может поверить, что любят его за него самого.
Тогда возникает следующий вопрос: что происходит в измерении, в котором образ фаллоса у матери не полностью совпадает с образом ребёнка? Где происходит двоение, разделение так называемого первичного (primordial) объекта желания? Далеко не гармоничная связь матери с ребёнком раздвоена - с одной стороны, это потребность определённого воображаемого насыщения, с другой стороны, те эффекты реальных отношений с ребёнком на первичном, инстинктивном уровне, который остаётся в конечном счёте мифическим. В том, о чём идёт речь, для матери всегда остаётся что-то не поддающееся разрешению. Если мы следуем Фрейду, то в конечном итоге говорим, что ребёнок, будучи реальным, символизирует образ. Точнее - ребёнок, будучи реальным, исполняет для матери функцию символизации её воображаемой потребности - задействованы все три термина.
Здесь можно рассматривать любого рода вариации. Между ребёнком и матерью существуют любого рода уже структурированные ситуации. С того момента, когда мать предстала в реальном в состоянии могущества, для ребёнка открывается перспектива промежуточного объекта как такового, как объекта дара. Вопрос состоит в том, в какой момент и каким образом ребёнок может быть введён прямо в структуру символическое-воображаемое-реальное, как это происходит для матери? Другими словами, в какой момент ребёнок может войти - более или менее символически, как мы увидим, осваивая её - в реальную воображаемую ситуацию отношений с тем, чем является для матери фаллос? В какой момент ребёнок может в некоторой мере почувствовать себя обделённым тем, чего он требует от матери, обнаружив, что любят не его, а некий образ?
Далее из этого следует, что этот фаллический образ ребёнок реализует на себе самом и, строго говоря, именно так вступают в действие нарциссические отношения. В момент, когда ребёнок постигает разницу полов, в какой степени этот опыт увязывается с тем, что дано ему присутствием матери и её деятельностью? Как сюда вписывается признание того третьего воображаемого термина, которым является для матери фаллос? Более того, понимание, что мать испытывает нехватку фаллоса, что она желает сама - не только желает чего-то помимо него, ребёнка, а просто желает, компрометируя тем самым своё могущество - станет для субъекта решающим.
В прошлый раз я упомянул один отчёт о наблюдении фобии у маленькой девочки. Обозначу сразу же, что в нём представляет интерес.
Наблюдение осуществляет ученица Анны Фрейд во время войны, что можно назвать благоприятным стечением обстоятельств. Ребёнок наблюдается от начала и до конца, и поскольку речь идёт об ученице Анны Фрейд, то она будет для нас хорошим наблюдателем, потому что она ничего не понимает. Она ничего не понимает, потому что теория Анны Фрейд ошибочна. Следовательно, факты ввергают её в состояние недоумения, которое и составляет всю ценность и пользу этого наблюдения, в котором записано всё, день за днём.
Маленькая девочка в возрасте двух лет и пяти месяцев, обнаружив что у мальчиков есть вивимахер (fait-pipi), как выражается маленький Ганс, начинает действовать из позиции соперничества. Она делает всё так, как делают маленькие мальчики. Этот ребёнок разлучён с матерью из-за войны, но ещё и потому, что в начале войны её мать потеряла мужа. Она навещает свою дочь в регулярном режиме присутствия-отсутствия и играет с ней в игры приближения - она подкрадывается на цыпочках и неожиданно выдаёт своё появление. Короче говоря, мы видим её функцию символической матери. Таким образом, всё идёт очень хорошо, у девочки есть реальные объекты, которыми она занята, когда матери нет, когда же мать появляется, то играет свою роль символической матери. Обнаружив, что у мальчиков есть пиписька, эта маленькая девочка старается подражать им и эту пипиську у них трогать. В таких обстоятельствах разворачивается драма, которая, однако, остаётся без каких-либо последствий.
остаётся что-то не поддающееся разрешению. Если мы следуем Фрейду, то в конечном итоге говорим, что ребёнок, будучи реальным, символизирует образ. Точнее - ребёнок, будучи реальным, исполняет для матери функцию символизации её воображаемой потребности - задействованы все три термина.
Здесь можно рассматривать любого рода вариации. Между ребёнком и матерью существуют любого рода уже структурированные ситуации. С того момента, когда мать предстала в реальном в состоянии могущества, для ребёнка открывается перспектива промежуточного объекта как такового, как объекта дара. Вопрос состоит в том, в какой момент и каким образом ребёнок может быть введён прямо в структуру символическое-воображаемое-реальное, как это происходит для матери? Другими словами, в какой момент ребёнок может войти - более или менее символически, как мы увидим, осваивая её - в реальную воображаемую ситуацию отношений с тем, чем является для матери фаллос? В какой момент ребёнок может в некоторой мере почувствовать себя обделённым тем, чего он требует от матери, обнаружив, что любят не его, а некий образ?
Далее из этого следует, что этот фаллический образ ребёнок реализует на себе самом и, строго говоря, именно так вступают в действие нарциссические отношения. В момент, когда ребёнок постигает разницу полов, в какой степени этот опыт увязывается с тем, что дано ему присутствием матери и её деятельностью? Как сюда вписывается признание того третьего воображаемого термина, которым является для матери фаллос? Более того, понимание, что мать испытывает нехватку фаллоса, что она желает сама - не только желает чего-то помимо него, ребёнка, а просто желает, компрометируя тем самым своё могущество - станет для субъекта решающим.
В прошлый раз я упомянул один отчёт о наблюдении фобии у маленькой девочки. Обозначу сразу же, что в нём представляет интерес.
Наблюдение осуществляет ученица Анны Фрейд во время войны, что можно назвать благоприятным стечением обстоятельств. Ребёнок наблюдается от начала и до конца, и поскольку речь идёт об ученице Анны Фрейд, то она будет для нас хорошим наблюдателем, потому что она ничего не понимает. Она ничего не понимает, потому что теория Анны Фрейд ошибочна. Следовательно, факты ввергают её в состояние недоумения, которое и составляет всю ценность и пользу этого наблюдения, в котором записано всё, день за днём.
Маленькая девочка в возрасте двух лет и пяти месяцев, обнаружив что у мальчиков есть вивимахер (fait-pipi), как выражается маленький Ганс, начинает действовать из позиции соперничества. Она делает всё так, как делают маленькие мальчики. Этот ребёнок разлучён с матерью из-за войны, но ещё и потому, что в начале войны её мать потеряла мужа. Она навещает свою дочь в регулярном режиме присутствия-отсутствия и играет с ней в игры приближения - она подкрадывается на цыпочках и неожиданно выдаёт своё появление. Короче говоря, мы видим её функцию символической матери. Таким образом, всё идёт очень хорошо, у девочки есть реальные объекты, которыми она занята, когда матери нет, когда же мать появляется, то играет свою роль символической матери. Обнаружив, что у мальчиков есть пиписька, эта маленькая девочка старается подражать им и эту пипиську у них трогать. В таких обстоятельствах разворачивается драма, которая, однако, остаётся без каких-либо последствий. Этот случай представлен нам как фобия, и действительно в одну прекрасную ночь маленькая девочка просыпается, охваченная сильным страхом. Ей приснилась собака, которая хочет её укусить. Она хочет перелечь из своей кровати в другую, и некоторое время фобия находится в процессе развития.
Почему возникает вопрос, является ли эта фобия следствием обнаружения отсутствия пениса? Потому что эта собака, очевидно, является собакой, которая кусает, которая кусает за половой орган. Мы узнаем об этом по ходу анализа девочки, то есть, когда проследим и поймём то, что она говорит. В первой действительно длинной и согласованной фразе - речь идёт о ребёнке с некоторой задержкой развития - она говорит о том, что собаки кусают за ногу плохих мальчиков, именно это и являет в полной мере действие её фобии.
Также вы видите взаимосвязь между символизацией и объектом фобии. Позже мы обсудим, почему объектом фобии становится именно собака. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что собака здесь выступает в качестве агента, который отнимает то, что изначально было более-менее признано как отсутствующее.
Собираемся ли мы срезать углы и сказать, что в фобии речь попросту идёт о переходе на уровень закона - то есть о вмешательстве элемента, который, как я отметил выше, обладает полномочиями оправдать отсутствие отсутствующего тем, что это было откушено, отнято?
Схема, которую я постарался сегодня вам изложить, заключает в себе именно этот смысл. Мы постоянно делаем этот переход. Месье Джонс, например, говорит нам о нём очень чётко - в конечном счёте Сверх-Я для ребёнка может оказаться лишь воображаемым алиби, тогда как тревоги, именно они, являются первичными, примитивными. Другими словами, будучи недееспособной, культура со всеми её запретами обеспечивает покой для чего-то фундаментального, а именно для тревог в их разобщённом состоянии. Эта концепция кое в чём справедлива - это именно механизм фобии. Но механизм фобии есть механизм фобии, и расширять область его применения - как это делает Месье Пасхе в конце той статьи, о которой я говорил вам, когда дело доходит до утверждения, что с его помощью обосновывается инстинкт смерти, например, или что образы сновидения нужны лишь для того, чтобы субъект использовал их для облачения, для, что называется, облицовки своих тревог - значит постоянно впадать в то же самое заблуждение недооценки символического порядка, являющегося якобы только ширмой и прикрытием чего-то более фундаментального. Это ли я хочу сказать вам, представляя данный случай фобии? Нет.
Важный момент наблюдения состоит в том, что в нём с точностью указано на отсутствие матери в течение месяца, предшествующего вспышке фобии. Конечно, для установления фобии потребовалось гораздо больше времени - с момента обнаружения ребёнком своего афаллицизма (aphallicisme) до вспышки фобии прошло четыре месяца, но в этот период должно было произойти ещё кое-что. Сначала мать перестала приходить, она заболела, и возникла необходимость операции. Мать больше не символическая мать, мать пропала, но пока ничего критичного не произошло. Она возвращается, она снова играет с ребенком, пока всё идёт своим чередом. Она возвращается, опираясь на палку, она возвращается ослабленной, у неё нет прежнего участия, прежней веселости, тех еженедельных сближений и удалений, которые сохраняли достаточную для ребёнка связующую их нить. И именно в этот момент, соответственно, на третьем, весьма отдалённом по времени такте, возникает фобия.
Этот случай представлен нам как фобия, и действительно в одну прекрасную ночь маленькая девочка просыпается, охваченная сильным страхом. Ей приснилась собака, которая хочет её укусить. Она хочет перелечь из своей кровати в другую, и некоторое время фобия находится в процессе развития.
Почему возникает вопрос, является ли эта фобия следствием обнаружения отсутствия пениса? Потому что эта собака, очевидно, является собакой, которая кусает, которая кусает за половой орган. Мы узнаем об этом по ходу анализа девочки, то есть, когда проследим и поймём то, что она говорит. В первой действительно длинной и согласованной фразе - речь идёт о ребёнке с некоторой задержкой развития - она говорит о том, что собаки кусают за ногу плохих мальчиков, именно это и являет в полной мере действие её фобии.
Также вы видите взаимосвязь между символизацией и объектом фобии. Позже мы обсудим, почему объектом фобии становится именно собака. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что собака здесь выступает в качестве агента, который отнимает то, что изначально было более-менее признано как отсутствующее.
Собираемся ли мы срезать углы и сказать, что в фобии речь попросту идёт о переходе на уровень закона - то есть о вмешательстве элемента, который, как я отметил выше, обладает полномочиями оправдать отсутствие отсутствующего тем, что это было откушено, отнято?
Схема, которую я постарался сегодня вам изложить, заключает в себе именно этот смысл. Мы постоянно делаем этот переход. Месье Джонс, например, говорит нам о нём очень чётко - в конечном счёте Сверх-Я для ребёнка может оказаться лишь воображаемым алиби, тогда как тревоги, именно они, являются первичными, примитивными. Другими словами, будучи недееспособной, культура со всеми её запретами обеспечивает покой для чего-то фундаментального, а именно для тревог в их разобщённом состоянии. Эта концепция кое в чём справедлива - это именно механизм фобии. Но механизм фобии есть механизм фобии, и расширять область его применения - как это делает Месье Пасхе в конце той статьи, о которой я говорил вам, когда дело доходит до утверждения, что с его помощью обосновывается инстинкт смерти, например, или что образы сновидения нужны лишь для того, чтобы субъект использовал их для облачения, для, что называется, облицовки своих тревог - значит постоянно впадать в то же самое заблуждение недооценки символического порядка, являющегося якобы только ширмой и прикрытием чего-то более фундаментального. Это ли я хочу сказать вам, представляя данный случай фобии? Нет.
Важный момент наблюдения состоит в том, что в нём с точностью указано на отсутствие матери в течение месяца, предшествующего вспышке фобии. Конечно, для установления фобии потребовалось гораздо больше времени - с момента обнаружения ребёнком своего афаллицизма (aphallicisme) до вспышки фобии прошло четыре месяца, но в этот период должно было произойти ещё кое-что. Сначала мать перестала приходить, она заболела, и возникла необходимость операции. Мать больше не символическая мать, мать пропала, но пока ничего критичного не произошло. Она возвращается, она снова играет с ребенком, пока всё идёт своим чередом. Она возвращается, опираясь на палку, она возвращается ослабленной, у неё нет прежнего участия, прежней веселости, тех еженедельных сближений и удалений, которые сохраняли достаточную для ребёнка связующую их нить. И именно в этот момент, соответственно, на третьем, весьма отдалённом по времени такте, возникает фобия. Так, благодаря отчёту о наблюдении мы находим, что одного афаллицизма было недостаточно, вместе с ним был необходим этот второй разрыв ритма чередования уходов-возвращений матери. Мать появляется сначала как кто-то, кто может отсутствовать, и её нехватка определяет реакцию и поведение ребёнка - ребёнок очень грустит, и его нужно подбадривать, тем не менее фобии нет. Далее ребёнок снова видит свою мать - немощную, опирающуюся на палку, больную, уставшую, и на следующий день возникает сновидение о собаке и устанавливается фобия. В наблюдении есть другая вещь, более значимая и парадоксальная, о которой я хочу вам рассказать.
Мы ещё поговорим об этой фобии, о том, как на неё набросились терапевты, и что, по их мнению, они поняли. Пока я только хочу обозначить вопрос, который возникает по отношению к предпосылкам фобии. С какого момента фобия становится необходимой? С момента, когда мать утрачивает фаллос. Что именно таким образом определяет фобию? Что уравновешивается благодаря ей? Почему она оказывается достаточной? Мы займёмся этим в следующий раз.
Но есть ещё один не менее поразительный момент. После фобии, когда немецкие бомбардировки Великобритании во время Второй мировой войны прекращаются, мать забирает своего ребёнка и снова выходит замуж. У девочки появляются новый отец и новый брат - сын её отчима. Этот разом обретённый брат старше её примерно на пять лет, он затевает всевозможные игры, в которых проявляется одновременно преклонение и жестокость. Он просит её обнажаться, его действия по отношению к ней очевидно и полностью связаны с интересом, который она для него представляет постольку, поскольку не обладает пенисом (a-pénienne). И здесь её психотерапевт удивлён, ведь это должно было бы стать надёжным поводом для возобновления её фобии.
Действительно, теория окружающей среды, на которой основана вся терапия Анны Фрейд, указывает, что трудности возникают именно в том измерении, где Я (moi) более-менее хорошо осведомлено о реальности. Не должно ли присутствие ребёнка мужского пола, фигуры не только фаллической, но и обладающей пенисом, который олицетворяет её нехватку, послужить для маленькой девочки поводом для возобновления фобии? Совсем наоборот, нет и следа психического расстройства, она никогда не чувствовала себя так хорошо.
Впрочем, нам сообщают почему - потому что мать явно предпочитает её этому мальчику. Тем не менее отец присутствует достаточно, чтобы ввести новый элемент, о котором до настоящего момента мы не говорили, но который сущностно связан с работой фобии, а именно элемент символический, расположенный по другую сторону отношений с матерью, по другую сторону её могущества и её немощи, и освобождающий понятие могущества как такового от связи с матерью. Короче говоря, он заступает на место того, что казалось нам насыщенным фобией, того страха перед животным-кастратором, который служил, как оказалось, необходимым сущностным элементом артикуляции, позволившей девочке пройти через серьёзный кризис, в который она вошла, обнаружив материнскую немощь. Теперь ребёнок находит насыщение своей потребности в материнском присутствии, в присутствии отца и в придачу в отношениях с братом.
Но достаточно ли ясно видит это терапевт? Эти отношения, в которых она уже girl (девушка) брата, полны перспектив всевозможных патологий. Под другим углом мы можем увидеть, что она в этот момент превратилась в нечто большее, чем брат. Она
Так, благодаря отчёту о наблюдении мы находим, что одного афаллицизма было недостаточно, вместе с ним был необходим этот второй разрыв ритма чередования уходов-возвращений матери. Мать появляется сначала как кто-то, кто может отсутствовать, и её нехватка определяет реакцию и поведение ребёнка - ребёнок очень грустит, и его нужно подбадривать, тем не менее фобии нет. Далее ребёнок снова видит свою мать - немощную, опирающуюся на палку, больную, уставшую, и на следующий день возникает сновидение о собаке и устанавливается фобия. В наблюдении есть другая вещь, более значимая и парадоксальная, о которой я хочу вам рассказать.
Мы ещё поговорим об этой фобии, о том, как на неё набросились терапевты, и что, по их мнению, они поняли. Пока я только хочу обозначить вопрос, который возникает по отношению к предпосылкам фобии. С какого момента фобия становится необходимой? С момента, когда мать утрачивает фаллос. Что именно таким образом определяет фобию? Что уравновешивается благодаря ей? Почему она оказывается достаточной? Мы займёмся этим в следующий раз.
Но есть ещё один не менее поразительный момент. После фобии, когда немецкие бомбардировки Великобритании во время Второй мировой войны прекращаются, мать забирает своего ребёнка и снова выходит замуж. У девочки появляются новый отец и новый брат - сын её отчима. Этот разом обретённый брат старше её примерно на пять лет, он затевает всевозможные игры, в которых проявляется одновременно преклонение и жестокость. Он просит её обнажаться, его действия по отношению к ней очевидно и полностью связаны с интересом, который она для него представляет постольку, поскольку не обладает пенисом (a-pénienne). И здесь её психотерапевт удивлён, ведь это должно было бы стать надёжным поводом для возобновления её фобии.
Действительно, теория окружающей среды, на которой основана вся терапия Анны Фрейд, указывает, что трудности возникают именно в том измерении, где Я (moi) более-менее хорошо осведомлено о реальности. Не должно ли присутствие ребёнка мужского пола, фигуры не только фаллической, но и обладающей пенисом, который олицетворяет её нехватку, послужить для маленькой девочки поводом для возобновления фобии? Совсем наоборот, нет и следа психического расстройства, она никогда не чувствовала себя так хорошо.
Впрочем, нам сообщают почему - потому что мать явно предпочитает её этому мальчику. Тем не менее отец присутствует достаточно, чтобы ввести новый элемент, о котором до настоящего момента мы не говорили, но который сущностно связан с работой фобии, а именно элемент символический, расположенный по другую сторону отношений с матерью, по другую сторону её могущества и её немощи, и освобождающий понятие могущества как такового от связи с матерью. Короче говоря, он заступает на место того, что казалось нам насыщенным фобией, того страха перед животным-кастратором, который служил, как оказалось, необходимым сущностным элементом артикуляции, позволившей девочке пройти через серьёзный кризис, в который она вошла, обнаружив материнскую немощь. Теперь ребёнок находит насыщение своей потребности в материнском присутствии, в присутствии отца и в придачу в отношениях с братом.
Но достаточно ли ясно видит это терапевт? Эти отношения, в которых она уже girl (девушка) брата, полны перспектив всевозможных патологий. Под другим углом мы можем увидеть, что она в этот момент превратилась в нечто большее, чем брат. Она определённо стала дМ-/а11и$ (девушкой-фаллосом), о которой мы так много говорим. Дело в том, чтобы понять, в какой мере она не будет впоследствии включена в эту воображаемую функцию до конца.
Но на данный момент никакой насущной надобности завершить артикуляцию фаллического фантазма нет, поскольку есть отец и его достаточно. Достаточно для того, чтобы поддерживать дистанцию между тремя позициями - мать-ребёнок-фаллос -дистанцию достаточную, чтобы субъекту для её поддержания не приходилось отдавать себя, вкладываться самому.
Как поддерживается этот разрыв, каким путём, какой идентификацией, каким ухищрением? Это то, с чего мы начнём в следующий раз, когда повторно возьмёмся за наблюдение этого случая. Одновременно мы подойдём к тому, что наиболее характерно для доэдипальных объектных отношений, а именно к появлению объекта фетиша.
12 декабря 1956
определённо стала дМ-/а11и$ (девушкой-фаллосом), о которой мы так много говорим. Дело в том, чтобы понять, в какой мере она не будет впоследствии включена в эту воображаемую функцию до конца.
Но на данный момент никакой насущной надобности завершить артикуляцию фаллического фантазма нет, поскольку есть отец и его достаточно. Достаточно для того, чтобы поддерживать дистанцию между тремя позициями - мать-ребёнок-фаллос -дистанцию достаточную, чтобы субъекту для её поддержания не приходилось отдавать себя, вкладываться самому.
Как поддерживается этот разрыв, каким путём, какой идентификацией, каким ухищрением? Это то, с чего мы начнём в следующий раз, когда повторно возьмёмся за наблюдение этого случая. Одновременно мы подойдём к тому, что наиболее характерно для доэдипальных объектных отношений, а именно к появлению объекта фетиша.
12 декабря 1956
 локализировано и живо ощущается аналитиком. Поскольку в соответствии с условиями аналитических отношений субъект вынужден сдерживать свои движения, то именно на этом уровне локализируется, по разумению аналитика, то, что должно проявить себя, а именно возникающее влечение.
В конечном счёте, представленная таким образом ситуация может выражаться только в эротической агрессии. Если оная не проявляется, то происходит так потому, что существует договорённость её не проявлять, но при этом желательно, чтобы, если можно так выразиться, непрестанно поддерживалась эрекция. Именно в этом измерении, где в рамках аналитического соглашения - фактически правила - не может иметь места двигательное проявление влечения, у нас появляется возможность обнаружить то, что вмешивается в основополагающую ситуацию, и увидеть, как отношения с внешним объектом накладываются на отношения с объектом внутренним. Согласно обсуждаемой статье, в действительности субъект имеет отношения с внутренним объектом, который является присутствующей персоной, но вовлечённой в уже сформированные у субъекта воображаемые механизмы и превратившейся в объект фантазматических отношений. Между этим воображаемым объектом и объектом реальным существует определённое несоответствие (discordance), с учётом которого аналитик будет оцениваться и должен будет модулировать свои вмешательства. Поскольку, согласно этой концепции, в аналитической ситуации не может быть никого другого, кроме её непосредственных участников, один из авторов, а вслед за ним и все прочие ввели понятие невротической дистанции, которую субъект устанавливает по отношению к объекту. Фантазматический или внутренний объект, по крайней мере в той заторможенной позиции, в которой он находится, и таким образом субъектом переживаемый, должен быть переведён на реальную дистанцию, которая разделяет субъекта и аналитика. Именно в этом измерении субъект осознает своего аналитика как реальное присутствие.
Здесь авторы заходят очень далеко. Я уже несколько раз упоминал, как один из них, правда в период забот о построении своей карьеры, определил как поворотную, решающую точку в анализе момент, когда его анализируемый смог его ощутить. Это не было метафорой, речь шла не о том, что он смог почувствовать его психологически, речь шла о том, что пациент ощутил запах аналитика. Выявление обонятельного отношения и выведение его на первый план является математически ожидаемым следствием подобной концепции аналитических отношений. С тех пор, как они рассматриваются в качестве реальных, хотя и ограниченных, рамок, внутри которых мало-помалу должна обнаруживать себя дистанция активного присутствия при взаимодействии с аналитиком, одним из самых прямых способов связи с другим становится дистанционная связь, которую обеспечивает обоняние.
Учтите, что я привёл не какой-то исключительный пример, но то, о чём говорилось множество раз. И, кажется, в этой среде все больше и больше значения придаётся именно таким способам понимания.
Вот к чему сводится осмысление аналитической позиции, когда предполагается, что она вписывается в ситуацию реальных отношений между двумя персонажами, что в этой ограде они отделены друг от друга установленным по договорённости барьером и что-то должно там произойти. После знакомства с теорией взглянем на последствия её применения в практике.
локализировано и живо ощущается аналитиком. Поскольку в соответствии с условиями аналитических отношений субъект вынужден сдерживать свои движения, то именно на этом уровне локализируется, по разумению аналитика, то, что должно проявить себя, а именно возникающее влечение.
В конечном счёте, представленная таким образом ситуация может выражаться только в эротической агрессии. Если оная не проявляется, то происходит так потому, что существует договорённость её не проявлять, но при этом желательно, чтобы, если можно так выразиться, непрестанно поддерживалась эрекция. Именно в этом измерении, где в рамках аналитического соглашения - фактически правила - не может иметь места двигательное проявление влечения, у нас появляется возможность обнаружить то, что вмешивается в основополагающую ситуацию, и увидеть, как отношения с внешним объектом накладываются на отношения с объектом внутренним. Согласно обсуждаемой статье, в действительности субъект имеет отношения с внутренним объектом, который является присутствующей персоной, но вовлечённой в уже сформированные у субъекта воображаемые механизмы и превратившейся в объект фантазматических отношений. Между этим воображаемым объектом и объектом реальным существует определённое несоответствие (discordance), с учётом которого аналитик будет оцениваться и должен будет модулировать свои вмешательства. Поскольку, согласно этой концепции, в аналитической ситуации не может быть никого другого, кроме её непосредственных участников, один из авторов, а вслед за ним и все прочие ввели понятие невротической дистанции, которую субъект устанавливает по отношению к объекту. Фантазматический или внутренний объект, по крайней мере в той заторможенной позиции, в которой он находится, и таким образом субъектом переживаемый, должен быть переведён на реальную дистанцию, которая разделяет субъекта и аналитика. Именно в этом измерении субъект осознает своего аналитика как реальное присутствие.
Здесь авторы заходят очень далеко. Я уже несколько раз упоминал, как один из них, правда в период забот о построении своей карьеры, определил как поворотную, решающую точку в анализе момент, когда его анализируемый смог его ощутить. Это не было метафорой, речь шла не о том, что он смог почувствовать его психологически, речь шла о том, что пациент ощутил запах аналитика. Выявление обонятельного отношения и выведение его на первый план является математически ожидаемым следствием подобной концепции аналитических отношений. С тех пор, как они рассматриваются в качестве реальных, хотя и ограниченных, рамок, внутри которых мало-помалу должна обнаруживать себя дистанция активного присутствия при взаимодействии с аналитиком, одним из самых прямых способов связи с другим становится дистанционная связь, которую обеспечивает обоняние.
Учтите, что я привёл не какой-то исключительный пример, но то, о чём говорилось множество раз. И, кажется, в этой среде все больше и больше значения придаётся именно таким способам понимания.
Вот к чему сводится осмысление аналитической позиции, когда предполагается, что она вписывается в ситуацию реальных отношений между двумя персонажами, что в этой ограде они отделены друг от друга установленным по договорённости барьером и что-то должно там произойти. После знакомства с теорией взглянем на последствия её применения в практике. Сразу понятно, что столь неправдоподобная концепция не может быть доведена до логического конца. С другой стороны, если то, чему я вас учу, верно, то даже если практик пользуется такой концепцией, ситуация, в которой он находится, в действительности не соответствует тому, что в указанной концепции описано. Ситуацию недостаточно определённым образом представить, чтобы она оказалась таковой в действительности. Дело пойдёт вкривь и вкось по причине того, каким образом эта ситуация продумана, но реально она всё же останется такой, какой я попытался представить её на схеме взаимного вмешательства и пересечения отношений символических и отношений воображаемых, где одни служат фильтром для других. Ситуация, несмотря на неверное её понимание, остается прежней, что красноречиво говорит о неудовлетворительности этой концепции. И наоборот, эта неудовлетворительность может, некоторым образом, благотворно повлиять на окончательное разрешение всей ситуации в целом.
Именно таким образом аналитическая ситуация оказывается представленной в качестве реальной ситуации, в которой осуществляется операция сведения воображаемого к реальному. В рамках этой операции разворачивается ряд феноменов, позволяющих обозначить различные этапы, на которых субъект остаётся более или менее встроенным в эти воображаемые отношения или закреплённым в них. Таким образом происходит то, что называется исчерпывающей проработкой различных позиций субъекта, которые по своей сути являются воображаемыми, вследствие чего всё более важную роль в анализе играют догенитальные отношения.
Единственный момент, который такая концепция аналитической ситуации никак не проясняет, и который не является пустяковым, поскольку как раз в нём-то всё дело и состоит, можно обозначить так: какое место в этой ситуации занимает речь? Мы этого не знаем, тем не менее это не значит, что мы могли бы без прояснения этого момента обойтись. В такой позиции никак не обсуждается функция языка и речи. Впрочем, мы видим один особый случай, когда значение придаётся единичной импульсивной вербализации, возгласу в адрес аналитика типа - почему же вы мне не отвечаете? Вы найдёте это в текстах указанных выше авторов в чётко сформулированном виде. Для них вербализация имеет значение лишь постольку, поскольку импульсивна, то есть является проявлением двигательной активности.
К чему приводит операция регулировки дистанции с внутренним объектом, когда ей подчиняется вся техника? Наша схема позволяет это понять.
Линия а-а' представляет воображаемые отношения, которые соединяют субъекта более или менее рассогласованного, разобщённого, подверженного распаду, с объединяющим нарциссическим образом, который является образом маленького другого. По линии S-A, которая линией ещё не является, поскольку установить её только предстоит, осуществляются отношения субъекта с Другим. Другой неявляется только присутствующим там другим, но буквально является местом речи. Существует уже структурированное в отношениях речи потустороннее, большой Другой по ту сторону от маленького другого, которого мы воспринимаем в воображении. Этот предполагаемый большой Другой есть субъект как таковой, субъект, в котором образуется ваша речь, поскольку он может не только принимать и воспринимать её в качестве речи, но и отвечать. Именно на этой линии устанавливается всё то, что относится к режиму переноса: воображаемое здесь играет роль фильтра, даже препятствия. Конечно, в каждом неврозе субъект уже имеет, если можно так выразиться, свои собственные
Сразу понятно, что столь неправдоподобная концепция не может быть доведена до логического конца. С другой стороны, если то, чему я вас учу, верно, то даже если практик пользуется такой концепцией, ситуация, в которой он находится, в действительности не соответствует тому, что в указанной концепции описано. Ситуацию недостаточно определённым образом представить, чтобы она оказалась таковой в действительности. Дело пойдёт вкривь и вкось по причине того, каким образом эта ситуация продумана, но реально она всё же останется такой, какой я попытался представить её на схеме взаимного вмешательства и пересечения отношений символических и отношений воображаемых, где одни служат фильтром для других. Ситуация, несмотря на неверное её понимание, остается прежней, что красноречиво говорит о неудовлетворительности этой концепции. И наоборот, эта неудовлетворительность может, некоторым образом, благотворно повлиять на окончательное разрешение всей ситуации в целом.
Именно таким образом аналитическая ситуация оказывается представленной в качестве реальной ситуации, в которой осуществляется операция сведения воображаемого к реальному. В рамках этой операции разворачивается ряд феноменов, позволяющих обозначить различные этапы, на которых субъект остаётся более или менее встроенным в эти воображаемые отношения или закреплённым в них. Таким образом происходит то, что называется исчерпывающей проработкой различных позиций субъекта, которые по своей сути являются воображаемыми, вследствие чего всё более важную роль в анализе играют догенитальные отношения.
Единственный момент, который такая концепция аналитической ситуации никак не проясняет, и который не является пустяковым, поскольку как раз в нём-то всё дело и состоит, можно обозначить так: какое место в этой ситуации занимает речь? Мы этого не знаем, тем не менее это не значит, что мы могли бы без прояснения этого момента обойтись. В такой позиции никак не обсуждается функция языка и речи. Впрочем, мы видим один особый случай, когда значение придаётся единичной импульсивной вербализации, возгласу в адрес аналитика типа - почему же вы мне не отвечаете? Вы найдёте это в текстах указанных выше авторов в чётко сформулированном виде. Для них вербализация имеет значение лишь постольку, поскольку импульсивна, то есть является проявлением двигательной активности.
К чему приводит операция регулировки дистанции с внутренним объектом, когда ей подчиняется вся техника? Наша схема позволяет это понять.
Линия а-а' представляет воображаемые отношения, которые соединяют субъекта более или менее рассогласованного, разобщённого, подверженного распаду, с объединяющим нарциссическим образом, который является образом маленького другого. По линии S-A, которая линией ещё не является, поскольку установить её только предстоит, осуществляются отношения субъекта с Другим. Другой неявляется только присутствующим там другим, но буквально является местом речи. Существует уже структурированное в отношениях речи потустороннее, большой Другой по ту сторону от маленького другого, которого мы воспринимаем в воображении. Этот предполагаемый большой Другой есть субъект как таковой, субъект, в котором образуется ваша речь, поскольку он может не только принимать и воспринимать её в качестве речи, но и отвечать. Именно на этой линии устанавливается всё то, что относится к режиму переноса: воображаемое здесь играет роль фильтра, даже препятствия. Конечно, в каждом неврозе субъект уже имеет, если можно так выразиться, свои собственные настройки. Регулировка по отношению к образу помогает ему одновременно слышать и не слышать то, что можно услышать в месте речи.
Остановимся на следующем. Если наши усилия, наши интересы сосредотачиваются исключительно на воображаемых отношениях, которые располагаются поперёк направления отношений речи; если мы игнорируем связь между воображаемым напряжением и тем, как должны реализовываться, проявляться бессознательные символические отношения, в то время как именно в этом и заключается вся суть аналитического учения; если мы забываем, что есть нечто, позволяющее сюжету свершиться, реализоваться и в истории, и в признании; если мы пренебрегаем связью воображаемых и символических отношений и той невозможностью становления символического, которая конституирует невроз; если мы не рассматриваем одно в зависимости от другого, если мы интересуемся лишь тем, что приверженцы этой концепции называют дистанцией, которую можно регулировать и в итоге свести на нет, как если бы это было возможно, принимая в расчет лишь её одну -то имейте в виду, что результаты такого подхода уже перед нами. Мы получаем свидетельства о них из рук субъектов, которых аналитики воспринимали и исследовали именно так. Когда представление о развитии всей аналитической ситуации полагается на пресловутую дистанцию, которая считается отличительной чертой объектных отношений невроза навязчивости, мы надёжно получаем то, что можно назвать парадоксальными перверсивными реакциями.
Теперь мы наблюдаем явления в высшей степени необыкновенные, их едва ли можно было встретить в аналитической литературе до той поры, пока это техническое нововведение не вышло на первый план. Я имею в виду, например, бурный рост числа случаев гомосексуальной привязанности к своего рода парадоксальному объекту, который представляет собой нечто искусственное, образ, сгустившийся и кристаллизовавшийся вокруг лежащих в пределах досягаемости субъекта объектов. Феномен может демонстрировать довольно продолжительное, стойкое присутствие.
Всё это не удивит нас, если мы обратимся к воображаемой триаде мать-ребёнок-фаллос.
2
В пункте, к которому мы подошли в прошлый раз, вы видели, как намечается линия исследования воображаемой триады мать-ребёнок-фаллос. Это было прелюдией к подключению символических отношений, которые формируются только с появлением четвёртой функции, функции отца, вводимой измерением Эдипа.
Сама по себе триада доэдипальна. Саму по себе её можно рассматривать лишь отвлечённо, она интересует нас только в своём развитии, то есть в составе квартета с включением отцовской функции, с того момента, который приносит ребёнку его главное разочарование, с момента, когда он узнаёт - мы оставим открытым вопрос, как именно - не только о том, что для матери он не единственный объект, но и о том, что главный предмет материнского интереса, дающий, в зависимости от обстоятельств, в большей или меньшей степени себя знать, - это фаллос. В свете этого знания ребёнок обнаруживает, что мать этого объекта действительно лишена, что у неё самой его как раз нет. Вот тот пункт, к которому мы подошли в прошлый раз.
настройки. Регулировка по отношению к образу помогает ему одновременно слышать и не слышать то, что можно услышать в месте речи.
Остановимся на следующем. Если наши усилия, наши интересы сосредотачиваются исключительно на воображаемых отношениях, которые располагаются поперёк направления отношений речи; если мы игнорируем связь между воображаемым напряжением и тем, как должны реализовываться, проявляться бессознательные символические отношения, в то время как именно в этом и заключается вся суть аналитического учения; если мы забываем, что есть нечто, позволяющее сюжету свершиться, реализоваться и в истории, и в признании; если мы пренебрегаем связью воображаемых и символических отношений и той невозможностью становления символического, которая конституирует невроз; если мы не рассматриваем одно в зависимости от другого, если мы интересуемся лишь тем, что приверженцы этой концепции называют дистанцией, которую можно регулировать и в итоге свести на нет, как если бы это было возможно, принимая в расчет лишь её одну -то имейте в виду, что результаты такого подхода уже перед нами. Мы получаем свидетельства о них из рук субъектов, которых аналитики воспринимали и исследовали именно так. Когда представление о развитии всей аналитической ситуации полагается на пресловутую дистанцию, которая считается отличительной чертой объектных отношений невроза навязчивости, мы надёжно получаем то, что можно назвать парадоксальными перверсивными реакциями.
Теперь мы наблюдаем явления в высшей степени необыкновенные, их едва ли можно было встретить в аналитической литературе до той поры, пока это техническое нововведение не вышло на первый план. Я имею в виду, например, бурный рост числа случаев гомосексуальной привязанности к своего рода парадоксальному объекту, который представляет собой нечто искусственное, образ, сгустившийся и кристаллизовавшийся вокруг лежащих в пределах досягаемости субъекта объектов. Феномен может демонстрировать довольно продолжительное, стойкое присутствие.
Всё это не удивит нас, если мы обратимся к воображаемой триаде мать-ребёнок-фаллос.
2
В пункте, к которому мы подошли в прошлый раз, вы видели, как намечается линия исследования воображаемой триады мать-ребёнок-фаллос. Это было прелюдией к подключению символических отношений, которые формируются только с появлением четвёртой функции, функции отца, вводимой измерением Эдипа.
Сама по себе триада доэдипальна. Саму по себе её можно рассматривать лишь отвлечённо, она интересует нас только в своём развитии, то есть в составе квартета с включением отцовской функции, с того момента, который приносит ребёнку его главное разочарование, с момента, когда он узнаёт - мы оставим открытым вопрос, как именно - не только о том, что для матери он не единственный объект, но и о том, что главный предмет материнского интереса, дающий, в зависимости от обстоятельств, в большей или меньшей степени себя знать, - это фаллос. В свете этого знания ребёнок обнаруживает, что мать этого объекта действительно лишена, что у неё самой его как раз нет. Вот тот пункт, к которому мы подошли в прошлый раз. Я показал вам это на случае проходящей фобии у ребёнка в самом раннем возрасте. Это очень подходящий для изучения фобии случай, поскольку события происходят непосредственно перед и в момент установления эдипальных отношений. Сначала имеет место двойное воображаемое разочарование - обнаружение ребёнком недостающего ему фаллоса, далее вторым тактом следует осознание того, что у матери, той матери, которая находится на границе символического и реального, также существует нехватка фаллоса. Далее следует воззвание (appel) ребёнка к тому, что может поддержать эти пошатнувшиеся отношения. Это момент образования фобии с вмешательством фантазматического существа, собаки, которая назначается, собственно говоря, ответственной за всю ситуацию как та, которая кусает и наказывает, благодаря чему ситуация, по крайней мере на какое-то время, в целом становится постижимой, символически освоенной.
Когда сцепление трёх воображаемых объектов разорвано, есть более чем одно возможное решение. Решение приведёт либо к нормальной, либо к ненормальной ситуации.
Что происходит в нормальной эдипальной ситуации? Именно посредством определённого соперничества субъекта с отцом, акцентированного идентификацией при смене отношений, устанавливается то, что позволяет субъекту обнаружить себя в определённых границах, именно тех, благодаря которым он входит в символические отношения и в фаллическую силу. У мальчика и девочки это происходит по-разному.
Случай мальчика совершенно понятен. Недавно я уже говорил о ребёнке как о реальном существе, которое мать принимает за символ своей нехватки объекта, своего воображаемого аппетита к фаллосу. Нормальный исход ситуации состоит в том, что ребёнок символически обретает фаллос, в котором он нуждается. Но для того, чтобы он в нём нуждался, предварительно необходима угроза его потери со стороны кастрирующей инстанции, которая исходно является отцовской инстанцией. Именно в символическом плане, то есть в плане некоторого соглашения, дающего право на обладание фаллосом, устанавливается эта мужская идентификация, представляющая собой основу нормативных эдипальных отношений.
Я сделаю здесь попутное замечание, касающееся довольно своеобразных формулировок, которые появились под пером Фрейда в целях различения отношений анаклитических и отношений нарциссических. Они весьма специфичные, даже парадоксальные.
В либидинальных отношениях у подростков Фрейд различает два типа объекта любви: анаклитический объект любви, который отмечен первичной зависимостью от матери, и объект нарциссической любви, моделью которого служит нарциссический образ самого субъекта, который мы постарались здесь проработать с точки зрения его укоренённости в зеркальном отношении к другому.
Слово анаклитический, хотя мы и обязаны им Фрейду, здесь не подходит, поскольку в действительности на греческом оно не имеет того смысла, который придаёт ему Фрейд от немецкого слова Anlehnung, опора. Тем не менее это стало поводом для всевозможных недоразумений, некоторые дошли даже до того, что эту опору рассматривают в качестве защитной реакции. На самом деле, если мы читаем Фрейда, мы прекрасно видим, что речь идёт о потребности в поддержке, которая только и ждёт возможности обнаружить себя на стороне отношений зависимости.
Я показал вам это на случае проходящей фобии у ребёнка в самом раннем возрасте. Это очень подходящий для изучения фобии случай, поскольку события происходят непосредственно перед и в момент установления эдипальных отношений. Сначала имеет место двойное воображаемое разочарование - обнаружение ребёнком недостающего ему фаллоса, далее вторым тактом следует осознание того, что у матери, той матери, которая находится на границе символического и реального, также существует нехватка фаллоса. Далее следует воззвание (appel) ребёнка к тому, что может поддержать эти пошатнувшиеся отношения. Это момент образования фобии с вмешательством фантазматического существа, собаки, которая назначается, собственно говоря, ответственной за всю ситуацию как та, которая кусает и наказывает, благодаря чему ситуация, по крайней мере на какое-то время, в целом становится постижимой, символически освоенной.
Когда сцепление трёх воображаемых объектов разорвано, есть более чем одно возможное решение. Решение приведёт либо к нормальной, либо к ненормальной ситуации.
Что происходит в нормальной эдипальной ситуации? Именно посредством определённого соперничества субъекта с отцом, акцентированного идентификацией при смене отношений, устанавливается то, что позволяет субъекту обнаружить себя в определённых границах, именно тех, благодаря которым он входит в символические отношения и в фаллическую силу. У мальчика и девочки это происходит по-разному.
Случай мальчика совершенно понятен. Недавно я уже говорил о ребёнке как о реальном существе, которое мать принимает за символ своей нехватки объекта, своего воображаемого аппетита к фаллосу. Нормальный исход ситуации состоит в том, что ребёнок символически обретает фаллос, в котором он нуждается. Но для того, чтобы он в нём нуждался, предварительно необходима угроза его потери со стороны кастрирующей инстанции, которая исходно является отцовской инстанцией. Именно в символическом плане, то есть в плане некоторого соглашения, дающего право на обладание фаллосом, устанавливается эта мужская идентификация, представляющая собой основу нормативных эдипальных отношений.
Я сделаю здесь попутное замечание, касающееся довольно своеобразных формулировок, которые появились под пером Фрейда в целях различения отношений анаклитических и отношений нарциссических. Они весьма специфичные, даже парадоксальные.
В либидинальных отношениях у подростков Фрейд различает два типа объекта любви: анаклитический объект любви, который отмечен первичной зависимостью от матери, и объект нарциссической любви, моделью которого служит нарциссический образ самого субъекта, который мы постарались здесь проработать с точки зрения его укоренённости в зеркальном отношении к другому.
Слово анаклитический, хотя мы и обязаны им Фрейду, здесь не подходит, поскольку в действительности на греческом оно не имеет того смысла, который придаёт ему Фрейд от немецкого слова Anlehnung, опора. Тем не менее это стало поводом для всевозможных недоразумений, некоторые дошли даже до того, что эту опору рассматривают в качестве защитной реакции. На самом деле, если мы читаем Фрейда, мы прекрасно видим, что речь идёт о потребности в поддержке, которая только и ждёт возможности обнаружить себя на стороне отношений зависимости. Если мы продвинемся ещё дальше, мы увидим, что в противопоставлении Фрейдом двух форм отношений, анаклитических и нарциссических, существуют своеобразные противоречия. Очень странно, что в разговоре об анаклитических отношениях речь гораздо больше идёт о необходимости быть любимым, чем о необходимости любить. Наоборот, и очень парадоксально, нарцисс вдруг представлен удивительным для нас образом. Действительно, выглядит так, что весьма специфическому нарциссическому поведению присущ элемент активности, который проявляет себя в таком поведении, поскольку оно до некоторой степени всегда игнорирует другого. Фрейд, напротив, приписывает ему и вручает как атрибут именно потребность любить в качестве естественной черты, которую в других терминах мы могли бы назвать жертвенностью, что может только озадачить.
Эти парадоксальные перспективы очередной раз берут своё начало и свою обоснованность в заблуждении относительно позиции внутрисубъектных (т1газиУес1&$) элементов.
Анаклитические отношения там, где они представляют интерес, то есть в их устоявшемся состоянии у взрослого, всегда рассматриваются как пережиток и задержка так называемой инфантильной позиции. Фрейд в своей статье о типах либидо определяет эту позицию ни больше ни меньше как позицию эротическую, чем указывает на то, что это наиболее открытая позиция. Мы упускаем суть, не замечая, что именно постольку, поскольку в символических отношениях субъект в мужской позиции обнаруживает себя наделённым фаллосом как таковым, как принадлежащим ему на законных основаниях, он становится носителем объекта желания для объекта, наследующего материнскому, для объекта, вновь найденного и отмеченного первичными отношениями с матерью, который в принципе является объектом в его нормальной эдипальной позиции, то есть для объекта, которым с самого начала фрейдовского изложения является женщина. Именно в силу того, что женщина зависит от фаллоса, для которого отныне он выступает хозяином, представителем, хранителем, позиция становится анаклитической.
Отношения зависимости устанавливаются постольку, поскольку,
идентифицируясь с другим, с объективированным партнёром, субъект понимает, что он для неё незаменим, он, и только он удовлетворяет её, поскольку он в принципе является единственным хранителем объекта желания матери. Именно в свете такого освоения эдипальной позиции субъект способен занять позицию, которую мы с определённой точки зрения можем квалифицировать как оптимальную по отношению к вновь найденному объекту, наследующему первичному материнскому объекту, для которого он сам становится незаменимым и понимающим свою незаменимость объектом. Часть эротической жизни субъектов, вовлечённых в этот либидинальный сюжет, полностью обусловлена некогда испытанной и утвердившейся потребностью в Другом, в женской материнской фигуре, которая испытывает необходимость найти в нём свой фаллический объект. Вот в чём состоит суть анаклитических отношений в их противопоставлении отношениям нарциссическим.
Это отступление предназначалось для того, чтобы продемонстрировать вам пользу от привнесения диалектики трёх первых объектов и четвёртого термина, который всех их обнимает и связывает в символических отношениях, а именно отца. Это понятие вводит символические отношения и вместе с этим даёт возможность выйти за рамки отношений фрустрации и перейти на уровень отношений кастрации, что уже совсем
Если мы продвинемся ещё дальше, мы увидим, что в противопоставлении Фрейдом двух форм отношений, анаклитических и нарциссических, существуют своеобразные противоречия. Очень странно, что в разговоре об анаклитических отношениях речь гораздо больше идёт о необходимости быть любимым, чем о необходимости любить. Наоборот, и очень парадоксально, нарцисс вдруг представлен удивительным для нас образом. Действительно, выглядит так, что весьма специфическому нарциссическому поведению присущ элемент активности, который проявляет себя в таком поведении, поскольку оно до некоторой степени всегда игнорирует другого. Фрейд, напротив, приписывает ему и вручает как атрибут именно потребность любить в качестве естественной черты, которую в других терминах мы могли бы назвать жертвенностью, что может только озадачить.
Эти парадоксальные перспективы очередной раз берут своё начало и свою обоснованность в заблуждении относительно позиции внутрисубъектных (т1газиУес1&$) элементов.
Анаклитические отношения там, где они представляют интерес, то есть в их устоявшемся состоянии у взрослого, всегда рассматриваются как пережиток и задержка так называемой инфантильной позиции. Фрейд в своей статье о типах либидо определяет эту позицию ни больше ни меньше как позицию эротическую, чем указывает на то, что это наиболее открытая позиция. Мы упускаем суть, не замечая, что именно постольку, поскольку в символических отношениях субъект в мужской позиции обнаруживает себя наделённым фаллосом как таковым, как принадлежащим ему на законных основаниях, он становится носителем объекта желания для объекта, наследующего материнскому, для объекта, вновь найденного и отмеченного первичными отношениями с матерью, который в принципе является объектом в его нормальной эдипальной позиции, то есть для объекта, которым с самого начала фрейдовского изложения является женщина. Именно в силу того, что женщина зависит от фаллоса, для которого отныне он выступает хозяином, представителем, хранителем, позиция становится анаклитической.
Отношения зависимости устанавливаются постольку, поскольку,
идентифицируясь с другим, с объективированным партнёром, субъект понимает, что он для неё незаменим, он, и только он удовлетворяет её, поскольку он в принципе является единственным хранителем объекта желания матери. Именно в свете такого освоения эдипальной позиции субъект способен занять позицию, которую мы с определённой точки зрения можем квалифицировать как оптимальную по отношению к вновь найденному объекту, наследующему первичному материнскому объекту, для которого он сам становится незаменимым и понимающим свою незаменимость объектом. Часть эротической жизни субъектов, вовлечённых в этот либидинальный сюжет, полностью обусловлена некогда испытанной и утвердившейся потребностью в Другом, в женской материнской фигуре, которая испытывает необходимость найти в нём свой фаллический объект. Вот в чём состоит суть анаклитических отношений в их противопоставлении отношениям нарциссическим.
Это отступление предназначалось для того, чтобы продемонстрировать вам пользу от привнесения диалектики трёх первых объектов и четвёртого термина, который всех их обнимает и связывает в символических отношениях, а именно отца. Это понятие вводит символические отношения и вместе с этим даёт возможность выйти за рамки отношений фрустрации и перейти на уровень отношений кастрации, что уже совсем


 Анаклитическая фрейдовская теория формулирует как таковое это трансиндивидуальное измерение и называет Эросом единство двух индивидов, где каждый исторгнут из себя самого и на более или менее хрупкое и мимолётное, даже призрачное мгновение становится неотъемлемой частью этого единства. Такое объединение происходит в определённые моменты перверсии, но суть перверсии состоит именно в том, что это единство никогда не может быть достигнуто, кроме как в те моменты, которые не упорядочены символически.
В фетишизме субъект говорит себе, что наконец обрёл свой исключительный объект, тем более совершенный и удовлетворяющий в силу того, что он неодушевлённый. А посему отношения с ним будут, по крайней мере, более спокойными и не принесут разочарования. Любить туфлю действительно означает иметь объект своих желаний под рукой. Такой объект, полностью лишённый своей субъективной, интерсубъективной, даже транссубъективной ценности, гораздо более надёжен. Для реализации условия нехватки как таковой решение фетишиста, несомненно, одно из наиболее подходящих, и мы видим его действительное осуществление.
Поскольку специфика воображаемых отношений состоит в совершенной взаимной обратимости (réciproques) и поскольку это зеркальные отношения, нам следует ожидать время от времени проявления у фетишиста позиции идентификации не с матерью, а с объектом. Это действительно то, что мы видим в ходе анализа фетишиста, потому что эта позиция как таковая всегда оказывается наименее удовлетворительной. Для того, чтобы мимолётный манящий отблеск объекта, бывшего некогда материнским объектом, субъекта удовлетворил, недостаточно установить общее эротическое равновесие. И действительно, когда он идентифицирует себя с объектом, то он, если можно так выразиться, теряет свой первичный объект, а именно мать, и определяет себя самого по отношению к ней в качестве разрушительного объекта. Эта бесконечная игра, это глубинное удвоение отмечает любое проявление фетишизма.
Это настолько очевидно, что некая Филлис Гринакр, серьёзно исследовавшая основу фетишистских отношений, приходит к формулировке, что это похоже на присутствие субъекта, который чрезвычайно быстро демонстрирует вам свой собственный образ в двух противоположно установленных зеркалах. Она делает такой вывод, не понимая толком, каким образом она к нему пришла, поскольку формула возникла как гром среди ясного неба, но у неё внезапно появилось чувство, что это именно так: субъект никогда не оказывается там, где бы ему следовало быть, он покинул своё место, он перешёл в зеркальные отношения матери и фаллоса и поочерёдно занимает то одну, то другую позицию. Стабилизация достигается только введением единого символа, привилегированного и в то же время непостоянного, который является конкретным объектом фетишизма, то есть чем-то, что символизирует фаллос.
Поэтому именно идентичными или по меньшей мере аналогичными тем отношениям, которые представляются нам по сути своей перверсивными, должны выглядеть результаты, по крайней мере переходные, такого использования аналитических отношений, при котором они целиком сориентированы на объектные отношения, которые учитывают только воображаемое и реальное, причём воображаемые отношения целиком настраиваются на пресловутое реальное присутствие аналитика.
В этом мы сейчас убедимся.
Анаклитическая фрейдовская теория формулирует как таковое это трансиндивидуальное измерение и называет Эросом единство двух индивидов, где каждый исторгнут из себя самого и на более или менее хрупкое и мимолётное, даже призрачное мгновение становится неотъемлемой частью этого единства. Такое объединение происходит в определённые моменты перверсии, но суть перверсии состоит именно в том, что это единство никогда не может быть достигнуто, кроме как в те моменты, которые не упорядочены символически.
В фетишизме субъект говорит себе, что наконец обрёл свой исключительный объект, тем более совершенный и удовлетворяющий в силу того, что он неодушевлённый. А посему отношения с ним будут, по крайней мере, более спокойными и не принесут разочарования. Любить туфлю действительно означает иметь объект своих желаний под рукой. Такой объект, полностью лишённый своей субъективной, интерсубъективной, даже транссубъективной ценности, гораздо более надёжен. Для реализации условия нехватки как таковой решение фетишиста, несомненно, одно из наиболее подходящих, и мы видим его действительное осуществление.
Поскольку специфика воображаемых отношений состоит в совершенной взаимной обратимости (réciproques) и поскольку это зеркальные отношения, нам следует ожидать время от времени проявления у фетишиста позиции идентификации не с матерью, а с объектом. Это действительно то, что мы видим в ходе анализа фетишиста, потому что эта позиция как таковая всегда оказывается наименее удовлетворительной. Для того, чтобы мимолётный манящий отблеск объекта, бывшего некогда материнским объектом, субъекта удовлетворил, недостаточно установить общее эротическое равновесие. И действительно, когда он идентифицирует себя с объектом, то он, если можно так выразиться, теряет свой первичный объект, а именно мать, и определяет себя самого по отношению к ней в качестве разрушительного объекта. Эта бесконечная игра, это глубинное удвоение отмечает любое проявление фетишизма.
Это настолько очевидно, что некая Филлис Гринакр, серьёзно исследовавшая основу фетишистских отношений, приходит к формулировке, что это похоже на присутствие субъекта, который чрезвычайно быстро демонстрирует вам свой собственный образ в двух противоположно установленных зеркалах. Она делает такой вывод, не понимая толком, каким образом она к нему пришла, поскольку формула возникла как гром среди ясного неба, но у неё внезапно появилось чувство, что это именно так: субъект никогда не оказывается там, где бы ему следовало быть, он покинул своё место, он перешёл в зеркальные отношения матери и фаллоса и поочерёдно занимает то одну, то другую позицию. Стабилизация достигается только введением единого символа, привилегированного и в то же время непостоянного, который является конкретным объектом фетишизма, то есть чем-то, что символизирует фаллос.
Поэтому именно идентичными или по меньшей мере аналогичными тем отношениям, которые представляются нам по сути своей перверсивными, должны выглядеть результаты, по крайней мере переходные, такого использования аналитических отношений, при котором они целиком сориентированы на объектные отношения, которые учитывают только воображаемое и реальное, причём воображаемые отношения целиком настраиваются на пресловутое реальное присутствие аналитика.
В этом мы сейчас убедимся. 3
В своей Римской речи я говорил о применении такого понимания объектных отношений в анализе. Я сравнил его тогда со своего рода bundling 'ом, доведённым в порядке психологического опыта до крайних пределов.
Этот маленький отрывок, возможно, остался незамеченным, но в примечании я даю читателю справку о том, что bundling - это нечто совершенно определённое, касающееся конкретных обычаев, которые всё ещё существуют на некоторых островках культуры, где сохраняются старые обычаи. Стендаль рассказывает о нём как об особенности, присущей фантазерам Швейцарии, которая встречается также и на юге Германии, что немаловажно с географической точки зрения.
Bundling - это концепция любовных отношений, техника, схема взаимодействия между мужчиной и женщиной, которая состоит в том, что в определённых обстоятельствах, например, в знак гостеприимства, кто-то из домашних может предложить представителю некой привилегированной группы разделить постель с девочкой при условии отсутствия контакта. Отсюда появилось слово bundling - обычно девочку заворачивали в простыни, что сохраняло все возможности для сближения, кроме последней. То, что может сойти за удачную фантазию из области нравов - и мы могли бы сожалеть о своей непричастности, ведь это могло бы быть забавно -заслуживает некоторого внимания, поскольку не составляет труда заметить, что через семнадцать или восемнадцать лет после смерти Фрейда аналитическая ситуация странным образом начала мыслиться и формализоваться в подобном ключе.
В статье Фэн и Марти есть запись одной сессии, где отмечены все телесные проявления пациентки, которые могли быть обращены к располагающемуся у неё за спиной аналитику в форме более или менее сдержанных, но сохраняющих ту или иную дистанцию движений по направлению к нему. Это поразительный текст, и, хотя он вышел, когда я уже написал свою речь, он подтверждает, что я не преувеличиваю, говоря о том, что в рамках определённой концепции аналитическая практика оказалась сведена именно к такому итогу, к таким психологическим установкам.
Мы часто обнаруживаем эти странности в обычаях и привычках на обособленных островках некоторых культур, например, есть протестантская секта голландского происхождения, которая была довольно подробно изучена и которая очень точно сохранила местные обычаи, связанные с религиозным единением, это секта Амишей. Конечно, сегодня всё это кажется непонятными пережитками, но мы здесь находим символическое образование, вполне скоординированное, целенаправленное, заложенное в традицию, которую можно назвать религиозной или даже символической. Всё, что мы знаем о практике куртуазной любви и об области её применения в Средние Века, включает в себя с большой строгостью технически разработанный подход к любовным отношениям, который предполагает длительные подготовительные стадии соблюдения ограничений, действующих в присутствии любимого объекта, направленные на реализацию того потустороннего, чего ищут в любви, потустороннего по сути своей эротическому. С тех пор как мы получили к этим традициям и техникам ключ, мы находим чётко сформулированные различные их проявления в других областях культуры, поскольку человечество на протяжении всей своей истории
3
В своей Римской речи я говорил о применении такого понимания объектных отношений в анализе. Я сравнил его тогда со своего рода bundling 'ом, доведённым в порядке психологического опыта до крайних пределов.
Этот маленький отрывок, возможно, остался незамеченным, но в примечании я даю читателю справку о том, что bundling - это нечто совершенно определённое, касающееся конкретных обычаев, которые всё ещё существуют на некоторых островках культуры, где сохраняются старые обычаи. Стендаль рассказывает о нём как об особенности, присущей фантазерам Швейцарии, которая встречается также и на юге Германии, что немаловажно с географической точки зрения.
Bundling - это концепция любовных отношений, техника, схема взаимодействия между мужчиной и женщиной, которая состоит в том, что в определённых обстоятельствах, например, в знак гостеприимства, кто-то из домашних может предложить представителю некой привилегированной группы разделить постель с девочкой при условии отсутствия контакта. Отсюда появилось слово bundling - обычно девочку заворачивали в простыни, что сохраняло все возможности для сближения, кроме последней. То, что может сойти за удачную фантазию из области нравов - и мы могли бы сожалеть о своей непричастности, ведь это могло бы быть забавно -заслуживает некоторого внимания, поскольку не составляет труда заметить, что через семнадцать или восемнадцать лет после смерти Фрейда аналитическая ситуация странным образом начала мыслиться и формализоваться в подобном ключе.
В статье Фэн и Марти есть запись одной сессии, где отмечены все телесные проявления пациентки, которые могли быть обращены к располагающемуся у неё за спиной аналитику в форме более или менее сдержанных, но сохраняющих ту или иную дистанцию движений по направлению к нему. Это поразительный текст, и, хотя он вышел, когда я уже написал свою речь, он подтверждает, что я не преувеличиваю, говоря о том, что в рамках определённой концепции аналитическая практика оказалась сведена именно к такому итогу, к таким психологическим установкам.
Мы часто обнаруживаем эти странности в обычаях и привычках на обособленных островках некоторых культур, например, есть протестантская секта голландского происхождения, которая была довольно подробно изучена и которая очень точно сохранила местные обычаи, связанные с религиозным единением, это секта Амишей. Конечно, сегодня всё это кажется непонятными пережитками, но мы здесь находим символическое образование, вполне скоординированное, целенаправленное, заложенное в традицию, которую можно назвать религиозной или даже символической. Всё, что мы знаем о практике куртуазной любви и об области её применения в Средние Века, включает в себя с большой строгостью технически разработанный подход к любовным отношениям, который предполагает длительные подготовительные стадии соблюдения ограничений, действующих в присутствии любимого объекта, направленные на реализацию того потустороннего, чего ищут в любви, потустороннего по сути своей эротическому. С тех пор как мы получили к этим традициям и техникам ключ, мы находим чётко сформулированные различные их проявления в других областях культуры, поскольку человечество на протяжении всей своей истории множество раз совершенно осознанно обращалось к исследованию этой сферы любовной жизни.
То, что здесь преследуется в качестве цели и действительно оказывается достигнутым, это выход по ту сторону, если можно так выразиться, психологического контура короткого замыкания. Чтобы этого достичь, осуществляется сознательное использование воображаемых отношений как таковых. В ключе наивных представлений эти практики могут показаться перверсивными. На самом деле они не являются чем-то большим, чем любой другой регламент любовных отношений, установленный в пределах действия определённых нравов или, как говорится, паттернов. Это заслуживает быть отмеченным в качестве ориентира для понимания нашего места расположения.
Теперь давайте рассмотрим случай, который был представлен в том маленьком бюллетене, процитированном в прошлый раз, в котором излагаются насущные вопросы, возникшие у участников определённой группы по поводу объектных отношений. Из-под пера персоны, обладающей статусом в аналитическом сообществе, Мадам Рут Лебовичи, мы получаем отчёт о наблюдении за субъектом, которого она справедливо называет фобическим.
Этот фобический субъект, активность которого была довольно низкой, достигает состояния почти полной недееспособности. Его наиболее ярким симптомом является страх быть слишком высоким, он всегда сохраняет чрезвычайно сгорбленное положение. Ему становится практически невозможно поддерживать отношения в своей профессиональной среде. Он ведёт непритязательную жизнь, укрывшись в прибежище семейного очага, тем не менее у него есть любовница, которая старше его на пятнадцать лет, которую нашла для него мать. В этой ситуации и попадает он к аналитику, который начинает помогать ему в решении его проблемы.
В ходе искусно проведённой диагностики установление фобии не вызывает затруднений, несмотря на парадоксальный факт того, что вызывающий фобию объект в первом приближении не кажется внешним. Тем не менее в один момент появляется повторяющийся сон, моделирующий беспокойство, у которого есть внешний источник. В этом конкретном случае внешний объект обнаруживается лишь во вторую очередь. Речь идёт о прекрасно различимом фобическом объекте, который предстаёт в дивном образе, заменяющем недостающего отца: по прошествии некоторого времени появляется образ мужчины в доспехах, обладающего особенно угрожающим инструментом, представляющим собой не что иное, как распылитель, Ау-1ох, с помощью которого будут уничтожены все маленькие фобические объекты, насекомые. Субъект просыпается в страхе быть выслеженным и задушенным в темноте мужчиной в доспехах, и этот страх имеет значение для общего баланса этой фобической структуры.
Аналитик, которая занималась субъектом, опубликовала наблюдение под заголовком Проходящая сексуальная перверсия в ходе аналитического лечения. Таким образом, не по моему настоянию возникает здесь вопрос перверсии - автор отчёта о наблюдении сама акцентирует на этом внимание.
Что может означать беспокойство автора по этому поводу? Она хорошо поняла, что реакция, которую она назвала перверсивной, - это только ярлык - появляется в конкретных обстоятельствах, в которых она играет свою роль. Факт того, что у неё возникает по этому поводу вопрос, подтверждает, что она осознаёт наличие этого вопроса. И что происходит? Когда наконец проявляется образующий фобию объект,
множество раз совершенно осознанно обращалось к исследованию этой сферы любовной жизни.
То, что здесь преследуется в качестве цели и действительно оказывается достигнутым, это выход по ту сторону, если можно так выразиться, психологического контура короткого замыкания. Чтобы этого достичь, осуществляется сознательное использование воображаемых отношений как таковых. В ключе наивных представлений эти практики могут показаться перверсивными. На самом деле они не являются чем-то большим, чем любой другой регламент любовных отношений, установленный в пределах действия определённых нравов или, как говорится, паттернов. Это заслуживает быть отмеченным в качестве ориентира для понимания нашего места расположения.
Теперь давайте рассмотрим случай, который был представлен в том маленьком бюллетене, процитированном в прошлый раз, в котором излагаются насущные вопросы, возникшие у участников определённой группы по поводу объектных отношений. Из-под пера персоны, обладающей статусом в аналитическом сообществе, Мадам Рут Лебовичи, мы получаем отчёт о наблюдении за субъектом, которого она справедливо называет фобическим.
Этот фобический субъект, активность которого была довольно низкой, достигает состояния почти полной недееспособности. Его наиболее ярким симптомом является страх быть слишком высоким, он всегда сохраняет чрезвычайно сгорбленное положение. Ему становится практически невозможно поддерживать отношения в своей профессиональной среде. Он ведёт непритязательную жизнь, укрывшись в прибежище семейного очага, тем не менее у него есть любовница, которая старше его на пятнадцать лет, которую нашла для него мать. В этой ситуации и попадает он к аналитику, который начинает помогать ему в решении его проблемы.
В ходе искусно проведённой диагностики установление фобии не вызывает затруднений, несмотря на парадоксальный факт того, что вызывающий фобию объект в первом приближении не кажется внешним. Тем не менее в один момент появляется повторяющийся сон, моделирующий беспокойство, у которого есть внешний источник. В этом конкретном случае внешний объект обнаруживается лишь во вторую очередь. Речь идёт о прекрасно различимом фобическом объекте, который предстаёт в дивном образе, заменяющем недостающего отца: по прошествии некоторого времени появляется образ мужчины в доспехах, обладающего особенно угрожающим инструментом, представляющим собой не что иное, как распылитель, Ау-1ох, с помощью которого будут уничтожены все маленькие фобические объекты, насекомые. Субъект просыпается в страхе быть выслеженным и задушенным в темноте мужчиной в доспехах, и этот страх имеет значение для общего баланса этой фобической структуры.
Аналитик, которая занималась субъектом, опубликовала наблюдение под заголовком Проходящая сексуальная перверсия в ходе аналитического лечения. Таким образом, не по моему настоянию возникает здесь вопрос перверсии - автор отчёта о наблюдении сама акцентирует на этом внимание.
Что может означать беспокойство автора по этому поводу? Она хорошо поняла, что реакция, которую она назвала перверсивной, - это только ярлык - появляется в конкретных обстоятельствах, в которых она играет свою роль. Факт того, что у неё возникает по этому поводу вопрос, подтверждает, что она осознаёт наличие этого вопроса. И что происходит? Когда наконец проявляется образующий фобию объект, мужчина в доспехах, аналитик истолковывает его как фаллическую мать. Почему фаллическая мать, тогда как это настоящий мужчина в доспехах со всем характерным для него символизмом? На протяжении всего наблюдения вопросы, которые задаёт автор, достаточно внятны и переданы, на мой взгляд, очень точно. В особенности автор озабочена следующим - была ли правильной интерпретация, которую я дала? Это значит, что она сознавала, что весь вопрос в этом.
В самом деле, сразу же после этой интерпретации появляется перверсивная реакция, и мы впоследствии оказываемся вовлечёнными в историю субъекта, произошедшую с ним в возрасте трёх лет, в которой у него поэтапно развивается перверсивная фантазия, состоящая в том, что женщина видит, как он мочится, а затем, очень возбуждённая, подходит к нему и просит вступить с ней любовные отношения. Далее ситуация переворачивается, субъект, мастурбируя или нет, наблюдает за женщиной в процессе мочеиспускания. Наконец, на третьем этапе происходит действительная реализация этой ситуации - в кинотеатре субъект обнаруживает небольшое заведение, предусмотрительно обеспеченное окошками, через которые он может непосредственно наблюдать за женщинами в соседнем туалете, в то время как сам находится в своей кабинке, развлекая себя или мастурбируя.
Автор сама задаётся вопросом об определяющем значении своего способа интерпретации того, что изначально приняло вид фантазматической кристаллизации элемента, который очевидно представляет собой компонент в составе субъекта и является не фаллической матерью, но матерью в её отношениях с фаллосом. Но автор сама проясняет для нас, откуда появляется мысль о вмешательстве фаллической матери, когда в какой-то момент задаётся вопросом об общем ходе лечения и замечает, что сама она в конечном итоге была гораздо более запрещающей, чем когда-либо была мать. Всё указывает на то, что сущность фаллической матери появляется в анализе из-за того, что автор называет своими собственными контрпереносными позициями. Если мы внимательно следим за анализом, то у нас не остаётся в этом никаких сомнений. Хотя развитие воображаемых отношений происходит в данном случае не без помощи ошибочного аналитического действия, взглянем на него с точки зрения аналитика.
Во-первых, субъект рассказывает сновидение, где в попытку проявлений его любовных порывов в адрес одной персоны из его прошлого вмешивается другая женщина, которая тоже сыграла свою роль в его истории - в гораздо более поздний период его детства, в возрасте тринадцати лет, он видел, как она мочится перед ним. Вмешательство аналитика происходит следующим образом - конечно, вам больше нравится проявлять интерес к женщине, наблюдая за тем, как она мочится, чем предпринимать усилия и добиваться другой женщины, которая, возможно, нравится вам, но замужем. Конечно, интерпретация несколько натянутая, поскольку мужской персонаж появляется только благодаря ассоциациям, но аналитик таким образом рассчитывает повторно привнести измерение истины, я имею в виду комплекс Эдипа. Привлечение фигуры предполагаемого мужа матери в целях повторной актуализации комплекса Эдипа следует признать совершенной провокацией, особенно если учесть, что отправил субъекта к аналитику её муж. Именно этот момент становится поворотным, далее происходит неуклонное преобразование фантазма наблюдения из формулы быть наблюдаемым в формулу наблюдать себя самого.
Во-вторых, как если этого было недостаточно, аналитик на просьбу субъекта замедлить ритм сессий отвечает ему: «Так вы проявляете свою пассивную позицию,
мужчина в доспехах, аналитик истолковывает его как фаллическую мать. Почему фаллическая мать, тогда как это настоящий мужчина в доспехах со всем характерным для него символизмом? На протяжении всего наблюдения вопросы, которые задаёт автор, достаточно внятны и переданы, на мой взгляд, очень точно. В особенности автор озабочена следующим - была ли правильной интерпретация, которую я дала? Это значит, что она сознавала, что весь вопрос в этом.
В самом деле, сразу же после этой интерпретации появляется перверсивная реакция, и мы впоследствии оказываемся вовлечёнными в историю субъекта, произошедшую с ним в возрасте трёх лет, в которой у него поэтапно развивается перверсивная фантазия, состоящая в том, что женщина видит, как он мочится, а затем, очень возбуждённая, подходит к нему и просит вступить с ней любовные отношения. Далее ситуация переворачивается, субъект, мастурбируя или нет, наблюдает за женщиной в процессе мочеиспускания. Наконец, на третьем этапе происходит действительная реализация этой ситуации - в кинотеатре субъект обнаруживает небольшое заведение, предусмотрительно обеспеченное окошками, через которые он может непосредственно наблюдать за женщинами в соседнем туалете, в то время как сам находится в своей кабинке, развлекая себя или мастурбируя.
Автор сама задаётся вопросом об определяющем значении своего способа интерпретации того, что изначально приняло вид фантазматической кристаллизации элемента, который очевидно представляет собой компонент в составе субъекта и является не фаллической матерью, но матерью в её отношениях с фаллосом. Но автор сама проясняет для нас, откуда появляется мысль о вмешательстве фаллической матери, когда в какой-то момент задаётся вопросом об общем ходе лечения и замечает, что сама она в конечном итоге была гораздо более запрещающей, чем когда-либо была мать. Всё указывает на то, что сущность фаллической матери появляется в анализе из-за того, что автор называет своими собственными контрпереносными позициями. Если мы внимательно следим за анализом, то у нас не остаётся в этом никаких сомнений. Хотя развитие воображаемых отношений происходит в данном случае не без помощи ошибочного аналитического действия, взглянем на него с точки зрения аналитика.
Во-первых, субъект рассказывает сновидение, где в попытку проявлений его любовных порывов в адрес одной персоны из его прошлого вмешивается другая женщина, которая тоже сыграла свою роль в его истории - в гораздо более поздний период его детства, в возрасте тринадцати лет, он видел, как она мочится перед ним. Вмешательство аналитика происходит следующим образом - конечно, вам больше нравится проявлять интерес к женщине, наблюдая за тем, как она мочится, чем предпринимать усилия и добиваться другой женщины, которая, возможно, нравится вам, но замужем. Конечно, интерпретация несколько натянутая, поскольку мужской персонаж появляется только благодаря ассоциациям, но аналитик таким образом рассчитывает повторно привнести измерение истины, я имею в виду комплекс Эдипа. Привлечение фигуры предполагаемого мужа матери в целях повторной актуализации комплекса Эдипа следует признать совершенной провокацией, особенно если учесть, что отправил субъекта к аналитику её муж. Именно этот момент становится поворотным, далее происходит неуклонное преобразование фантазма наблюдения из формулы быть наблюдаемым в формулу наблюдать себя самого.
Во-вторых, как если этого было недостаточно, аналитик на просьбу субъекта замедлить ритм сессий отвечает ему: «Так вы проявляете свою пассивную позицию, потому что вы очень хорошо знаете, что в любом случае вы ничего этим не добьётесь». В этот момент фантазм оформляется окончательно, в свете чего обнаруживается кое-что ещё. Когда субъект уяснил для себя ряд моментов, которые касаются его неспособности установить отношения с женским объектом, он останавливается на том, что развивает свои фантазмы внутри самой процедуры лечения и говорит, например, о своём страхе обмочиться на кушетке и т.д. Он начинает обретать реакции, которые показывают некоторое сокращение дистанции с реальным объектом, следит за ногами аналитика, и аналитик отмечает это с некоторым удовлетворением. Кое-что здесь действительно находится на грани реальной ситуации, в которой мы могли бы стать свидетелями появления матери не фаллической, но афалличной. В действительности в основе занятия фетишистской позиции лежит как раз то, что на определённом уровне своего исследования и наблюдения за женщиной по поводу наличия или отсутствия у неё органа, представляющего интерес, субъект останавливается.
Мало-помалу эта позиция приводит субъекта к заключению - Боже мой, остаётся только одно решение - спать с моим аналитиком. Он это говорит. Аналитик, чувствуя, что всё это начинает действовать ей на нервы, высказывается следующим образом: «Вы сейчас забавляетесь тем, что пугаете себя вещами, о которых прекрасно знаете, что они никогда не произойдут». В дальнейшем она обеспокоена вопросом -правильно ли я поступила, сказав так?
Действительно, каждый может усомниться в степени мастерства того, кто даёт такую интерпретацию. Это грубоватое напоминание об условиях аналитической ситуации полностью согласуется с представлением об аналитической позиции как реальной. Именно после этой интерпретации, которая расставляет вещи по своим местам, субъект переходит непосредственно к действию и находит в реальном прекрасное, особое место, а именно, как он говорит, маленькое туалетное заведение на Елисейских Полях. И на этот раз он реально располагается на правильной дистанции по отношению к объекту, который отделён от него стеной и который он может прямо видеть не как фаллическую мать, но как мать афалличную. Некоторое время вся его эротическая активность будет ограничена только этим, и он будет настолько удовлетворён, что заявит, что до этого открытия он жил как автомат, но сейчас всё изменилось.
Вот окончательный итог. Обобщая отчёт об этом наблюдении, я хотел дать вам возможность ощутить, что представление о дистанции по отношению к объекту-аналитику как к объекту реальному и представление о так называемом эталоне могут остаться не без последствий, которые в конечном итоге могут оказаться не самыми желательными.
Я вам не рассказываю, как заканчивается это лечение, его следует тщательно изучить, интерес для исследования представляет каждая его деталь. Последняя сессия отменяется, вдобавок субъекту приходится прооперировать варикоз. На этом всё. Скромная попытка доступа к кастрации и некоторая свобода, которая может возникнуть в результате неё. Считается, что этого достаточно, субъект возвращается к своей любовнице, которая на пятнадцать лет старше его, и поскольку он больше не говорит о своём высоком росте, предполагается, что фобия вылечена. К сожалению, теперь он не думает ни о чём другом, кроме размера своих ботинок. То они слишком велики, и он теряет равновесие, то слишком малы и жмут ему ноги. Таким образом завершается этот вираж преобразования фобии. Почему, в конце концов, не посчитать это окончанием
потому что вы очень хорошо знаете, что в любом случае вы ничего этим не добьётесь». В этот момент фантазм оформляется окончательно, в свете чего обнаруживается кое-что ещё. Когда субъект уяснил для себя ряд моментов, которые касаются его неспособности установить отношения с женским объектом, он останавливается на том, что развивает свои фантазмы внутри самой процедуры лечения и говорит, например, о своём страхе обмочиться на кушетке и т.д. Он начинает обретать реакции, которые показывают некоторое сокращение дистанции с реальным объектом, следит за ногами аналитика, и аналитик отмечает это с некоторым удовлетворением. Кое-что здесь действительно находится на грани реальной ситуации, в которой мы могли бы стать свидетелями появления матери не фаллической, но афалличной. В действительности в основе занятия фетишистской позиции лежит как раз то, что на определённом уровне своего исследования и наблюдения за женщиной по поводу наличия или отсутствия у неё органа, представляющего интерес, субъект останавливается.
Мало-помалу эта позиция приводит субъекта к заключению - Боже мой, остаётся только одно решение - спать с моим аналитиком. Он это говорит. Аналитик, чувствуя, что всё это начинает действовать ей на нервы, высказывается следующим образом: «Вы сейчас забавляетесь тем, что пугаете себя вещами, о которых прекрасно знаете, что они никогда не произойдут». В дальнейшем она обеспокоена вопросом -правильно ли я поступила, сказав так?
Действительно, каждый может усомниться в степени мастерства того, кто даёт такую интерпретацию. Это грубоватое напоминание об условиях аналитической ситуации полностью согласуется с представлением об аналитической позиции как реальной. Именно после этой интерпретации, которая расставляет вещи по своим местам, субъект переходит непосредственно к действию и находит в реальном прекрасное, особое место, а именно, как он говорит, маленькое туалетное заведение на Елисейских Полях. И на этот раз он реально располагается на правильной дистанции по отношению к объекту, который отделён от него стеной и который он может прямо видеть не как фаллическую мать, но как мать афалличную. Некоторое время вся его эротическая активность будет ограничена только этим, и он будет настолько удовлетворён, что заявит, что до этого открытия он жил как автомат, но сейчас всё изменилось.
Вот окончательный итог. Обобщая отчёт об этом наблюдении, я хотел дать вам возможность ощутить, что представление о дистанции по отношению к объекту-аналитику как к объекту реальному и представление о так называемом эталоне могут остаться не без последствий, которые в конечном итоге могут оказаться не самыми желательными.
Я вам не рассказываю, как заканчивается это лечение, его следует тщательно изучить, интерес для исследования представляет каждая его деталь. Последняя сессия отменяется, вдобавок субъекту приходится прооперировать варикоз. На этом всё. Скромная попытка доступа к кастрации и некоторая свобода, которая может возникнуть в результате неё. Считается, что этого достаточно, субъект возвращается к своей любовнице, которая на пятнадцать лет старше его, и поскольку он больше не говорит о своём высоком росте, предполагается, что фобия вылечена. К сожалению, теперь он не думает ни о чём другом, кроме размера своих ботинок. То они слишком велики, и он теряет равновесие, то слишком малы и жмут ему ноги. Таким образом завершается этот вираж преобразования фобии. Почему, в конце концов, не посчитать это окончанием аналитической работы? С экспериментальной точки зрения в этом безусловно есть что-то небезынтересное.
Установление правильной дистанции по отношению к реальному объекту - это как знак принадлежности к кругу посвящённых - принимается как должное и достигает своей вершины в момент, когда субъект в присутствии аналитика чувствует запах мочи. Аналитик полагает, что в этот момент дистанция по отношению к реальному объекту -на протяжении всего наблюдения нам указывают на то, что проблема всех невротических отношений именно в этом - наконец точно установлена. Конечно, этот момент совпадает с апогеем перверсии.
Строго говоря, это не перверсия - и автор этого не скрывает - это скорее артефакт. Подобные феномены, хотя они могут быть постоянными и очень долговечными, всё же могут быть порой довольно неожиданно прийти к концу. Так происходит и в этом случае, когда через некоторое время субъекта за его занятием застаёт билетёрша, что в одночасье приводит к падению частоты посещений столь благоприятного места, которое так своевременно предложило ему реальное.
Да, реальное всегда своевременно предлагает всё, что нужно, когда мы наконец-то правильным образом устанавливаем правильное расстояние...
19 декабря 1956
аналитической работы? С экспериментальной точки зрения в этом безусловно есть что-то небезынтересное.
Установление правильной дистанции по отношению к реальному объекту - это как знак принадлежности к кругу посвящённых - принимается как должное и достигает своей вершины в момент, когда субъект в присутствии аналитика чувствует запах мочи. Аналитик полагает, что в этот момент дистанция по отношению к реальному объекту -на протяжении всего наблюдения нам указывают на то, что проблема всех невротических отношений именно в этом - наконец точно установлена. Конечно, этот момент совпадает с апогеем перверсии.
Строго говоря, это не перверсия - и автор этого не скрывает - это скорее артефакт. Подобные феномены, хотя они могут быть постоянными и очень долговечными, всё же могут быть порой довольно неожиданно прийти к концу. Так происходит и в этом случае, когда через некоторое время субъекта за его занятием застаёт билетёрша, что в одночасье приводит к падению частоты посещений столь благоприятного места, которое так своевременно предложило ему реальное.
Да, реальное всегда своевременно предлагает всё, что нужно, когда мы наконец-то правильным образом устанавливаем правильное расстояние...
19 декабря 1956

 должны проработать ряд текстов, упорядочить то, что говорит Фрейд начиная с 1923 года, когда вышла в свет его статья Генитальная инфантильная организация.
В этом тексте Фрейд устанавливает в качестве принципа приоритет (primat) фаллического усвоения (assomption). Фаллическая фаза представляет собой заключительный этап первого периода инфантильной сексуальности, который завершается с началом латентного периода. Эта фаза является типичной как для мальчиков, так и для девочек. Из неё генитальная организация выводит свою формулу. Она достижима для обоих полов. При этом обладание или не обладание фаллосом является изначальным различительным элементом. Таким образом, не существует мужской и женской реализации, есть тот, кто наделён фаллическим атрибутом, и тот, кто обездолен в обладании им, быть обездоленным рассматривается как эквивалент быть кастрированным.
Я уточняю - как для одного, так и для другого пола это основано на недоразумении ( maldonne ), Misslingen, а это недоразумение основано на невежестве ( ignorance ) - речь не идёт о незнании (méconnaissance), но именно о невежестве, с одной стороны, о невежестве в отношении оплодотворяющей роли мужской спермы и, с другой стороны, о невежестве в отношении существования женского органа как такового.
Эти далеко идущие заявления требуют истолкования, чтобы быть понятыми. Перед нами не описание, сделанное на уровне реального опыта.
Позже многие авторы выдвинули на это свои - надо сказать, весьма нестройные -возражения. Изрядное количество фактов приводит нас к признанию того, что многие, по меньшей мере среди девочек, отдают себе отчёт если не в реальном значении мужчины в акте продолжения рода, то по крайней мере в существовании женского органа. Едва ли можно оспорить, что в раннем (précoce) опыте маленькой девочки происходит нечто связанное с вагинальной локализацией, где может возникать возбуждение; имеет место и ранняя вагинальная мастурбация. Это было обнаружено по крайней мере в ряде случаев. В связи с этим мы задаёмся вопросом: действительно ли фаллическая фаза у девочек обязана своим главенствующим положением (prédominance) существованию клитора; действительно ли либидо - будем считать этот термин синонимом любого эрогенного опыта - изначально и исключительно сконцентрировано на клиторе и распространяется на другие области лишь в процессе дальнейшего продолжительного и болезненного перемещения, которое требует длительного обходного пути?
Совершенно недопустимо рассматривать утверждение Фрейда в таких терминах, иначе появляется слишком много противоречащих друг другу фактов, позволяющих выдвинуть всевозможные возражения, подобные тому, что сделала, например, Карен Хорни. Эти возражения обслуживают реалистичные представления о том, что любое незнание (méconnaissance) предполагает в бессознательном определённое знание (connaissance) о сочетаемости (coaptation) двух полов, согласно которому преобладание у девушки органа, которого у неё нет, возможно только на почве определённого отрицания существования влагалища, которое следует принимать в расчёт. Исходя из этих гипотез, принятых a priori, предприняты усилия проследить происхождение условий фалличности в случае девочки. Погрузившись в детали, мы обнаружим, что речь идёт лишь о реконструкции, необходимость которой продиктована рядом теоретических положений, отчасти сформулированных самим автором и основанных на недопонимании утверждения Фрейда. Ссылка автора на решающий факт изначальности
должны проработать ряд текстов, упорядочить то, что говорит Фрейд начиная с 1923 года, когда вышла в свет его статья Генитальная инфантильная организация.
В этом тексте Фрейд устанавливает в качестве принципа приоритет (primat) фаллического усвоения (assomption). Фаллическая фаза представляет собой заключительный этап первого периода инфантильной сексуальности, который завершается с началом латентного периода. Эта фаза является типичной как для мальчиков, так и для девочек. Из неё генитальная организация выводит свою формулу. Она достижима для обоих полов. При этом обладание или не обладание фаллосом является изначальным различительным элементом. Таким образом, не существует мужской и женской реализации, есть тот, кто наделён фаллическим атрибутом, и тот, кто обездолен в обладании им, быть обездоленным рассматривается как эквивалент быть кастрированным.
Я уточняю - как для одного, так и для другого пола это основано на недоразумении ( maldonne ), Misslingen, а это недоразумение основано на невежестве ( ignorance ) - речь не идёт о незнании (méconnaissance), но именно о невежестве, с одной стороны, о невежестве в отношении оплодотворяющей роли мужской спермы и, с другой стороны, о невежестве в отношении существования женского органа как такового.
Эти далеко идущие заявления требуют истолкования, чтобы быть понятыми. Перед нами не описание, сделанное на уровне реального опыта.
Позже многие авторы выдвинули на это свои - надо сказать, весьма нестройные -возражения. Изрядное количество фактов приводит нас к признанию того, что многие, по меньшей мере среди девочек, отдают себе отчёт если не в реальном значении мужчины в акте продолжения рода, то по крайней мере в существовании женского органа. Едва ли можно оспорить, что в раннем (précoce) опыте маленькой девочки происходит нечто связанное с вагинальной локализацией, где может возникать возбуждение; имеет место и ранняя вагинальная мастурбация. Это было обнаружено по крайней мере в ряде случаев. В связи с этим мы задаёмся вопросом: действительно ли фаллическая фаза у девочек обязана своим главенствующим положением (prédominance) существованию клитора; действительно ли либидо - будем считать этот термин синонимом любого эрогенного опыта - изначально и исключительно сконцентрировано на клиторе и распространяется на другие области лишь в процессе дальнейшего продолжительного и болезненного перемещения, которое требует длительного обходного пути?
Совершенно недопустимо рассматривать утверждение Фрейда в таких терминах, иначе появляется слишком много противоречащих друг другу фактов, позволяющих выдвинуть всевозможные возражения, подобные тому, что сделала, например, Карен Хорни. Эти возражения обслуживают реалистичные представления о том, что любое незнание (méconnaissance) предполагает в бессознательном определённое знание (connaissance) о сочетаемости (coaptation) двух полов, согласно которому преобладание у девушки органа, которого у неё нет, возможно только на почве определённого отрицания существования влагалища, которое следует принимать в расчёт. Исходя из этих гипотез, принятых a priori, предприняты усилия проследить происхождение условий фалличности в случае девочки. Погрузившись в детали, мы обнаружим, что речь идёт лишь о реконструкции, необходимость которой продиктована рядом теоретических положений, отчасти сформулированных самим автором и основанных на недопонимании утверждения Фрейда. Ссылка автора на решающий факт изначальности опыта вагинального органа отмечена неуверенностью и приводится очень осторожно и сдержанно.
Утверждение Фрейда опирается на опыт. Он делает его осторожно, даже с долей неуверенности, так характерной для его изложения этого открытия, тем не менее это положение утверждается им в качестве изначального. Это исходный пункт. Парадоксальное утверждение фаллицизма является тем стержневым моментом, вокруг которого должна развиваться теоретическая интерпретация. Именно так мы и постараемся поступить.
Через 8 лет, в 1931 году, Фрейд пишет о женской сексуальности ещё более грандиозную работу, в которой он развивает своё утверждение 1923 года. В этот период, среди его учеников возникает чрезвычайно активная дискуссия с большим количеством умозаключений, следы которых можно найти у Карен Хорни, Джонса и других авторов, и которые представляют собой настоящие дебри заблуждений. После того, как я должен был посвятить себя этим трудам во время каникул, я бы сказал, что крайне затруднительно иметь дело с таким материалом, не искажая его, ввиду крайне неумелого использования авторами (immatrisé) задействованных в нём категорий.
Для того, чтобы составить представление о той дискуссии и разобраться в ней, нет иного способа, как её упорядочить (maîtriser), а упорядочить её означает полностью изменить её направление и суть, что не позволит обнаружить ту перспективу, о которой на самом деле идёт речь. Эта проблема непосредственно связана со второй целью нашей работы в этом году, которая состоит в том, чтобы параллельно с теоретическим исследованием объектных отношений, показать, насколько безнадежно сама аналитическая практика сбилась здесь с курса.
Утром мне показалось, что для того, чтобы проиллюстрировать конкретный аспект, которым мы сегодня занимаемся, из всей груды фактов стоит выделить один показательный образ, найденный мной в одной из этих статей.
Все авторы признают, что на обходном пути своего развития маленькая девочка в момент, когда она входит в Эдип, начинает желать ребенка от отца, как замену недостающего фаллоса. Разочарование от невозможности его получить играет принципиально важную роль в том, чтобы заставить её свернуть с этого парадоксального пути, который привел её к Эдипу, пути идентификации с отцом, на путь возврата к женской позиции. Чтобы показать в связи с этим, что лишение желанного от отца ребёнка может, взаимодействуя с наличными обстоятельствами, ускорить эдипов процесс, который для нас остается в принципе бессознательным, один из авторов приводит пример анализа маленькой девочки, которая, по его мнению, разбиралась в том, что происходит в её бессознательном, лучше многих других. Ему сообщили, что по утрам девочка просыпалась с вопросом: появился ли маленький ребёнок от отца, появится ли он уже сегодня или появится завтра? Это происходило каждое утро и сопровождалось негодованием и плачем.
Этот пример кажется мне показательным для прояснения того отклонения психоаналитической практики, на которое мы постоянно обращаем внимание в нашем исследовании объектных отношений. Здесь мы можем заметить определённый способ осмысления и борьбы с фрустрациями, который на самом деле является способом вмешательства, эффекты которого не только сомнительны, но и с очевидностью противоположны тому, что имеет место в процессе аналитической интерпретации.
опыта вагинального органа отмечена неуверенностью и приводится очень осторожно и сдержанно.
Утверждение Фрейда опирается на опыт. Он делает его осторожно, даже с долей неуверенности, так характерной для его изложения этого открытия, тем не менее это положение утверждается им в качестве изначального. Это исходный пункт. Парадоксальное утверждение фаллицизма является тем стержневым моментом, вокруг которого должна развиваться теоретическая интерпретация. Именно так мы и постараемся поступить.
Через 8 лет, в 1931 году, Фрейд пишет о женской сексуальности ещё более грандиозную работу, в которой он развивает своё утверждение 1923 года. В этот период, среди его учеников возникает чрезвычайно активная дискуссия с большим количеством умозаключений, следы которых можно найти у Карен Хорни, Джонса и других авторов, и которые представляют собой настоящие дебри заблуждений. После того, как я должен был посвятить себя этим трудам во время каникул, я бы сказал, что крайне затруднительно иметь дело с таким материалом, не искажая его, ввиду крайне неумелого использования авторами (immatrisé) задействованных в нём категорий.
Для того, чтобы составить представление о той дискуссии и разобраться в ней, нет иного способа, как её упорядочить (maîtriser), а упорядочить её означает полностью изменить её направление и суть, что не позволит обнаружить ту перспективу, о которой на самом деле идёт речь. Эта проблема непосредственно связана со второй целью нашей работы в этом году, которая состоит в том, чтобы параллельно с теоретическим исследованием объектных отношений, показать, насколько безнадежно сама аналитическая практика сбилась здесь с курса.
Утром мне показалось, что для того, чтобы проиллюстрировать конкретный аспект, которым мы сегодня занимаемся, из всей груды фактов стоит выделить один показательный образ, найденный мной в одной из этих статей.
Все авторы признают, что на обходном пути своего развития маленькая девочка в момент, когда она входит в Эдип, начинает желать ребенка от отца, как замену недостающего фаллоса. Разочарование от невозможности его получить играет принципиально важную роль в том, чтобы заставить её свернуть с этого парадоксального пути, который привел её к Эдипу, пути идентификации с отцом, на путь возврата к женской позиции. Чтобы показать в связи с этим, что лишение желанного от отца ребёнка может, взаимодействуя с наличными обстоятельствами, ускорить эдипов процесс, который для нас остается в принципе бессознательным, один из авторов приводит пример анализа маленькой девочки, которая, по его мнению, разбиралась в том, что происходит в её бессознательном, лучше многих других. Ему сообщили, что по утрам девочка просыпалась с вопросом: появился ли маленький ребёнок от отца, появится ли он уже сегодня или появится завтра? Это происходило каждое утро и сопровождалось негодованием и плачем.
Этот пример кажется мне показательным для прояснения того отклонения психоаналитической практики, на которое мы постоянно обращаем внимание в нашем исследовании объектных отношений. Здесь мы можем заметить определённый способ осмысления и борьбы с фрустрациями, который на самом деле является способом вмешательства, эффекты которого не только сомнительны, но и с очевидностью противоположны тому, что имеет место в процессе аналитической интерпретации. Опираться на представление о том, что ребёнок от отца появляется в данный момент развития в качестве воображаемого объекта, заменяющего недостающий фаллос, играющий в развитии девочки важнейшую роль, мы можем не всегда и не каким угодно образом. Оно приобретает своё значение только по прошествии некоторого времени или даже в текущий период при условии, что ребёнок, поскольку субъект имеет с ним дело, вступает в игру серии символических резонансов, сказывающихся на тех посессивных и деструктивных реакциях, которые пережил субъект в прошлом в момент фаллического кризиса, со всеми теми проблемами, которые влечёт за собой этот кризис насоответствующем этапе. Короче говоря, всё, что имеет отношение к приоритету или преобладанию фаллоса в детский период развития, сказывается лишь впоследствии.
Фаллос приобретает своё значение только в силу того, что в определённый момент он становится необходимым, чтобы символизировать некоторое событие, будь то позднее рождение ребёнка у того, кто находится в ближайших отношениях с субъектом, или возникающий у самого субъекта вопрос о собственном материнстве, о том, чтобы завести ребёнка. Ввести элемент, не вписанный в символическую структуру субъекта, спровоцировать словом, в символическом плане, определённую связь воображаемого заменителя с тем, что субъект переживает в этот момент совершенно иначе, значит санкционировать его организацию, дать ему определенную легитимность. Это значит увековечить фрустрацию как таковую и поместить её в центр опыта.
Теория гласит, что фрустрация как таковая не может быть включена в интерпретацию, поскольку происходит на уровне бессознательного. Фрустрация изначально является преходящим моментом. Лишь для нас, аналитиков, она, в чисто теоретическом плане, исполняет функцию артикуляции того, что произошло. Её осознание субъектом по определению исключено, поскольку она чрезвычайно неустойчива. Фрустрация в том виде, в котором она изначально переживается, имеет значение и представляет интерес лишь постольку, поскольку открывает доступ к одному из двух планов, которые я для вас обозначил: кастрации и лишения.
На самом деле именно кастрация включает в свой порядок истинную необходимость фрустрации и является тем, что возводит и располагает её на уровне закона, тем самым придавая ей другое значение.
Кроме этого, кастрация оправдывает существование лишений, поскольку идея лишения никак не постижима в плане реального. Лишение может быть по-настоящему постигнуто только существом, способным сформулировать что-то в плане символического.
Всё это хорошо заметно в поддерживающих интерпретациях, представляющих собой терапевтические вмешательства, которые, например, делает ученица Анны Фрейд в случае маленькой девочки, о котором я в прошлый раз вкратце говорил.
У этой маленькой девочки, как вы, наверное, помните, предварительные очертания фобии проявились тогда, когда она переживала действительное лишение чего-то определённого, и это противоположно условиям ситуации ребёнка из сегодняшнего примера. Я показал вам, почему эта фобия была вынужденным манёвром и где нужно искать её первопричину - не в том факте, что у девочки не было фаллоса, но в том, что мать не могла его ей дать, и более того, не могла дать потому, что сама его не имела.
Воздействие (intervention) психотерапевта состояло в том, чтобы сказать ребёнку -и она права - что все девочки такие. Здесь можно предположить, что дело касается
Опираться на представление о том, что ребёнок от отца появляется в данный момент развития в качестве воображаемого объекта, заменяющего недостающий фаллос, играющий в развитии девочки важнейшую роль, мы можем не всегда и не каким угодно образом. Оно приобретает своё значение только по прошествии некоторого времени или даже в текущий период при условии, что ребёнок, поскольку субъект имеет с ним дело, вступает в игру серии символических резонансов, сказывающихся на тех посессивных и деструктивных реакциях, которые пережил субъект в прошлом в момент фаллического кризиса, со всеми теми проблемами, которые влечёт за собой этот кризис насоответствующем этапе. Короче говоря, всё, что имеет отношение к приоритету или преобладанию фаллоса в детский период развития, сказывается лишь впоследствии.
Фаллос приобретает своё значение только в силу того, что в определённый момент он становится необходимым, чтобы символизировать некоторое событие, будь то позднее рождение ребёнка у того, кто находится в ближайших отношениях с субъектом, или возникающий у самого субъекта вопрос о собственном материнстве, о том, чтобы завести ребёнка. Ввести элемент, не вписанный в символическую структуру субъекта, спровоцировать словом, в символическом плане, определённую связь воображаемого заменителя с тем, что субъект переживает в этот момент совершенно иначе, значит санкционировать его организацию, дать ему определенную легитимность. Это значит увековечить фрустрацию как таковую и поместить её в центр опыта.
Теория гласит, что фрустрация как таковая не может быть включена в интерпретацию, поскольку происходит на уровне бессознательного. Фрустрация изначально является преходящим моментом. Лишь для нас, аналитиков, она, в чисто теоретическом плане, исполняет функцию артикуляции того, что произошло. Её осознание субъектом по определению исключено, поскольку она чрезвычайно неустойчива. Фрустрация в том виде, в котором она изначально переживается, имеет значение и представляет интерес лишь постольку, поскольку открывает доступ к одному из двух планов, которые я для вас обозначил: кастрации и лишения.
На самом деле именно кастрация включает в свой порядок истинную необходимость фрустрации и является тем, что возводит и располагает её на уровне закона, тем самым придавая ей другое значение.
Кроме этого, кастрация оправдывает существование лишений, поскольку идея лишения никак не постижима в плане реального. Лишение может быть по-настоящему постигнуто только существом, способным сформулировать что-то в плане символического.
Всё это хорошо заметно в поддерживающих интерпретациях, представляющих собой терапевтические вмешательства, которые, например, делает ученица Анны Фрейд в случае маленькой девочки, о котором я в прошлый раз вкратце говорил.
У этой маленькой девочки, как вы, наверное, помните, предварительные очертания фобии проявились тогда, когда она переживала действительное лишение чего-то определённого, и это противоположно условиям ситуации ребёнка из сегодняшнего примера. Я показал вам, почему эта фобия была вынужденным манёвром и где нужно искать её первопричину - не в том факте, что у девочки не было фаллоса, но в том, что мать не могла его ей дать, и более того, не могла дать потому, что сама его не имела.
Воздействие (intervention) психотерапевта состояло в том, чтобы сказать ребёнку -и она права - что все девочки такие. Здесь можно предположить, что дело касается обращения к реальному, но это не так. Ребёнок прекрасно знает, что у неё нет фаллоса, но не знает, что это в порядке вещей. Вот чему учит её терапевт. Это переводит нехватку в символический план закона. Тем не менее вмешательство неоднозначное, и терапевт не преминула усомниться в его мимолётной эффективности. Фобия ещё более расцветает и сходит на нет только тогда, когда ребёнок оказывается включен в полную семью.
Почему? В принципе, у неё, напротив, должна была бы проявиться ещё более сильная фрустрация, чем раньше, поскольку она сталкивается с отчимом, с тем мужчиной, который становится мужем её матери, бывшей до тех пор вдовой, и его сыном, ставшим для неё старшим братом. Если фобия в этих условиях сходит на нет, то именно потому, что субъект больше не нуждается в том, чтобы в символическом цикле восполнять отсутствие фаллообразного (phallophorme) элемента, то есть мужчин.
Эти критические замечания относятся прежде всего к использованию термина фрустрация. Такое использование оправдано тем фактом, что сутью этой диалектики является, скорее, нехватка объекта, чем сам объект. Таким образом фрустрация, на первый взгляд, является ответом на некоторое концептуальное представление. Но речь здесь идет о нестабильности диалектики самой фрустрации.
Фрустрация - это не лишение. Почему? Фрустрация случается, когда некто лишает вас той вещи, которую именно у него вы могли бы попросить. Объект играет здесь меньшую роль, чем любовь того, кто может преподнести вам этот дар. Объект фрустрации является в большей степени даром нежели объектом.
Здесь мы оказываемся у истока диалектики фрустрации, поскольку она ещё сохраняет по отношению к символическому некоторую дистанцию. Этот изначальный момент всегда является мимолетным (évanouissante). В действительности поначалу дар предоставляется в каком-то смысле безвозмездно. Он приходит от другого. То, что стоит за другим, вся подоплёка того, почему произошло одаривание, пока остаётся неизвестным, и только впоследствии субъект сможет понять, что в отличие от того, как это выглядело на первый взгляд, дар имеет гораздо более сложный смысл, что он соотносится со всей символической цепью. Сначала есть только взаимодействие (confrontation) с другим и возникающий в этом взаимодействии дар.
Дар, преподнесённый как таковой, в любом случае, скрадывает объект как объект. Если требование удовлетворено, то объект уходит на второй план. Если требование не удовлетворено, объект всё равно исчезает.
Есть только одна разница: если требование не удовлетворено, объект меняет значение. Что на самом деле оправдывает существование слова фрустрация? Нет фрустрации - это подразумевается в самом слове - если субъект не вправе притязать на обладание объектом. Объект в этот момент включается в то, что можно назвать нарциссической зоной принадлежностей субъекта.
Подчёркиваю, что в обоих случаях момент фрустрации является моментом исчезновения. Он вскрывает нечто такое, что отбрасывает нас в иной план, нежели план простого желания. Требование, действительно, обладает хорошо известной в человеческом опыте чертой - его как таковое никогда не удаётся по-настоящему полностью удовлетворить. Удовлетворённое или нет, оно исчезает (s'annihile), истребляется (s'anéantit) на следующем этапе и тотчас перебрасывается в другое место: или в артикуляцию символической цепи даров, или в замкнутый, абсолютно неутолимый регистр, называемый нарциссизмом. Из-за чего для субъекта объект - это
обращения к реальному, но это не так. Ребёнок прекрасно знает, что у неё нет фаллоса, но не знает, что это в порядке вещей. Вот чему учит её терапевт. Это переводит нехватку в символический план закона. Тем не менее вмешательство неоднозначное, и терапевт не преминула усомниться в его мимолётной эффективности. Фобия ещё более расцветает и сходит на нет только тогда, когда ребёнок оказывается включен в полную семью.
Почему? В принципе, у неё, напротив, должна была бы проявиться ещё более сильная фрустрация, чем раньше, поскольку она сталкивается с отчимом, с тем мужчиной, который становится мужем её матери, бывшей до тех пор вдовой, и его сыном, ставшим для неё старшим братом. Если фобия в этих условиях сходит на нет, то именно потому, что субъект больше не нуждается в том, чтобы в символическом цикле восполнять отсутствие фаллообразного (phallophorme) элемента, то есть мужчин.
Эти критические замечания относятся прежде всего к использованию термина фрустрация. Такое использование оправдано тем фактом, что сутью этой диалектики является, скорее, нехватка объекта, чем сам объект. Таким образом фрустрация, на первый взгляд, является ответом на некоторое концептуальное представление. Но речь здесь идет о нестабильности диалектики самой фрустрации.
Фрустрация - это не лишение. Почему? Фрустрация случается, когда некто лишает вас той вещи, которую именно у него вы могли бы попросить. Объект играет здесь меньшую роль, чем любовь того, кто может преподнести вам этот дар. Объект фрустрации является в большей степени даром нежели объектом.
Здесь мы оказываемся у истока диалектики фрустрации, поскольку она ещё сохраняет по отношению к символическому некоторую дистанцию. Этот изначальный момент всегда является мимолетным (évanouissante). В действительности поначалу дар предоставляется в каком-то смысле безвозмездно. Он приходит от другого. То, что стоит за другим, вся подоплёка того, почему произошло одаривание, пока остаётся неизвестным, и только впоследствии субъект сможет понять, что в отличие от того, как это выглядело на первый взгляд, дар имеет гораздо более сложный смысл, что он соотносится со всей символической цепью. Сначала есть только взаимодействие (confrontation) с другим и возникающий в этом взаимодействии дар.
Дар, преподнесённый как таковой, в любом случае, скрадывает объект как объект. Если требование удовлетворено, то объект уходит на второй план. Если требование не удовлетворено, объект всё равно исчезает.
Есть только одна разница: если требование не удовлетворено, объект меняет значение. Что на самом деле оправдывает существование слова фрустрация? Нет фрустрации - это подразумевается в самом слове - если субъект не вправе притязать на обладание объектом. Объект в этот момент включается в то, что можно назвать нарциссической зоной принадлежностей субъекта.
Подчёркиваю, что в обоих случаях момент фрустрации является моментом исчезновения. Он вскрывает нечто такое, что отбрасывает нас в иной план, нежели план простого желания. Требование, действительно, обладает хорошо известной в человеческом опыте чертой - его как таковое никогда не удаётся по-настоящему полностью удовлетворить. Удовлетворённое или нет, оно исчезает (s'annihile), истребляется (s'anéantit) на следующем этапе и тотчас перебрасывается в другое место: или в артикуляцию символической цепи даров, или в замкнутый, абсолютно неутолимый регистр, называемый нарциссизмом. Из-за чего для субъекта объект - это одновременно он сам и не он сам, и потому удовлетворить его никогда не сможет, поскольку это он и не он одновременно. Фрустрация входит в диалектику, которая легализует её и сообщает ей измерение произвольности. Это является необходимым условием для установления символизированного порядка реального, где субъект может, например, признать существующими и допустимыми некоторые постоянно действующие лишения.
Непонимание этого условия, различные реконструкции опыта и эффекты, связанные с фундаментальной нехваткой объекта, которые дают о себе здесь знать, заводят в целую серию тупиков. Ошибкой является выводить всё из желания как чисто личностного элемента, из желания как из того, что влечёт за собой реакции удовлетворения и разочарования. Тогда как любая последовательность событий в опыте может быть постигнута только на основе изначально принятого положения о том, что ничто не может быть сформулировано, выстроено и установлено, ничто не становится конфликтом, подлежащим анализу, если не связано с тем первоначальным моментом, когда субъект вступает в порядок символов, порядок закона, в порядок символического, в порядок символической цепи, в порядок символического долга. Только после этого вхождения субъекта в порядок, появление которого предшествует всем происходящим с ним событиям, удовлетворениям и разочарованиям, всё то, что он проживает в своём опыте - то неопределённое, что до тех пор было так называемым переживанием -организуется, формулируется, обретает свой смысл и может быть проанализировано.
Пусть это напоминание останется только напоминанием. Для того, чтобы по достоинству оценить его, я не могу предложить вам ничего лучшего, чем взять несколько текстов Фрейда и просто-напросто их прочитать.
2
Вчера некоторые говорили о неясной стороне и порой даже странной диковинности некоторых текстов Фрейда. По непонятным причинам упоминалось о наличии в них элементов авантюры и вдобавок дипломатии. Это привело меня к тому, чтобы выбрать для вас и принести сюда один из самых блестящих текстов Фрейда, я бы сказал, один из самых будоражащих. При этом считается, что он может показаться архаичным и даже старомодным. Это Психогенез одного случая женской гомосексуальности.
Я напомню вам основные моменты этого текста.
Речь идёт о девушке из хорошей венской семьи. Отправить кого-то из хорошей венской семьи к Фрейду в 1920 году означало решиться на довольно серьёзный шаг. И если таковой был предпринят, то по той причине, что домашняя, восемнадцатилетняя, красивая, интеллигентная, высокообразованная и воспитанная девушка стала предметом беспокойства своих родителей. Происходит нечто исключительно странное: она ухаживает за женщиной, на десять лет старше неё, из числа так называемых «светских дам». Всевозможные детали, предоставленные семьёй, указывают на то, что этот «свет» должен быть квалифицирован скорее как полусвет, и по классификации, принятой тогда в Вене, этот слой общества почитался респектабельным.
Привязанность юной девушки, которая по ходу развития событий стала по-настоящему страстной, доводит её до весьма болезненного обострения отношений с семьёй. В дальнейшем мы узнаём, что ситуация сложилась не без участия этих
одновременно он сам и не он сам, и потому удовлетворить его никогда не сможет, поскольку это он и не он одновременно. Фрустрация входит в диалектику, которая легализует её и сообщает ей измерение произвольности. Это является необходимым условием для установления символизированного порядка реального, где субъект может, например, признать существующими и допустимыми некоторые постоянно действующие лишения.
Непонимание этого условия, различные реконструкции опыта и эффекты, связанные с фундаментальной нехваткой объекта, которые дают о себе здесь знать, заводят в целую серию тупиков. Ошибкой является выводить всё из желания как чисто личностного элемента, из желания как из того, что влечёт за собой реакции удовлетворения и разочарования. Тогда как любая последовательность событий в опыте может быть постигнута только на основе изначально принятого положения о том, что ничто не может быть сформулировано, выстроено и установлено, ничто не становится конфликтом, подлежащим анализу, если не связано с тем первоначальным моментом, когда субъект вступает в порядок символов, порядок закона, в порядок символического, в порядок символической цепи, в порядок символического долга. Только после этого вхождения субъекта в порядок, появление которого предшествует всем происходящим с ним событиям, удовлетворениям и разочарованиям, всё то, что он проживает в своём опыте - то неопределённое, что до тех пор было так называемым переживанием -организуется, формулируется, обретает свой смысл и может быть проанализировано.
Пусть это напоминание останется только напоминанием. Для того, чтобы по достоинству оценить его, я не могу предложить вам ничего лучшего, чем взять несколько текстов Фрейда и просто-напросто их прочитать.
2
Вчера некоторые говорили о неясной стороне и порой даже странной диковинности некоторых текстов Фрейда. По непонятным причинам упоминалось о наличии в них элементов авантюры и вдобавок дипломатии. Это привело меня к тому, чтобы выбрать для вас и принести сюда один из самых блестящих текстов Фрейда, я бы сказал, один из самых будоражащих. При этом считается, что он может показаться архаичным и даже старомодным. Это Психогенез одного случая женской гомосексуальности.
Я напомню вам основные моменты этого текста.
Речь идёт о девушке из хорошей венской семьи. Отправить кого-то из хорошей венской семьи к Фрейду в 1920 году означало решиться на довольно серьёзный шаг. И если таковой был предпринят, то по той причине, что домашняя, восемнадцатилетняя, красивая, интеллигентная, высокообразованная и воспитанная девушка стала предметом беспокойства своих родителей. Происходит нечто исключительно странное: она ухаживает за женщиной, на десять лет старше неё, из числа так называемых «светских дам». Всевозможные детали, предоставленные семьёй, указывают на то, что этот «свет» должен быть квалифицирован скорее как полусвет, и по классификации, принятой тогда в Вене, этот слой общества почитался респектабельным.
Привязанность юной девушки, которая по ходу развития событий стала по-настоящему страстной, доводит её до весьма болезненного обострения отношений с семьёй. В дальнейшем мы узнаём, что ситуация сложилась не без участия этих отношений. Вообще говоря, тот факт, что отец впадает в абсолютное бешенство от её отношений, заставляет юную девушку не отказаться от этой страсти, но лишь вести себя определённым образом. Я имею в виду методичность вызова, с которым она продолжает свои ухаживания за упомянутой дамой. Девушка поджидает её на улице и частично обнаруживает свой замысел, не нарочито, но достаточно для того, чтобы родители заметили, поскольку они ничего не упускали из виду, особенно отец. Также мы узнаём, что её мать не совсем безмятежна, что она невротична, но не воспринимает это как нечто болезненное или по крайней мере серьёзное.
Фрейда просят всё это уладить. Тот очень чётко понимает трудности, связанные с установкой на лечение, когда речь идет об удовлетворении требований окружающих, и даёт ясно понять, что не делает анализ на заказ в стиле производства строительных работ при возведении виллы. Впоследствии он сделает ещё более экстраординарные замечания о психоанализе, которые, однако, покажутся некоторым довольно устаревшими.
Фрейд уточняет, что этот анализ дал возможность заглянуть очень, очень далеко, хотя и не был завершён, и именно по этой причине он рассказывает нам об этом случае. Безусловно, говорит он, анализ не привёл к большим изменениям в судьбе этой юной девушки. И чтобы объяснить это, Фрейд вводит идею, которая не лишена оснований, хотя и может показаться устаревшей. Эта схематично представленная идея скорее побуждает нас вернуться к некоторым исходным данным, нежели упрощает задачу. Идея заключается в том, что в анализе существует два этапа - на первом собирается всё, что только можно узнать, на втором этапе речь идёт о смягчении сопротивлений, которые всё ещё прекрасно сохраняются несмотря на то, что субъект уже многое узнал.
Тут Фрейд делает одно из своих наиболее изумительных сравнений - собрать перед путешествием чемодан всегда является довольно сложной задачей, но после этого остаётся только взять его и отправиться в путь. Для человека, имеющего фобию железных дорог и путешествий, это довольно пикантное замечание.
Но ещё более поразительным является то, что в течение всего этого времени его не покидает чувство, что на самом деле ничего не действует. С другой стороны, он очень хорошо видит то, что произошло, и выделяет определённое количество этапов.
В детстве пациентки был эпизод - и выглядит так, что он не прошёл без последствий - когда она в сравнении со старшим из своих братьев обнаружила у себя отсутствие по-настоящему желаемого объекта, объекта фаллического. Тем не менее, говорит нам Фрейд, она до настоящего времени никогда не проявляла признаков невротичности, в анализе не упоминалось об истерических симптомах, ничего в истории детства не привлекало внимания с точки зрения патологических последствий. И именно поэтому поразительно увидеть в клиническом плане довольно запоздалую вспышку откровенно ненормального, в глазах окружающих, поведения и особую позицию, которую она занимает по отношению к этой несколько очернённой женщине.
Страстная привязанность достигает пика и приводит девушку в кабинет Фрейда. На самом деле она оказалась вынуждена прийти и положиться на него по причине одного примечательного события.
Юная девушка, заигрывая по своему обыкновению с опасностью, прогуливалась с дамой чуть ли не под окнами своего дома. Однажды они встретили отца. Поскольку он общался с другими людьми, то лишь бросил на женщин гневный взгляд и прошёл мимо. Дама спросила, кто этот человек, и девушка ответила: «Это папа, у него недовольный
отношений. Вообще говоря, тот факт, что отец впадает в абсолютное бешенство от её отношений, заставляет юную девушку не отказаться от этой страсти, но лишь вести себя определённым образом. Я имею в виду методичность вызова, с которым она продолжает свои ухаживания за упомянутой дамой. Девушка поджидает её на улице и частично обнаруживает свой замысел, не нарочито, но достаточно для того, чтобы родители заметили, поскольку они ничего не упускали из виду, особенно отец. Также мы узнаём, что её мать не совсем безмятежна, что она невротична, но не воспринимает это как нечто болезненное или по крайней мере серьёзное.
Фрейда просят всё это уладить. Тот очень чётко понимает трудности, связанные с установкой на лечение, когда речь идет об удовлетворении требований окружающих, и даёт ясно понять, что не делает анализ на заказ в стиле производства строительных работ при возведении виллы. Впоследствии он сделает ещё более экстраординарные замечания о психоанализе, которые, однако, покажутся некоторым довольно устаревшими.
Фрейд уточняет, что этот анализ дал возможность заглянуть очень, очень далеко, хотя и не был завершён, и именно по этой причине он рассказывает нам об этом случае. Безусловно, говорит он, анализ не привёл к большим изменениям в судьбе этой юной девушки. И чтобы объяснить это, Фрейд вводит идею, которая не лишена оснований, хотя и может показаться устаревшей. Эта схематично представленная идея скорее побуждает нас вернуться к некоторым исходным данным, нежели упрощает задачу. Идея заключается в том, что в анализе существует два этапа - на первом собирается всё, что только можно узнать, на втором этапе речь идёт о смягчении сопротивлений, которые всё ещё прекрасно сохраняются несмотря на то, что субъект уже многое узнал.
Тут Фрейд делает одно из своих наиболее изумительных сравнений - собрать перед путешествием чемодан всегда является довольно сложной задачей, но после этого остаётся только взять его и отправиться в путь. Для человека, имеющего фобию железных дорог и путешествий, это довольно пикантное замечание.
Но ещё более поразительным является то, что в течение всего этого времени его не покидает чувство, что на самом деле ничего не действует. С другой стороны, он очень хорошо видит то, что произошло, и выделяет определённое количество этапов.
В детстве пациентки был эпизод - и выглядит так, что он не прошёл без последствий - когда она в сравнении со старшим из своих братьев обнаружила у себя отсутствие по-настоящему желаемого объекта, объекта фаллического. Тем не менее, говорит нам Фрейд, она до настоящего времени никогда не проявляла признаков невротичности, в анализе не упоминалось об истерических симптомах, ничего в истории детства не привлекало внимания с точки зрения патологических последствий. И именно поэтому поразительно увидеть в клиническом плане довольно запоздалую вспышку откровенно ненормального, в глазах окружающих, поведения и особую позицию, которую она занимает по отношению к этой несколько очернённой женщине.
Страстная привязанность достигает пика и приводит девушку в кабинет Фрейда. На самом деле она оказалась вынуждена прийти и положиться на него по причине одного примечательного события.
Юная девушка, заигрывая по своему обыкновению с опасностью, прогуливалась с дамой чуть ли не под окнами своего дома. Однажды они встретили отца. Поскольку он общался с другими людьми, то лишь бросил на женщин гневный взгляд и прошёл мимо. Дама спросила, кто этот человек, и девушка ответила: «Это папа, у него недовольный вид». Дама реагирует весьма резко. До этого момента она вела себя с девушкой очень сдержанно, даже холодно, совсем не поощряла её ухаживания и не имела особенного желания усложнять себе жизнь. И она произносит: «В таком случае мы больше не увидимся». В Вене есть несколько видов кольцевых железных дорог. Поблизости, над одной из них есть маленький мост. И вот девушка бросается с него вниз. Она падает, niederkommt, получает незначительные переломы, но поправляется.
Вообще-то, говорит нам Фрейд, до появления этой привязанности развитие девушки происходило в совершенно нормальном направлении, более того, есть все основания предполагать, оно следовало безупречным ориентирам. Не подавало ли её поведение в возрасте около тринадцати-четырнадцати лет все основания ожидать в будущем благоприятной ориентации на женское призвание к материнству? Она так заботливо нянчила маленького мальчика, сына друзей своих родителей, что это даже послужило поводом для сближения двух семей. Однако эта любовь, которая казалась бы развивает материнскую модель, внезапно заканчивается, и именно в этот момент начинается общение с женщинами, которых Фрейд называет «зрелыми» и которые, похоже, являются материнскими субститутами. То есть «любовное приключение», о котором идёт речь, случается в жизни девушки не первый раз.
Тем не менее, для самой участницы драматического приключения, которое оборачивается началом анализа, это не имеет особого значения, равно как и обозначенная проблема гомосексуальности. Субъект и в самом деле заявляет Фрейду, что не рассматривает возможность отказаться ни от своих притязаний, ни от своего выбора объекта. Она будет делать всё возможное, чтобы обманывать семью, и продолжит поддерживать отношения с персоной, к которой она не утратила привязанности и которая, будучи весьма тронутой таким необыкновенным знаком преклонения, стала гораздо более к ней расположена.
По поводу этих подтверждённых и поддерживаемых субъектом отношений Фрейд делает ряд поразительных замечаний, с помощью которых он объясняет причины либо того, что происходит до начала лечения, например, попытку самоубийства, либо причины собственного провала. Объяснение первых кажется очень уместным. Объяснение вторых тоже, но, может быть, не совсем в том смысле, который имеет в виду он сам. Качество наблюдений Фрейда всегда обеспечивает нас чрезвычайной точностью даже в отношении тех моментов, которые он сам каким-то образом упустил. Я намекаю в данном случае на отчёт о наблюдении Доры, где Фрейд впоследствии ясно увидел, что ошибся с ней, когда не смог распознать гомосексуальность, а точнее её вопрос относительно своего пола. Здесь мы констатируем такого же рода упущение, только более глубокое и поэтому гораздо более поучительное.
Не менее интересны и другие сделанные, но не разработанные в полной мере Фрейдом, замечания по поводу попытки самоубийства, которая становится знаковым поступком (acte significatif), увенчавшим кризис. Напряжение субъекта нарастает до тех пор, пока не возникает столкновение и не случается катастрофа.
Как это объясняет Фрейд? Отталкиваясь от нормальной направленности субъекта на желание иметь ребёнка от отца. Именно в этом регистре, согласно его мнению, следует искать изначальный сбой, который сориентировал субъекта в строго противоположном направлении. Фрейд пытается сформулировать условия сущностного переворота субъективной позиции. Это один из тех случаев, когда разочарование по причине недоступности объекта желания приводит к полному перевороту позиции, в
вид». Дама реагирует весьма резко. До этого момента она вела себя с девушкой очень сдержанно, даже холодно, совсем не поощряла её ухаживания и не имела особенного желания усложнять себе жизнь. И она произносит: «В таком случае мы больше не увидимся». В Вене есть несколько видов кольцевых железных дорог. Поблизости, над одной из них есть маленький мост. И вот девушка бросается с него вниз. Она падает, niederkommt, получает незначительные переломы, но поправляется.
Вообще-то, говорит нам Фрейд, до появления этой привязанности развитие девушки происходило в совершенно нормальном направлении, более того, есть все основания предполагать, оно следовало безупречным ориентирам. Не подавало ли её поведение в возрасте около тринадцати-четырнадцати лет все основания ожидать в будущем благоприятной ориентации на женское призвание к материнству? Она так заботливо нянчила маленького мальчика, сына друзей своих родителей, что это даже послужило поводом для сближения двух семей. Однако эта любовь, которая казалась бы развивает материнскую модель, внезапно заканчивается, и именно в этот момент начинается общение с женщинами, которых Фрейд называет «зрелыми» и которые, похоже, являются материнскими субститутами. То есть «любовное приключение», о котором идёт речь, случается в жизни девушки не первый раз.
Тем не менее, для самой участницы драматического приключения, которое оборачивается началом анализа, это не имеет особого значения, равно как и обозначенная проблема гомосексуальности. Субъект и в самом деле заявляет Фрейду, что не рассматривает возможность отказаться ни от своих притязаний, ни от своего выбора объекта. Она будет делать всё возможное, чтобы обманывать семью, и продолжит поддерживать отношения с персоной, к которой она не утратила привязанности и которая, будучи весьма тронутой таким необыкновенным знаком преклонения, стала гораздо более к ней расположена.
По поводу этих подтверждённых и поддерживаемых субъектом отношений Фрейд делает ряд поразительных замечаний, с помощью которых он объясняет причины либо того, что происходит до начала лечения, например, попытку самоубийства, либо причины собственного провала. Объяснение первых кажется очень уместным. Объяснение вторых тоже, но, может быть, не совсем в том смысле, который имеет в виду он сам. Качество наблюдений Фрейда всегда обеспечивает нас чрезвычайной точностью даже в отношении тех моментов, которые он сам каким-то образом упустил. Я намекаю в данном случае на отчёт о наблюдении Доры, где Фрейд впоследствии ясно увидел, что ошибся с ней, когда не смог распознать гомосексуальность, а точнее её вопрос относительно своего пола. Здесь мы констатируем такого же рода упущение, только более глубокое и поэтому гораздо более поучительное.
Не менее интересны и другие сделанные, но не разработанные в полной мере Фрейдом, замечания по поводу попытки самоубийства, которая становится знаковым поступком (acte significatif), увенчавшим кризис. Напряжение субъекта нарастает до тех пор, пока не возникает столкновение и не случается катастрофа.
Как это объясняет Фрейд? Отталкиваясь от нормальной направленности субъекта на желание иметь ребёнка от отца. Именно в этом регистре, согласно его мнению, следует искать изначальный сбой, который сориентировал субъекта в строго противоположном направлении. Фрейд пытается сформулировать условия сущностного переворота субъективной позиции. Это один из тех случаев, когда разочарование по причине недоступности объекта желания приводит к полному перевороту позиции, в результате которого субъект идентифицирует себя с этим объектом. В сноске Фрейд приравнивает такую идентификацию к регрессии в нарциссизм. Когда я представляю диалектику нарциссизма как отношения собственного Я и маленького другого, я не делаю ничего другого, кроме как перевожу на очевидный уровень то, что имплицитно содержится во всех замечаниях Фрейда на эту тему.
Итак, в чём состоит разочарование, которое производит переворот? В возрасте ближе к пятнадцати годам, когда пациентка была увлечена перспективой обладания воображаемым ребёнком - а она достаточно озабочена этим эпизодом, чтобы мы могли признать его важным пунктом её истории, - её мать в этот момент действительно получает ещё одного ребёнка от отца. У пациентки появляется третий брат. Вот ключевой момент.
Судя по всему, в этом заключается особенность этой истории. Не так часто появление младшего брата приводит к настолько основательному перевороту сексуальной ориентации субъекта. Но в данном случае девочка меняет позицию именно в этот момент. Теперь дело в том, чтобы увидеть, где это проинтерпретировано лучшим образом.
По мнению Фрейда, нужно рассмотреть этот феномен в качестве реактивного. Этого термина нет в тексте, но он подразумевается, поскольку Фрейд предполагает, что обида на отца остаётся. Она играет главную роль. Этот стержневой для всей ситуации момент полностью объясняет характер развития событий. Девочка испытывает чётко выраженную агрессию в адрес отца. Попытка самоубийства происходит в результате разочарования, вызванного тем, что случается противостояние с объектом её гомологической привязанности. Речь идёт только о контр-агрессивности, о перенаправлении агрессии к отцу на самого субъекта в сочетании со своего рода обвалом всей ситуации до уровня примитивных данных, которое символически соответствуют осаждению, понижению до степени по-настоящему задействованных объектов. Короче говоря, когда юная девушка бросается вниз с маленького моста, она производит символический акт, который является ничем иным, как те^егкоттеп (выпадением) ребёнка во время родов.
Так мы обнаруживаем окончательный и исконный смысл всего положения дел.
3
Во второй серии замечаний Фрейд объясняет, почему ситуация не получила своего разрешения в процессе лечения.
Поскольку сопротивление, говорит он, не было преодолено, всё, что ни говорилось пациентке, вызывало её огромный интерес, но при этом она не отказывалась от важных для себя позиций. Она сохраняла то, что сегодня называется интеллектуальной заинтересованностью. Фрейд метафорически сравнивает девушку с дамой, которая, рассматривая различные предметы с помощью своего лорнета, восклицает: «Как это мило!».
Тем не менее Фрейд отмечает, что нельзя говорить о полном отсутствии переноса. Он с большой проницательностью улавливает присутствие переноса в сновидениях пациентки. Одновременно с недвусмысленными заявлениями пациентки о своей решимости ничего в своих отношениях с дамой не менять, её сновидения повествуют о поразительном возрождении более привлекательной ориентации в ожидании появления прекрасного и заботливого супруга, равно как и плода их любви. Короче
результате которого субъект идентифицирует себя с этим объектом. В сноске Фрейд приравнивает такую идентификацию к регрессии в нарциссизм. Когда я представляю диалектику нарциссизма как отношения собственного Я и маленького другого, я не делаю ничего другого, кроме как перевожу на очевидный уровень то, что имплицитно содержится во всех замечаниях Фрейда на эту тему.
Итак, в чём состоит разочарование, которое производит переворот? В возрасте ближе к пятнадцати годам, когда пациентка была увлечена перспективой обладания воображаемым ребёнком - а она достаточно озабочена этим эпизодом, чтобы мы могли признать его важным пунктом её истории, - её мать в этот момент действительно получает ещё одного ребёнка от отца. У пациентки появляется третий брат. Вот ключевой момент.
Судя по всему, в этом заключается особенность этой истории. Не так часто появление младшего брата приводит к настолько основательному перевороту сексуальной ориентации субъекта. Но в данном случае девочка меняет позицию именно в этот момент. Теперь дело в том, чтобы увидеть, где это проинтерпретировано лучшим образом.
По мнению Фрейда, нужно рассмотреть этот феномен в качестве реактивного. Этого термина нет в тексте, но он подразумевается, поскольку Фрейд предполагает, что обида на отца остаётся. Она играет главную роль. Этот стержневой для всей ситуации момент полностью объясняет характер развития событий. Девочка испытывает чётко выраженную агрессию в адрес отца. Попытка самоубийства происходит в результате разочарования, вызванного тем, что случается противостояние с объектом её гомологической привязанности. Речь идёт только о контр-агрессивности, о перенаправлении агрессии к отцу на самого субъекта в сочетании со своего рода обвалом всей ситуации до уровня примитивных данных, которое символически соответствуют осаждению, понижению до степени по-настоящему задействованных объектов. Короче говоря, когда юная девушка бросается вниз с маленького моста, она производит символический акт, который является ничем иным, как те^егкоттеп (выпадением) ребёнка во время родов.
Так мы обнаруживаем окончательный и исконный смысл всего положения дел.
3
Во второй серии замечаний Фрейд объясняет, почему ситуация не получила своего разрешения в процессе лечения.
Поскольку сопротивление, говорит он, не было преодолено, всё, что ни говорилось пациентке, вызывало её огромный интерес, но при этом она не отказывалась от важных для себя позиций. Она сохраняла то, что сегодня называется интеллектуальной заинтересованностью. Фрейд метафорически сравнивает девушку с дамой, которая, рассматривая различные предметы с помощью своего лорнета, восклицает: «Как это мило!».
Тем не менее Фрейд отмечает, что нельзя говорить о полном отсутствии переноса. Он с большой проницательностью улавливает присутствие переноса в сновидениях пациентки. Одновременно с недвусмысленными заявлениями пациентки о своей решимости ничего в своих отношениях с дамой не менять, её сновидения повествуют о поразительном возрождении более привлекательной ориентации в ожидании появления прекрасного и заботливого супруга, равно как и плода их любви. Короче говоря, нарочито идиллический образ мужа в сновидении проявил себя настолько соответствующим усилиям всего предприятия, что, не будучи Фрейдом, можно было бы преисполниться самыми благоприятными ожиданиями.
Фрейд так не ошибается. Он усматривает здесь перенос. Это обманчивое измерение игры в ловлю на живца, которую она ведёт в ответ на разочарование, причинённое отцом. В действительности она не вела себя по отношению к нему только агрессивно, вызывающе и бесстыдно, она уступала ему. Дело было только в том, чтобы показать отцу, что она его обманывала. Фрейд понимает, что в этих сновидениях речь идёт о чём-то подобном, что в этом и состоит их значение в части переноса - она воспроизводит с ним свою фундаментальную модель, жестокую игру, которую вела с отцом.
Здесь мы не можем не учитывать принципиально присущую символическому образованию относительность, поскольку это основополагающее для нас измерение формирует поле бессознательного.
Фрейд очень чётко выражается на этот счёт, и его промах состоит только в том, что он делает слишком сильный акцент: «Я считаю, что намерение ввести меня в заблуждение было одним из образующих это сновидение элементов. Это было попыткой заинтересовать и расположить меня, вероятно для того, чтобы впоследствии ещё глубже меня разочаровать».
Здесь суть намерения, вменяемого субъекту, проявляется в том, чтобы заставить Фрейда рухнуть с высоты своего положения, чтобы он упал тем ниже, чем дальше удастся его заманить. Акцент этой фразы не оставляет сомнений в присутствии того, что мы называем контрпереносом. Сновидение обманывает. Фрейд учитывает только это и сразу же вступает в увлекательную дискуссию, которую так удивительно от него услышать. Он заранее предвидит возражения в ответ на то, что типичное проявление бессознательного может обманывать. «Если и бессознательное нам лжёт, чему остается верить?» - спросят ученики. Он предоставляет им длинное объяснение, в котором показывает, как такое может произойти и откуда следует, что это нисколько не противоречит теории.
Объяснение немного тенденциозное, но в нём, тем не менее есть то, что Фрейд выводит на первый план в 1920 году, а именно следующее - сутью того, что происходит в бессознательном, являются отношения субъекта с Другим как таковым, и в саму основу этих отношений включена возможность их осуществления на уровне лжи. В анализе мы находимся в порядке лжи и истины.
Фрейд очень хорошо это понимает. Но, похоже, кое-что от него ускользает, а именно то, что речь здесь идёт о настоящем переносе и что ему открывается путь к интерпретации желания обмануть. Но вместо того, чтобы заступить на этот путь, он, грубо говоря, принимает происходящее как направленное против него.
«Это тоже, - говорит он, - попытка охомутать, пленить, очаровать меня». Эта фраза ещё красноречивее. Должно быть она восхитительна, эта юная девушка, поскольку, как и с Дорой, Фрейд не смог полностью абстрагироваться. Уверяя, что его ждет худшее, он хочет избежать разочарования. Это означает, что он уже совершенно подготовлен к самообману. Предостерегая себя от иллюзий, он уже вступил в игру. Он принимает участие в воображаемой игре, но превращает её в реальную, оказываясь внутри неё. И это не остаётся без последствий.
говоря, нарочито идиллический образ мужа в сновидении проявил себя настолько соответствующим усилиям всего предприятия, что, не будучи Фрейдом, можно было бы преисполниться самыми благоприятными ожиданиями.
Фрейд так не ошибается. Он усматривает здесь перенос. Это обманчивое измерение игры в ловлю на живца, которую она ведёт в ответ на разочарование, причинённое отцом. В действительности она не вела себя по отношению к нему только агрессивно, вызывающе и бесстыдно, она уступала ему. Дело было только в том, чтобы показать отцу, что она его обманывала. Фрейд понимает, что в этих сновидениях речь идёт о чём-то подобном, что в этом и состоит их значение в части переноса - она воспроизводит с ним свою фундаментальную модель, жестокую игру, которую вела с отцом.
Здесь мы не можем не учитывать принципиально присущую символическому образованию относительность, поскольку это основополагающее для нас измерение формирует поле бессознательного.
Фрейд очень чётко выражается на этот счёт, и его промах состоит только в том, что он делает слишком сильный акцент: «Я считаю, что намерение ввести меня в заблуждение было одним из образующих это сновидение элементов. Это было попыткой заинтересовать и расположить меня, вероятно для того, чтобы впоследствии ещё глубже меня разочаровать».
Здесь суть намерения, вменяемого субъекту, проявляется в том, чтобы заставить Фрейда рухнуть с высоты своего положения, чтобы он упал тем ниже, чем дальше удастся его заманить. Акцент этой фразы не оставляет сомнений в присутствии того, что мы называем контрпереносом. Сновидение обманывает. Фрейд учитывает только это и сразу же вступает в увлекательную дискуссию, которую так удивительно от него услышать. Он заранее предвидит возражения в ответ на то, что типичное проявление бессознательного может обманывать. «Если и бессознательное нам лжёт, чему остается верить?» - спросят ученики. Он предоставляет им длинное объяснение, в котором показывает, как такое может произойти и откуда следует, что это нисколько не противоречит теории.
Объяснение немного тенденциозное, но в нём, тем не менее есть то, что Фрейд выводит на первый план в 1920 году, а именно следующее - сутью того, что происходит в бессознательном, являются отношения субъекта с Другим как таковым, и в саму основу этих отношений включена возможность их осуществления на уровне лжи. В анализе мы находимся в порядке лжи и истины.
Фрейд очень хорошо это понимает. Но, похоже, кое-что от него ускользает, а именно то, что речь здесь идёт о настоящем переносе и что ему открывается путь к интерпретации желания обмануть. Но вместо того, чтобы заступить на этот путь, он, грубо говоря, принимает происходящее как направленное против него.
«Это тоже, - говорит он, - попытка охомутать, пленить, очаровать меня». Эта фраза ещё красноречивее. Должно быть она восхитительна, эта юная девушка, поскольку, как и с Дорой, Фрейд не смог полностью абстрагироваться. Уверяя, что его ждет худшее, он хочет избежать разочарования. Это означает, что он уже совершенно подготовлен к самообману. Предостерегая себя от иллюзий, он уже вступил в игру. Он принимает участие в воображаемой игре, но превращает её в реальную, оказываясь внутри неё. И это не остаётся без последствий. Как он интерпретирует происходящее? Он говорит юной девушке, что она хочет обмануть его так же, как привыкла обманывать своего отца. Тем самым он пресекает то, что осознал, как воображаемую связь. Его контрперенос в определённом смысле мог бы оказаться ему полезен, но при условии, что он бы контрпереносом не был, то есть что сам он ему не доверился бы, в нём бы не оказался. Но в той степени, в которой Фрейд в нем оказывается и предлагает свою преждевременную интерпретацию, желание девушки переходит в реальное, хотя это было только желанием, а вовсе не намерением, обмануть. Он предоставил этому желанию тело. Он разговаривает с ней, как говорил бы терапевт с маленькой девочкой, придавая вещи символический статус.
Вот в чём состоит суть этого соскальзывания психоанализа в воображаемое, которое, с тех пор как была принято в качестве догмы, всё больше становится его проблемой, западнёй. В тексте мы видим подтверждающий это, предельно ясный пример, который мы не можем обойти стороной. Давая свою интерпретацию, Фрейд провоцирует и снабжает телом конфликт, в то время как дело - он и сам чувствовал это - было совершенно в другом, именно в том, чтобы выявить имевший место в бессознательном обманный дискурс. Фрейд же говорит ей, что всё направлено против него, поэтому лечение дальше особо не продвигается и в итоге прерывается. Желая соединить, Фрейд разлучает.
Есть ещё одна гораздо более интересная вещь, которая была отмечена, но не проинтерпретирована Фрейдом - это природа страсти юной девушки по отношению к той персоне, о которой идёт речь.
Для него не осталось незамеченным, что в действительности эти гомосексуальные отношения не похожи на прочие, хотя на самом деле в гомосексуальных отношениях могут проявляться как вся вариативность гетеросексуальных отношений, так и некоторые дополнительные вариации. Поясняя этот выбор объекта, который происходит чётко по männlich, мужскому типу, и объясняя нам, что этот выбор значит, Фрейд прекрасно подмечает и замечательно формулирует то, что речь здесь идёт о платонической любви в наивысшем её проявлении.
Эта любовь не взыскует никакой иной возможности удовлетворения, кроме служения даме. Это по-настоящему священная любовь, если можно так выразиться, или куртуазная любовь в самом благочестивом её смысле. Он добавляет несколько слов, таких как Schwärmerei, которое имеет особое значение в культурной истории Германии - это восторженность, лежащая в основе отношений. Короче говоря, он возводит связь юной девушки с дамой в наиболее высокую степень символизированных любовных отношений, полагаемых как служение, как образец, эталон. Это не просто проходящее увлечение или потребность, это любовь, которая не только проходит мимо возможности удовлетворения, но которая нацелена ровно на неудовлетворение. Именно это и является тем самым измерением, в котором может расцвести идеальная любовь, измерением нехватки в объектных отношениях.
Безусловно, ситуация этого случая исключительная, но она представляет интерес только будучи помещённой в правильный для её рассмотрения регистр. Она исключительная, потому что это частный случай. Это означает, что она проясняется в условиях надлежащего применения категорий нехватки объекта. В таком случае, не замечаете ли вы здесь переплетения по типу узла трёх уровней процесса, который продвигается от фрустрации к симптому - симптому, который мы, обращаясь к нему с вопросом, понимаем здесь как загадку?
Как он интерпретирует происходящее? Он говорит юной девушке, что она хочет обмануть его так же, как привыкла обманывать своего отца. Тем самым он пресекает то, что осознал, как воображаемую связь. Его контрперенос в определённом смысле мог бы оказаться ему полезен, но при условии, что он бы контрпереносом не был, то есть что сам он ему не доверился бы, в нём бы не оказался. Но в той степени, в которой Фрейд в нем оказывается и предлагает свою преждевременную интерпретацию, желание девушки переходит в реальное, хотя это было только желанием, а вовсе не намерением, обмануть. Он предоставил этому желанию тело. Он разговаривает с ней, как говорил бы терапевт с маленькой девочкой, придавая вещи символический статус.
Вот в чём состоит суть этого соскальзывания психоанализа в воображаемое, которое, с тех пор как была принято в качестве догмы, всё больше становится его проблемой, западнёй. В тексте мы видим подтверждающий это, предельно ясный пример, который мы не можем обойти стороной. Давая свою интерпретацию, Фрейд провоцирует и снабжает телом конфликт, в то время как дело - он и сам чувствовал это - было совершенно в другом, именно в том, чтобы выявить имевший место в бессознательном обманный дискурс. Фрейд же говорит ей, что всё направлено против него, поэтому лечение дальше особо не продвигается и в итоге прерывается. Желая соединить, Фрейд разлучает.
Есть ещё одна гораздо более интересная вещь, которая была отмечена, но не проинтерпретирована Фрейдом - это природа страсти юной девушки по отношению к той персоне, о которой идёт речь.
Для него не осталось незамеченным, что в действительности эти гомосексуальные отношения не похожи на прочие, хотя на самом деле в гомосексуальных отношениях могут проявляться как вся вариативность гетеросексуальных отношений, так и некоторые дополнительные вариации. Поясняя этот выбор объекта, который происходит чётко по männlich, мужскому типу, и объясняя нам, что этот выбор значит, Фрейд прекрасно подмечает и замечательно формулирует то, что речь здесь идёт о платонической любви в наивысшем её проявлении.
Эта любовь не взыскует никакой иной возможности удовлетворения, кроме служения даме. Это по-настоящему священная любовь, если можно так выразиться, или куртуазная любовь в самом благочестивом её смысле. Он добавляет несколько слов, таких как Schwärmerei, которое имеет особое значение в культурной истории Германии - это восторженность, лежащая в основе отношений. Короче говоря, он возводит связь юной девушки с дамой в наиболее высокую степень символизированных любовных отношений, полагаемых как служение, как образец, эталон. Это не просто проходящее увлечение или потребность, это любовь, которая не только проходит мимо возможности удовлетворения, но которая нацелена ровно на неудовлетворение. Именно это и является тем самым измерением, в котором может расцвести идеальная любовь, измерением нехватки в объектных отношениях.
Безусловно, ситуация этого случая исключительная, но она представляет интерес только будучи помещённой в правильный для её рассмотрения регистр. Она исключительная, потому что это частный случай. Это означает, что она проясняется в условиях надлежащего применения категорий нехватки объекта. В таком случае, не замечаете ли вы здесь переплетения по типу узла трёх уровней процесса, который продвигается от фрустрации к симптому - симптому, который мы, обращаясь к нему с вопросом, понимаем здесь как загадку? Прежде всего мы имеем здесь непосредственную отсылку к воображаемому объекту. Речь идёт о ребёнке. Интерпретация позволяет нам рассматривать его как ребёнка, полученного от отца. Как нам уже было сказано, в действительности гомосексуалисты, вопреки тому, что о них можно подумать, но в соответствии с тем, что анализ делает очевидным, являются субъектами с очень сильной фиксацией на отце.
Почему случается настоящий кризис? Потому что вторгается реальный объект. Отец действительно дарит ребёнка, но дело в том, что получает его кто-то другой, тот, кто ему ближе.
Именно это и производит настоящий переворот. Нам показан механизм. Но я полагаю, что крайне важно отдавать себе отчёт в том, что он был заранее организован в плане символического. Именно в плане символического, но не в плане воображаемого, субъект удовлетворялся ребёнком как ребёнком, полученным от отца. То, что поддерживало её отношения с женщинами, уже было задано отцовским присутствием, отцом-основанием, отцом-твердыней, отцом, который навсегда останется для неё мужчиной, который даст ей ребёнка. Присутствие реального ребёнка, само его появление как реального объекта, материализованного тем фактом, что поблизости его получает её же мать, переводит её в план фрустрации.
Что является наиболее важным из того, что происходит тогда? Является ли таковым переворот, который приводит её к идентификации с отцом? Разумеется, это сыграло свою роль. Влияет ли это на тот факт, что она сама становится этим ожидаемым ребёнком, который действительно п!е1^егкотт1 (выпадает), когда кризис достигает своего пика? Возможно, мы могли об этом судить, если бы знали по истечении скольких месяцев это произошло, если бы у нас были даты, как в случае Доры. Но это не самое важное. Самое важное то, что желаемое расположено по ту сторону любимой женщины.
Любовь, которую девушка посвящает даме, нацелена на нечто другое, нежели она сама. Выглядит так, что неспроста Фрейд закрепляет эту любовь - которая непосредственно принадлежит порядку преданности субъекта и доводит его привязанность и упразднение себя в Sexualuberschatzun до высшей степени - за регистром мужского опыта. Такая любовь расцветает, как правило, в очень развитой и хорошо организованной культурной среде. Осмысление фундаментального разочарования на этом уровне, переход на план куртуазной любви, выход, который находит субъект в этом любовном регистре, ставят вопрос о том, что именно любимо в женщине по ту сторону её самой. Вот вопрос, затрагивающий самую суть того, что является действительно основополагающим во всём, что относится к любви в её совершенной форме.
В любимой женщине для девушки желанно, по сути, то, чего ей самой не хватает. А то, чего в данном случае ей не хватает, это тот исконный объект, которому субъект собирался найти воображаемую замену в виде ребёнка и к которому он возвращается.
На пике влюблённости, в любви наиболее идеализированной в женщине взыскуется то, чего ей не хватает. То, что взыскуется по ту её сторону, это центральный объект всей либидинальной экономики - фаллос.
9 января 1957
Прежде всего мы имеем здесь непосредственную отсылку к воображаемому объекту. Речь идёт о ребёнке. Интерпретация позволяет нам рассматривать его как ребёнка, полученного от отца. Как нам уже было сказано, в действительности гомосексуалисты, вопреки тому, что о них можно подумать, но в соответствии с тем, что анализ делает очевидным, являются субъектами с очень сильной фиксацией на отце.
Почему случается настоящий кризис? Потому что вторгается реальный объект. Отец действительно дарит ребёнка, но дело в том, что получает его кто-то другой, тот, кто ему ближе.
Именно это и производит настоящий переворот. Нам показан механизм. Но я полагаю, что крайне важно отдавать себе отчёт в том, что он был заранее организован в плане символического. Именно в плане символического, но не в плане воображаемого, субъект удовлетворялся ребёнком как ребёнком, полученным от отца. То, что поддерживало её отношения с женщинами, уже было задано отцовским присутствием, отцом-основанием, отцом-твердыней, отцом, который навсегда останется для неё мужчиной, который даст ей ребёнка. Присутствие реального ребёнка, само его появление как реального объекта, материализованного тем фактом, что поблизости его получает её же мать, переводит её в план фрустрации.
Что является наиболее важным из того, что происходит тогда? Является ли таковым переворот, который приводит её к идентификации с отцом? Разумеется, это сыграло свою роль. Влияет ли это на тот факт, что она сама становится этим ожидаемым ребёнком, который действительно п!е1^егкотт1 (выпадает), когда кризис достигает своего пика? Возможно, мы могли об этом судить, если бы знали по истечении скольких месяцев это произошло, если бы у нас были даты, как в случае Доры. Но это не самое важное. Самое важное то, что желаемое расположено по ту сторону любимой женщины.
Любовь, которую девушка посвящает даме, нацелена на нечто другое, нежели она сама. Выглядит так, что неспроста Фрейд закрепляет эту любовь - которая непосредственно принадлежит порядку преданности субъекта и доводит его привязанность и упразднение себя в Sexualuberschatzun до высшей степени - за регистром мужского опыта. Такая любовь расцветает, как правило, в очень развитой и хорошо организованной культурной среде. Осмысление фундаментального разочарования на этом уровне, переход на план куртуазной любви, выход, который находит субъект в этом любовном регистре, ставят вопрос о том, что именно любимо в женщине по ту сторону её самой. Вот вопрос, затрагивающий самую суть того, что является действительно основополагающим во всём, что относится к любви в её совершенной форме.
В любимой женщине для девушки желанно, по сути, то, чего ей самой не хватает. А то, чего в данном случае ей не хватает, это тот исконный объект, которому субъект собирался найти воображаемую замену в виде ребёнка и к которому он возвращается.
На пике влюблённости, в любви наиболее идеализированной в женщине взыскуется то, чего ей не хватает. То, что взыскуется по ту её сторону, это центральный объект всей либидинальной экономики - фаллос.
9 января 1957
 ребёнка. Как, например, в истории субъекта, который воспитывался в качестве единственного ребёнка у своей пожилой тёти, живущей далеко от его родителей, что ограничило его дуальными отношениями с одной персоной, и тем не менее не помешало воспроизвести семейную драму в полном объёме с участием отца, матери и даже соперников, братьев и сестёр, - я цитирую. Таким образом, то, что подлежит прояснению в анализе, в своей основе не имеет прямого отношения к реальному, но непосредственно вписано в символизацию.
Должны ли мы согласиться с утверждениями Мадам Мелани Кляйн? Её утверждения опираются на её опыт, а этот опыт описан для нас в наблюдениях, в которых порой встречаются весьма странные вещи. Мы как будто заглядываем в котёл ведьмы или ворожеи, на дне которого во всеобъемлющем воображаемом мире, порождённом идеей вместилища материнского тела, бурлят изначально присутствующие первичные фантазмы (fantasmes primordiaux), и весь этот механизм, направляя структуризацию, как кажется, предзаданной драмы, постоянно требует для своей работы пробуждения наиболее агрессивных инстинктов. Мы поражены таким свидетельством, потому что вся эта фантасмагория соответствует уникальным данным, которыми оперирует здесь Мадам Мелани Кляйн, и одновременно нельзя не задаться вопросом, в присутствии чего мы здесь находимся, и что может означать эта драматическая символизация, которая по мере нашего продвижения выглядит всё более наполненной. Всё происходит так, как если бы, чем ближе мы подходим к началу, тем более обнаруживает себя комплекс Эдипа, сформированный и готовый к действию. Это по меньшей мере заслуживает вопроса.
Этот вопрос, если мы им задаёмся, возникает повсюду, и мы найдём его на определённом пути, по которому я теперь попробую вас провести, на пути перверсии.
1
Что такое перверсия? Даже в пределах одной психоаналитической группы мы слышим на этот счёт самые противоречивые мнения.
Одни, полагая, что следуют за Фрейдом, говорят, что нам нужно просто-напросто вернуться к понятию устойчивой фиксации на частичном влечении, которой удалось сохраниться в некотором неприкосновенном виде на протяжении всего периода диалектики установления Эдипа. Она не пострадала от воздействий, направленных на сокращение других частичных влечений и их объединение в общее течение, которое в итоге станет генитальным влечением, этим идеальным в своей сущности единства влечением. Таким образом, в разговоре о перверсии речь идёт о некотором сбое в эволюции влечений. Прочитывая в классической манере идею Фрейда о том, что перверсия - это негатив невроза, эти аналитики хотят попросту представить перверсию как место, в котором влечение недоразвито.
Тем не менее другие аналитики, которые, впрочем, не относятся к числу ни самых лучших, ни самых проницательных, но только к числу наиболее искушённых опытом и свидетельствами, от которых в аналитической практике никуда не уйти, пытаются показать, что перверсия далеко не так проста и устойчива в своих проявлениях, она также преодолевает кризисы, слияния и драматические расслоения, которые происходят в том же богатстве измерений, в том же изобилии, в тех же ритмах, теми же этапами, что и невроз. Они стараются объяснить, что перверсия является негативом
ребёнка. Как, например, в истории субъекта, который воспитывался в качестве единственного ребёнка у своей пожилой тёти, живущей далеко от его родителей, что ограничило его дуальными отношениями с одной персоной, и тем не менее не помешало воспроизвести семейную драму в полном объёме с участием отца, матери и даже соперников, братьев и сестёр, - я цитирую. Таким образом, то, что подлежит прояснению в анализе, в своей основе не имеет прямого отношения к реальному, но непосредственно вписано в символизацию.
Должны ли мы согласиться с утверждениями Мадам Мелани Кляйн? Её утверждения опираются на её опыт, а этот опыт описан для нас в наблюдениях, в которых порой встречаются весьма странные вещи. Мы как будто заглядываем в котёл ведьмы или ворожеи, на дне которого во всеобъемлющем воображаемом мире, порождённом идеей вместилища материнского тела, бурлят изначально присутствующие первичные фантазмы (fantasmes primordiaux), и весь этот механизм, направляя структуризацию, как кажется, предзаданной драмы, постоянно требует для своей работы пробуждения наиболее агрессивных инстинктов. Мы поражены таким свидетельством, потому что вся эта фантасмагория соответствует уникальным данным, которыми оперирует здесь Мадам Мелани Кляйн, и одновременно нельзя не задаться вопросом, в присутствии чего мы здесь находимся, и что может означать эта драматическая символизация, которая по мере нашего продвижения выглядит всё более наполненной. Всё происходит так, как если бы, чем ближе мы подходим к началу, тем более обнаруживает себя комплекс Эдипа, сформированный и готовый к действию. Это по меньшей мере заслуживает вопроса.
Этот вопрос, если мы им задаёмся, возникает повсюду, и мы найдём его на определённом пути, по которому я теперь попробую вас провести, на пути перверсии.
1
Что такое перверсия? Даже в пределах одной психоаналитической группы мы слышим на этот счёт самые противоречивые мнения.
Одни, полагая, что следуют за Фрейдом, говорят, что нам нужно просто-напросто вернуться к понятию устойчивой фиксации на частичном влечении, которой удалось сохраниться в некотором неприкосновенном виде на протяжении всего периода диалектики установления Эдипа. Она не пострадала от воздействий, направленных на сокращение других частичных влечений и их объединение в общее течение, которое в итоге станет генитальным влечением, этим идеальным в своей сущности единства влечением. Таким образом, в разговоре о перверсии речь идёт о некотором сбое в эволюции влечений. Прочитывая в классической манере идею Фрейда о том, что перверсия - это негатив невроза, эти аналитики хотят попросту представить перверсию как место, в котором влечение недоразвито.
Тем не менее другие аналитики, которые, впрочем, не относятся к числу ни самых лучших, ни самых проницательных, но только к числу наиболее искушённых опытом и свидетельствами, от которых в аналитической практике никуда не уйти, пытаются показать, что перверсия далеко не так проста и устойчива в своих проявлениях, она также преодолевает кризисы, слияния и драматические расслоения, которые происходят в том же богатстве измерений, в том же изобилии, в тех же ритмах, теми же этапами, что и невроз. Они стараются объяснить, что перверсия является негативом невроза, продвигая формулу, которую все эти игры анализа ослабления защит им внушают - для них речь в перверсии идёт об эротизации защиты.
Я не возражаю, пусть это будет образным выражением, но, на самом деле, причём здесь эротизация? В этом весь вопрос: откуда взялась эта эротизация? Что за неведомая сила привнесла это излишество, эту окраску, это качественное изменение, это либидинальное удовлетворение? Не то чтобы это было немыслимо, но помыслить об этом не приходило покуда никому в голову.
Не надо думать, будто Фрейд не догадывался, что здесь есть ещё над чем поработать. Я бы сказал больше, у самого Фрейда мы можем найти пример, подтверждающий, что его формула, согласно которой перверсия является негативом невроза, не имеет того смысла, который долгое время было принято ей придавать, что она не имела в виду, будто скрытое в бессознательном невротической структуры при перверсии, напротив, находится в некотором своего рода свободном состоянии, располагается под открытым небом. В том сжатом виде, в котором мы встречаем у Фрейда эту формулу, он предлагает нам совершенно иную вещь, и наш анализ должен обнаружить её истинный смысл. Начнём с того, что попробуем пойти за Фрейдом и постараемся увидеть, как он понимает механизм того феномена, который можно определить как перверсию или даже крайнюю степень перверсии, и тогда мы сможем понять, что он имеет в виду, когда утверждает, что перверсия является негативом невроза.
Присмотримся к этим вещам более пристально, обратившись к исследованию, которое должно быть на слуху, Ein Kind wird geschlagen, Вклад в изучение происхождения сексуальных перверсий.
Характерно, что внимание Фрейда сосредоточено на фразе, которую он не просто делает клиническим ярлыком, а ставит в заглавие и которая представляет собой прямую выдержку из речей больных, когда они приближаются к теме своих фантазмов, которые в целом можно охарактеризовать как садо-мазохистские, какой бы ни была их роль и функция в том или ином конкретном случае.
Фрейд говорит, что в этом исследовании он сосредотачивается на шести случаях навязчивого невроза, четырёх женских и двух мужских. Они представляют его опыт наблюдения многочисленных других случаев, по которым у него самого нет большого понимания. Итак, похоже, здесь имеет место обобщение внушительного объема опыта и попытка его организовать.
Когда субъект в процессе лечения пересказывает нам то, что мы называем фантазмом, он делает это в примечательной по своей неопределённости форме, оставляя открытыми вопросы, на которые он может ответить лишь с большим трудом. На самом деле он изначально не способен дать удовлетворительный ответ, поскольку он вряд ли может ещё что-либо добавить, чтобы охарактеризовать этот фантазм. К тому же это сопровождается проявлениями смущения, даже отвращения, и стыда.
Здесь важное значение приобретает довольно примечательная черта. Если практики мастурбации, более или менее связанные с такими фантазмами, совершенно не вызывают у субъекта чувства вины, то, когда речь заходит о том, чтобы сформулировать эти фантазмы, у субъекта возникают не только большие сложности, но и довольно явные отвращение, неприятие и вина. Различие между фантазматическим или воображаемым использованием этих образов и их речевой артикуляцией является для нас верным поводом держать ухо востро. Такое поведение субъекта уже
невроза, продвигая формулу, которую все эти игры анализа ослабления защит им внушают - для них речь в перверсии идёт об эротизации защиты.
Я не возражаю, пусть это будет образным выражением, но, на самом деле, причём здесь эротизация? В этом весь вопрос: откуда взялась эта эротизация? Что за неведомая сила привнесла это излишество, эту окраску, это качественное изменение, это либидинальное удовлетворение? Не то чтобы это было немыслимо, но помыслить об этом не приходило покуда никому в голову.
Не надо думать, будто Фрейд не догадывался, что здесь есть ещё над чем поработать. Я бы сказал больше, у самого Фрейда мы можем найти пример, подтверждающий, что его формула, согласно которой перверсия является негативом невроза, не имеет того смысла, который долгое время было принято ей придавать, что она не имела в виду, будто скрытое в бессознательном невротической структуры при перверсии, напротив, находится в некотором своего рода свободном состоянии, располагается под открытым небом. В том сжатом виде, в котором мы встречаем у Фрейда эту формулу, он предлагает нам совершенно иную вещь, и наш анализ должен обнаружить её истинный смысл. Начнём с того, что попробуем пойти за Фрейдом и постараемся увидеть, как он понимает механизм того феномена, который можно определить как перверсию или даже крайнюю степень перверсии, и тогда мы сможем понять, что он имеет в виду, когда утверждает, что перверсия является негативом невроза.
Присмотримся к этим вещам более пристально, обратившись к исследованию, которое должно быть на слуху, Ein Kind wird geschlagen, Вклад в изучение происхождения сексуальных перверсий.
Характерно, что внимание Фрейда сосредоточено на фразе, которую он не просто делает клиническим ярлыком, а ставит в заглавие и которая представляет собой прямую выдержку из речей больных, когда они приближаются к теме своих фантазмов, которые в целом можно охарактеризовать как садо-мазохистские, какой бы ни была их роль и функция в том или ином конкретном случае.
Фрейд говорит, что в этом исследовании он сосредотачивается на шести случаях навязчивого невроза, четырёх женских и двух мужских. Они представляют его опыт наблюдения многочисленных других случаев, по которым у него самого нет большого понимания. Итак, похоже, здесь имеет место обобщение внушительного объема опыта и попытка его организовать.
Когда субъект в процессе лечения пересказывает нам то, что мы называем фантазмом, он делает это в примечательной по своей неопределённости форме, оставляя открытыми вопросы, на которые он может ответить лишь с большим трудом. На самом деле он изначально не способен дать удовлетворительный ответ, поскольку он вряд ли может ещё что-либо добавить, чтобы охарактеризовать этот фантазм. К тому же это сопровождается проявлениями смущения, даже отвращения, и стыда.
Здесь важное значение приобретает довольно примечательная черта. Если практики мастурбации, более или менее связанные с такими фантазмами, совершенно не вызывают у субъекта чувства вины, то, когда речь заходит о том, чтобы сформулировать эти фантазмы, у субъекта возникают не только большие сложности, но и довольно явные отвращение, неприятие и вина. Различие между фантазматическим или воображаемым использованием этих образов и их речевой артикуляцией является для нас верным поводом держать ухо востро. Такое поведение субъекта уже представляет собой сигнал о приближении к пределу: обыгрывать фантазм
умозрительно и говорить о нём - это разные вещи.
Что означает фантазм субъекта, который высказывается в его типичной формулировке «ребёнка бьют»? Фрейд предлагает нам то, что открывается ему в опыте. Сегодня мы не дойдём до конца этой статьи, я только выделю в ней некоторые элементы, прямо подразумевающие тот путь, по которому я повёл вас в прошлый раз для приближения к проблеме через случай юной гомосексуальной пациентки.
Согласно Фрейду, продвижение анализа показывает, что данный фантазм посредством серии трансформаций сменил другие фантазмы, каждый из которых сыграл в определённый момент развития субъекта совершенно понятную роль. Я хотел бы показать вам структуру этих моментов, чтобы помочь вам распознать элементы, которые, стоит только открыть глаза, становятся легко заметными хотя бы в том измерении, в котором мы с вами пытаемся продвинуться, в измерении субъективной структуры. Иначе говоря, чтобы определить настоящее место того, что часто представлено в теории как двусмысленность, даже тупик или антиномия, мы всегда стараемся понять, на каком уровне субъективной структуры явление имеет место.
Есть три этапа, говорит нам Фрейд, которые дают о себе знать по мере того, как при аналитическом воздействии открывается история субъекта, что и позволяет проследить происхождение этого фантазма.
На этот раз мы не будем фокусироваться на том, что Фрейд излагает в первой части своего текста, когда он по причинам, которые уточняет позже, ограничивается описанием того, что происходит у женщин - сегодня мы о причинах этих говорить не станем.
Первый фантазм, который мы можем обнаружить во время анализа, говорит нам Фрейд, приобретает следующую форму: «Мой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу».
Происхождение этого фантазма в истории субъекта, как правило, связано с появлением брата или сестры - соперника, который как своим присутствием, так и получаемой им заботой нарушает связь ребёнка с родителями. Здесь речь идёт именно об отце. Не задерживаясь на этом, всё-таки не будем упускать из виду, что речь идет о девочке и притом в тот момент, когда комплекс Эдипа уже образован и отношения с отцом выстроены. Преобладание личности отца в совершенно примитивном фантазме не могло обойтись без влияния того факта, что речь идёт о девочке. Но давайте оставим прояснение этого вопроса на будущее.
Важно то, что мы здесь касаемся исторической перспективы, которая становится активной силой задним числом. Именно в настоящем моменте, во время анализа, субъект формулирует и организует первичную драматическую ситуацию таким образом, который вписывается в его актуальную речь и соответствует его текущей способности к символизации. То, что мы обнаруживаем в ходе анализа,представляет из себя нечто изначальное, это наиболее глубокое первозданное образование.
Очевидная сложность фантазматической ситуации подразумевает участие трёх персонажей: есть карающий агент, есть тот, кто претерпевает, и есть субъект. Тот, кто претерпевает, это как раз ребёнок, которого субъект ненавидит, и поэтому, видя его лишённым родительского расположения, чувствует своё преимущество, поскольку другой это расположение утратил.
Напряжение возникает здесь в трех направлениях. Существует связь субъекта с двумя другими персонажами, чьи отношения между собой замыкаются на нём как на
представляет собой сигнал о приближении к пределу: обыгрывать фантазм
умозрительно и говорить о нём - это разные вещи.
Что означает фантазм субъекта, который высказывается в его типичной формулировке «ребёнка бьют»? Фрейд предлагает нам то, что открывается ему в опыте. Сегодня мы не дойдём до конца этой статьи, я только выделю в ней некоторые элементы, прямо подразумевающие тот путь, по которому я повёл вас в прошлый раз для приближения к проблеме через случай юной гомосексуальной пациентки.
Согласно Фрейду, продвижение анализа показывает, что данный фантазм посредством серии трансформаций сменил другие фантазмы, каждый из которых сыграл в определённый момент развития субъекта совершенно понятную роль. Я хотел бы показать вам структуру этих моментов, чтобы помочь вам распознать элементы, которые, стоит только открыть глаза, становятся легко заметными хотя бы в том измерении, в котором мы с вами пытаемся продвинуться, в измерении субъективной структуры. Иначе говоря, чтобы определить настоящее место того, что часто представлено в теории как двусмысленность, даже тупик или антиномия, мы всегда стараемся понять, на каком уровне субъективной структуры явление имеет место.
Есть три этапа, говорит нам Фрейд, которые дают о себе знать по мере того, как при аналитическом воздействии открывается история субъекта, что и позволяет проследить происхождение этого фантазма.
На этот раз мы не будем фокусироваться на том, что Фрейд излагает в первой части своего текста, когда он по причинам, которые уточняет позже, ограничивается описанием того, что происходит у женщин - сегодня мы о причинах этих говорить не станем.
Первый фантазм, который мы можем обнаружить во время анализа, говорит нам Фрейд, приобретает следующую форму: «Мой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу».
Происхождение этого фантазма в истории субъекта, как правило, связано с появлением брата или сестры - соперника, который как своим присутствием, так и получаемой им заботой нарушает связь ребёнка с родителями. Здесь речь идёт именно об отце. Не задерживаясь на этом, всё-таки не будем упускать из виду, что речь идет о девочке и притом в тот момент, когда комплекс Эдипа уже образован и отношения с отцом выстроены. Преобладание личности отца в совершенно примитивном фантазме не могло обойтись без влияния того факта, что речь идёт о девочке. Но давайте оставим прояснение этого вопроса на будущее.
Важно то, что мы здесь касаемся исторической перспективы, которая становится активной силой задним числом. Именно в настоящем моменте, во время анализа, субъект формулирует и организует первичную драматическую ситуацию таким образом, который вписывается в его актуальную речь и соответствует его текущей способности к символизации. То, что мы обнаруживаем в ходе анализа,представляет из себя нечто изначальное, это наиболее глубокое первозданное образование.
Очевидная сложность фантазматической ситуации подразумевает участие трёх персонажей: есть карающий агент, есть тот, кто претерпевает, и есть субъект. Тот, кто претерпевает, это как раз ребёнок, которого субъект ненавидит, и поэтому, видя его лишённым родительского расположения, чувствует своё преимущество, поскольку другой это расположение утратил.
Напряжение возникает здесь в трех направлениях. Существует связь субъекта с двумя другими персонажами, чьи отношения между собой замыкаются на нём как на центральном элементе. Мой отец - скажем так, чтобы подчеркнуть этот смысл - бьёт моего брата (или сестру) только для того, чтобы я не подумал, что тот лучше меня. Причинность, напряжение, отсылка к субъекту в качестве третьей стороны, в интересах которой всё происходит, оживляют и направляют действие на второго персонажа - на того, кто претерпевает. Субъект участвует в ситуации как третий, на глазах у которого всё должно произойти, чтобы убедиться в предоставленной ему привилегии в предпочтении, в своём приоритете.
Таким образом, присутствует понятие страха, то есть своего рода предвосхищение, временная длительность, предзаданное напряжение, которое в качестве движущей силы действует внутри этой тройственной ситуации. И есть отсылка к третьему как субъекту - субъекту, который делает выводы, принимая во внимание поведение в отношении второго объекта. Этот последний в данном случае становится инструментом коммуникации между двумя субъектами, которая в конечном итоге, является любовной коммуникацией, поскольку именно за счёт этого второго формулируется для центрального субъекта то, что он воспринимает, а именно подтверждение его чаяния, его желания быть предпочитаемым или любимым. Таким образом, речь идёт об уже драматизированном и реакционном образовании, появляющемся в сложной ситуации, основанной на тройственной интерсубъективной взаимосвязи, с учётом всего того, что вводит измерение времени и его ритмического членения.
Участие второго субъекта необходимо. Для чего? Чтобы переходить от одного субъекта к другому, он задействован как инструмент, средство, передаточное звено. Здесь мы оказываемся перед лицом полной интерсубъективной структуры в том смысле, что она приобретает свою завершённость, будучи установленной в речи. Дело не в том, что нечто было сказано, но в том, что тройственная ситуация, заложенная в первичный (primitif) фантазм, сама по себе отмечена структурой интерсубъективности, которая формирует любой завершённый речевой акт.
Теперь перейдём ко второму этапу.
Он, по сравнению с первым, представляет из себя упрощённую ситуацию, в конкретном значении уменьшения количества персонажей до двух. Я следую тексту Фрейда, где он, не слишком настаивая, говорит о нем как о реконструированном этапе, необходимом для понимания мотивов того, что происходит в истории субъекта. Этот второй этап производит фантазм: «Меня бьёт мой отец».
Это ситуация, исключающая любое другое измерение, кроме отношений с избивающим агентом, дает повод для любого рода интерпретаций. Но все эти интерпретации сами по себе будут отмечены характером глубокой двусмысленности. Тогда как первый фантазм заключает в себе организацию и структуру, которую можно изобразить на схеме стрелочками, второй представляет ситуацию настолько неоднозначную, что может промелькнуть вопрос, насколько субъект сам содействует тому, кто подвергает его агрессии и побоям. Это классическая садомазохистская двойственность. Рассматривая её, мы вместе с Фрейдом сделаем вывод не только о сущности мазохизма, но и о том, что в этой ситуации важное значение придаётся собственному Я.
Субъект занимает по отношению к другому дополняющую (réciproque) и в то же время обособленную позицию. Бьют или его, или другого. В данном случае его. В свете того факта, что бьют его, присутствует указание на некоторую вещь, которая тем не
центральном элементе. Мой отец - скажем так, чтобы подчеркнуть этот смысл - бьёт моего брата (или сестру) только для того, чтобы я не подумал, что тот лучше меня. Причинность, напряжение, отсылка к субъекту в качестве третьей стороны, в интересах которой всё происходит, оживляют и направляют действие на второго персонажа - на того, кто претерпевает. Субъект участвует в ситуации как третий, на глазах у которого всё должно произойти, чтобы убедиться в предоставленной ему привилегии в предпочтении, в своём приоритете.
Таким образом, присутствует понятие страха, то есть своего рода предвосхищение, временная длительность, предзаданное напряжение, которое в качестве движущей силы действует внутри этой тройственной ситуации. И есть отсылка к третьему как субъекту - субъекту, который делает выводы, принимая во внимание поведение в отношении второго объекта. Этот последний в данном случае становится инструментом коммуникации между двумя субъектами, которая в конечном итоге, является любовной коммуникацией, поскольку именно за счёт этого второго формулируется для центрального субъекта то, что он воспринимает, а именно подтверждение его чаяния, его желания быть предпочитаемым или любимым. Таким образом, речь идёт об уже драматизированном и реакционном образовании, появляющемся в сложной ситуации, основанной на тройственной интерсубъективной взаимосвязи, с учётом всего того, что вводит измерение времени и его ритмического членения.
Участие второго субъекта необходимо. Для чего? Чтобы переходить от одного субъекта к другому, он задействован как инструмент, средство, передаточное звено. Здесь мы оказываемся перед лицом полной интерсубъективной структуры в том смысле, что она приобретает свою завершённость, будучи установленной в речи. Дело не в том, что нечто было сказано, но в том, что тройственная ситуация, заложенная в первичный (primitif) фантазм, сама по себе отмечена структурой интерсубъективности, которая формирует любой завершённый речевой акт.
Теперь перейдём ко второму этапу.
Он, по сравнению с первым, представляет из себя упрощённую ситуацию, в конкретном значении уменьшения количества персонажей до двух. Я следую тексту Фрейда, где он, не слишком настаивая, говорит о нем как о реконструированном этапе, необходимом для понимания мотивов того, что происходит в истории субъекта. Этот второй этап производит фантазм: «Меня бьёт мой отец».
Это ситуация, исключающая любое другое измерение, кроме отношений с избивающим агентом, дает повод для любого рода интерпретаций. Но все эти интерпретации сами по себе будут отмечены характером глубокой двусмысленности. Тогда как первый фантазм заключает в себе организацию и структуру, которую можно изобразить на схеме стрелочками, второй представляет ситуацию настолько неоднозначную, что может промелькнуть вопрос, насколько субъект сам содействует тому, кто подвергает его агрессии и побоям. Это классическая садомазохистская двойственность. Рассматривая её, мы вместе с Фрейдом сделаем вывод не только о сущности мазохизма, но и о том, что в этой ситуации важное значение придаётся собственному Я.
Субъект занимает по отношению к другому дополняющую (réciproque) и в то же время обособленную позицию. Бьют или его, или другого. В данном случае его. В свете того факта, что бьют его, присутствует указание на некоторую вещь, которая тем не менее до сих пор не прояснена. В самом акте избиения можно увидеть - и дальнейший анализ подтверждает это - перемещение ( transposition ) или перестановку ( déplacement ) одного элемента, который, возможно, уже отмечен эротизмом.
Показателен сам факт того, что мы можем говорить в данном случае о сущности мазохизма. На предыдущем этапе Фрейд сказал, что ситуация, при своей предельной структурированности, чревата различными возможностями. Изначально она не была ни сексуальной, ни определённо садистической, она содержала в себе эти черты как возможные. Второй этап отмечен двойственным колебанием между одним смыслом и другим.
Второй этап знаменуется дуальностью и всей той проблематикой, которую она производит на либидинальном плане, когда субъект сочетается с другим в дуальных, то есть двойственных отношениях типа или-или, которые являются основополагающими для этой взаимосвязи. Этот этап, говорит нам Фрейд, настолько скоротечен, что мы почти всегда вынуждены его реконструировать. Мимолётность является наиболее характерной его чертой, так что ситуация очень быстро переходит на третий этап.
На третьем этапе устранение субъекта достигает своей крайней точки, он явно находится в положении третьего, стороннего наблюдателя, как на первом этапе. После сокращения первой, растянутой во времени интерсубъективной ситуации и перехода ко второй, дуальной и взаимной (réciproque), он переходит к ситуации полной десубъективации, которая получает своё выражение в окончательном фантазме Ребёнка бьют.
В безличности этой формулировки смутно угадывается отцовская функция, но в целом отец остаётся не распознанным, это только суррогат. С другой стороны, Фрейд хотел сохранить в изначальном виде формулу субъекта, но часто речь идёт не об одном ребёнке, а о множестве. Фантазматическое производство заставляет его взорваться, умножая одного на тысячу, что хорошо отражает принципиально происходящую в этих отношениях десубъективацию.
Действительно, в итоге происходит радикальная десубъективация всей структуры на том уровне, где субъект сокращает своё присутствие до позиции наблюдателя или просто глаза, то есть того, что характеризует, в пределе, к чему сводится в конечном счете любой объект. Чтобы это увидеть, не обязательно нужен субъект, достаточно глаза, который может быть лишь экраном, на котором субъект возникает.
Как мы можем перевести это на наш язык в том конкретном пункте нашего исследования, в котором мы оказались на данный момент? Наша схема определяет воображаемые, более или менее фантазматические, отношения осью а-а’, которая в той или иной степени отмечена зеркальностью и взаимным дополнением (réciprocité) собственного Я и другого. Но у нас есть и другой элемент, который располагается на оси S-A, а именно бессознательная речь, которая должна быть найдена несмотря на все искушения анализа переноса. Она вполне может быть такой: «Мой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу, чтобы показать, что он меня любит». Или такой: «Мой отец бьёт ребёнка из страха, что я подумаю, что я не тот, кого он предпочитает». Или может быть выражена какой-то другой формулировкой, которая каким-либо образом придаст особенное значение одному из акцентов этих драматических отношений. Это то, что исключено и не представлено в неврозе, но то, что следует обнаружить, поскольку это получает развитие и проявляет себя во всех симптомах, образующих этот невроз, и занимает место в клинической картине в качестве фантазма.
менее до сих пор не прояснена. В самом акте избиения можно увидеть - и дальнейший анализ подтверждает это - перемещение ( transposition ) или перестановку ( déplacement ) одного элемента, который, возможно, уже отмечен эротизмом.
Показателен сам факт того, что мы можем говорить в данном случае о сущности мазохизма. На предыдущем этапе Фрейд сказал, что ситуация, при своей предельной структурированности, чревата различными возможностями. Изначально она не была ни сексуальной, ни определённо садистической, она содержала в себе эти черты как возможные. Второй этап отмечен двойственным колебанием между одним смыслом и другим.
Второй этап знаменуется дуальностью и всей той проблематикой, которую она производит на либидинальном плане, когда субъект сочетается с другим в дуальных, то есть двойственных отношениях типа или-или, которые являются основополагающими для этой взаимосвязи. Этот этап, говорит нам Фрейд, настолько скоротечен, что мы почти всегда вынуждены его реконструировать. Мимолётность является наиболее характерной его чертой, так что ситуация очень быстро переходит на третий этап.
На третьем этапе устранение субъекта достигает своей крайней точки, он явно находится в положении третьего, стороннего наблюдателя, как на первом этапе. После сокращения первой, растянутой во времени интерсубъективной ситуации и перехода ко второй, дуальной и взаимной (réciproque), он переходит к ситуации полной десубъективации, которая получает своё выражение в окончательном фантазме Ребёнка бьют.
В безличности этой формулировки смутно угадывается отцовская функция, но в целом отец остаётся не распознанным, это только суррогат. С другой стороны, Фрейд хотел сохранить в изначальном виде формулу субъекта, но часто речь идёт не об одном ребёнке, а о множестве. Фантазматическое производство заставляет его взорваться, умножая одного на тысячу, что хорошо отражает принципиально происходящую в этих отношениях десубъективацию.
Действительно, в итоге происходит радикальная десубъективация всей структуры на том уровне, где субъект сокращает своё присутствие до позиции наблюдателя или просто глаза, то есть того, что характеризует, в пределе, к чему сводится в конечном счете любой объект. Чтобы это увидеть, не обязательно нужен субъект, достаточно глаза, который может быть лишь экраном, на котором субъект возникает.
Как мы можем перевести это на наш язык в том конкретном пункте нашего исследования, в котором мы оказались на данный момент? Наша схема определяет воображаемые, более или менее фантазматические, отношения осью а-а’, которая в той или иной степени отмечена зеркальностью и взаимным дополнением (réciprocité) собственного Я и другого. Но у нас есть и другой элемент, который располагается на оси S-A, а именно бессознательная речь, которая должна быть найдена несмотря на все искушения анализа переноса. Она вполне может быть такой: «Мой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу, чтобы показать, что он меня любит». Или такой: «Мой отец бьёт ребёнка из страха, что я подумаю, что я не тот, кого он предпочитает». Или может быть выражена какой-то другой формулировкой, которая каким-либо образом придаст особенное значение одному из акцентов этих драматических отношений. Это то, что исключено и не представлено в неврозе, но то, что следует обнаружить, поскольку это получает развитие и проявляет себя во всех симптомах, образующих этот невроз, и занимает место в клинической картине в качестве фантазма. Как проявляется этот фантазм? Он несёт в себе наиболее очевидное свидетельство означающих элементов артикулированной речи на трансобъективном, если можно так сказать, уровне, где расположен большой Другой A как место артикуляции бессознательной речи и где находится субъект S, поскольку он является речью, историей, памятью, артикулированной структурой.
Перверсия, а лучше выразимся точнее, перверсивный фантазм, обладает одной особенностью, которую теперь мы можем прояснить.
В нём имеет место символическая редукция, которая постепенно устраняет всю субъективную структуру ситуации, позволяя сохранить от неё лишь всецело десубъективированный и в итоге таинственный остаток, поскольку в нём концентрируется весь заряд - но заряд не проявленный, не сформированный, не признанный субъектом - того, что на уровне большого Другого является артикулированной структурой, в которую субъект вовлечён. На уровне перверсивного фантазма все элементы в наличии, но потеряно всё то, что имеет значение, а именно интерсубъективные отношения. Это можно назвать поддержанием означающих в их чистом виде, вне интерсубъективных отношений, избавленными от их субъектов. Здесь мы имеем дело со своего рода объективацией означающих ситуации. То, что на уровне перверсии проявляется в качестве фундаментально структурирующих историю субъекта отношений, одновременно поддерживается и содержится, но лишь в виде чистого знака.
Находим ли мы на уровне перверсии что-либо другое? Возьмём, к примеру, то, что вам известно о фетише, о котором говорят, что его можно объяснить тем, что всегда по ту сторону и всегда остаётся за пределом видимости - пенисом фаллической матери. Чаще всего после небольшого аналитического усилия подтверждается, что субъект связывает это, по крайней мере в материале доступных ему воспоминаний, с конкретной ситуацией, когда, будучи ребёнком, он останавливает свой взгляд на подоле платья матери. Вы улавливаете здесь примечательное сходство со структурой того, что называется покрывающим воспоминанием (souvenir-écran), то есть с моментом, когда движение цепочки воспоминаний останавливается. Взгляд действительно останавливается на подоле, то есть не выше лодыжки, где край платья встречается с обувью, и именно поэтому обувь, по крайней мере в некоторых частных, но показательных случаях, может взять на себя функцию замены того, что, оставаясь невидимым, артикулировано, сформулировано как то, чем в глазах субъекта мать на самом деле обладает, а именно как фаллос - воображаемый конечно, но принципиально необходимый для её символического обоснования в качестве фаллической матери.
Наряду с фантазмом мы обнаруживаем здесь другую вещь того же порядка, она фиксирует, сводит ход воспоминания к одному мгновению, останавливая его в том пункте, который называется покрывающим воспоминанием (souvenir-écran). Представьте это на кинематографический манер, когда действие на экране стремительно развивается и в один момент вдруг внезапно замирает, оставляя персонажей в застывших позах. Эта моментальность является характерной для редукции полной, значимой и поступательно развивающейся ситуации к тому, что обездвиживается в фантазме, нагруженном всеми эротическими значениями, которые были таким образом выражены и для которых он является свидетельством, опорой и последней оставшейся поддержкой.
Как проявляется этот фантазм? Он несёт в себе наиболее очевидное свидетельство означающих элементов артикулированной речи на трансобъективном, если можно так сказать, уровне, где расположен большой Другой A как место артикуляции бессознательной речи и где находится субъект S, поскольку он является речью, историей, памятью, артикулированной структурой.
Перверсия, а лучше выразимся точнее, перверсивный фантазм, обладает одной особенностью, которую теперь мы можем прояснить.
В нём имеет место символическая редукция, которая постепенно устраняет всю субъективную структуру ситуации, позволяя сохранить от неё лишь всецело десубъективированный и в итоге таинственный остаток, поскольку в нём концентрируется весь заряд - но заряд не проявленный, не сформированный, не признанный субъектом - того, что на уровне большого Другого является артикулированной структурой, в которую субъект вовлечён. На уровне перверсивного фантазма все элементы в наличии, но потеряно всё то, что имеет значение, а именно интерсубъективные отношения. Это можно назвать поддержанием означающих в их чистом виде, вне интерсубъективных отношений, избавленными от их субъектов. Здесь мы имеем дело со своего рода объективацией означающих ситуации. То, что на уровне перверсии проявляется в качестве фундаментально структурирующих историю субъекта отношений, одновременно поддерживается и содержится, но лишь в виде чистого знака.
Находим ли мы на уровне перверсии что-либо другое? Возьмём, к примеру, то, что вам известно о фетише, о котором говорят, что его можно объяснить тем, что всегда по ту сторону и всегда остаётся за пределом видимости - пенисом фаллической матери. Чаще всего после небольшого аналитического усилия подтверждается, что субъект связывает это, по крайней мере в материале доступных ему воспоминаний, с конкретной ситуацией, когда, будучи ребёнком, он останавливает свой взгляд на подоле платья матери. Вы улавливаете здесь примечательное сходство со структурой того, что называется покрывающим воспоминанием (souvenir-écran), то есть с моментом, когда движение цепочки воспоминаний останавливается. Взгляд действительно останавливается на подоле, то есть не выше лодыжки, где край платья встречается с обувью, и именно поэтому обувь, по крайней мере в некоторых частных, но показательных случаях, может взять на себя функцию замены того, что, оставаясь невидимым, артикулировано, сформулировано как то, чем в глазах субъекта мать на самом деле обладает, а именно как фаллос - воображаемый конечно, но принципиально необходимый для её символического обоснования в качестве фаллической матери.
Наряду с фантазмом мы обнаруживаем здесь другую вещь того же порядка, она фиксирует, сводит ход воспоминания к одному мгновению, останавливая его в том пункте, который называется покрывающим воспоминанием (souvenir-écran). Представьте это на кинематографический манер, когда действие на экране стремительно развивается и в один момент вдруг внезапно замирает, оставляя персонажей в застывших позах. Эта моментальность является характерной для редукции полной, значимой и поступательно развивающейся ситуации к тому, что обездвиживается в фантазме, нагруженном всеми эротическими значениями, которые были таким образом выражены и для которых он является свидетельством, опорой и последней оставшейся поддержкой. Мы касаемся здесь того, что можно назвать матрицей перверсии - того особенного значения, которое придаётся образу. Поскольку именно образ остаётся привилегированным свидетелем того, что должно быть сформулировано в бессознательном и войти в диалектику переноса, то есть должно обрести своё измерение в аналитическом диалоге.
То есть каждый раз, когда речь заходит о перверсии, воображаемое измерение оказывается преобладающим. Эта воображаемая связь лежит на пути того, что переходит от субъекта к Другому - того, точнее говоря, что в силу вытеснения осталось от субъекта в Другом. Эта речь является речью субъекта, но поскольку она, будучи по природе речью, представляет собой сообщение, которое субъект получает от Другого в обращённой форме, она вместе с тем может оставаться и в Другом, образуя в нём вытесненное и бессознательное, устанавливая возможные, но не реализованные отношения.
Возможные, да - но должна заключаться в них и некая невозможность, иначе они не оказались бы вытеснены. Именно в силу того, что при обычном ходе вещей имеет место эта невозможность, возникает необходимость пойти на любые ухищрения переноса, чтобы заново сделать пригодным для передачи, формулируемым то, что должно быть сообщено от этого Другого, большого Другого, субъекту, поскольку Я (¡е) этого субъекта уже возникло.
Фрейдовский анализ на это нам ясно указывает, и эта формулировка ведёт гораздо дальше, чем то, о чём я сейчас говорю. В данном случае Фрейд чётко отмечает, что к проблеме образования любой перверсии необходимо подходить со стороны Эдипа, через аватары, авантюру, революцию Эдипа.
Поразительно, что может прийти в голову понимать формулу Фрейда перверсия является негативом невроза так, как это предлагает её популярное толкование, рассматривая перверсию как влечение, недоработанное эдипальным и невротическим механизмом, как простой пережиток, как неизбытое частичное влечение. Фрейд, напротив, и в этой важнейшей, ключевой статье, и ещё во многих других местах, отчётливо указывает на то, что любое перверсивное структурирование, по нашим предположениям такое примитивное, - по крайней мере из тех, что известны нам, аналитикам - имеет место не иначе как средство, поворотная ось, некоторый элемент того, что в конечном счёте задумано, подразумевается и сформулировано только в целях и посредством процесса продвижения, организации и артикуляции эдипова комплекса.
2
Попробуем теперь вписать случай молодой гомосексуальной пациентки, рассмотренный нами на днях, в схему перекрёстных отношений субъекта и большого Другого.
За осью S-А следует закрепить символическое значение, всё актуальное бытие субъекта. На другой оси воображаемая диспозиция а-а' является тем, в чём субъект получает свой статус, свою объектную структуру, которая признана им как таковая и включена определённым образом в собственное Я, противостоя объектам, обладающим для него непосредственной привлекательностью и соответствующим его желанию, поскольку оно направлено по воображаемым рельсам, формирующим так называемые либидинальные фиксации.
Мы касаемся здесь того, что можно назвать матрицей перверсии - того особенного значения, которое придаётся образу. Поскольку именно образ остаётся привилегированным свидетелем того, что должно быть сформулировано в бессознательном и войти в диалектику переноса, то есть должно обрести своё измерение в аналитическом диалоге.
То есть каждый раз, когда речь заходит о перверсии, воображаемое измерение оказывается преобладающим. Эта воображаемая связь лежит на пути того, что переходит от субъекта к Другому - того, точнее говоря, что в силу вытеснения осталось от субъекта в Другом. Эта речь является речью субъекта, но поскольку она, будучи по природе речью, представляет собой сообщение, которое субъект получает от Другого в обращённой форме, она вместе с тем может оставаться и в Другом, образуя в нём вытесненное и бессознательное, устанавливая возможные, но не реализованные отношения.
Возможные, да - но должна заключаться в них и некая невозможность, иначе они не оказались бы вытеснены. Именно в силу того, что при обычном ходе вещей имеет место эта невозможность, возникает необходимость пойти на любые ухищрения переноса, чтобы заново сделать пригодным для передачи, формулируемым то, что должно быть сообщено от этого Другого, большого Другого, субъекту, поскольку Я (¡е) этого субъекта уже возникло.
Фрейдовский анализ на это нам ясно указывает, и эта формулировка ведёт гораздо дальше, чем то, о чём я сейчас говорю. В данном случае Фрейд чётко отмечает, что к проблеме образования любой перверсии необходимо подходить со стороны Эдипа, через аватары, авантюру, революцию Эдипа.
Поразительно, что может прийти в голову понимать формулу Фрейда перверсия является негативом невроза так, как это предлагает её популярное толкование, рассматривая перверсию как влечение, недоработанное эдипальным и невротическим механизмом, как простой пережиток, как неизбытое частичное влечение. Фрейд, напротив, и в этой важнейшей, ключевой статье, и ещё во многих других местах, отчётливо указывает на то, что любое перверсивное структурирование, по нашим предположениям такое примитивное, - по крайней мере из тех, что известны нам, аналитикам - имеет место не иначе как средство, поворотная ось, некоторый элемент того, что в конечном счёте задумано, подразумевается и сформулировано только в целях и посредством процесса продвижения, организации и артикуляции эдипова комплекса.
2
Попробуем теперь вписать случай молодой гомосексуальной пациентки, рассмотренный нами на днях, в схему перекрёстных отношений субъекта и большого Другого.
За осью S-А следует закрепить символическое значение, всё актуальное бытие субъекта. На другой оси воображаемая диспозиция а-а' является тем, в чём субъект получает свой статус, свою объектную структуру, которая признана им как таковая и включена определённым образом в собственное Я, противостоя объектам, обладающим для него непосредственной привлекательностью и соответствующим его желанию, поскольку оно направлено по воображаемым рельсам, формирующим так называемые либидинальные фиксации. Хотя мы сегодня и не доведём дело до конца, попробуем подытожить. Можно различить пять тактов в сопровождающих образование и установление этой перверсии феноменах, при этом неважно, рассматриваем ли мы её как вписанную в структуру изначально или приобретённую. В этом случае мы знаем, как именно перверсия дала о себе знать, потом закрепилась и развивалась, мы знаем о её пружинах и обстоятельствах её возникновения. Эта перверсия сформировалась поздно, что, однако, не означает, что она не имела предпосылок в самых ранних первичных процессах. Давайте попробуем понять ходы, которые предпринял сам Фрейд.
Начнём с первичного этапа. В пубертатный период, ближе к тринадцати или четырнадцати годам, эта юная девушка дорожит одним объектом, ребёнком, которого она нянчит и к которому привязалась. В глазах всех окружающих она выглядит вполне отвечающей их ожиданиям в смысле точного соответствия обычному призванию каждой женщины, материнству.
В этих обстоятельствах происходит нечто, производящее в ней своего рода разворот, в результате которого она перенаправляет свой интерес на объекты любви, отмеченные знаком женственности. Это женщины в ситуации материнства, которые недавно стали матерями.
В итоге она дойдёт до буквально пожирающей степени страсти к персоне, которую мы не без причины назовём Дамой. Девушка ухаживает за этой Дамой в высоком рыцарском стиле, прямо как мужчина, страстно, но без требований, без желаний и ожидания взаимности, предлагая своё служение в дар, ведя себя как любовник, влюблённый в свой объект помимо любых его проявлений. В общем, в этой истории мы находим одну из наиболее высокоразвитых форм любовных отношений.
Как можно осмыслить произошедшую трансформацию? Я показал вам начало и итог, но между ними происходит ещё кое-что, и Фрейд говорит нам, что именно. Вернёмся к этому и переведём ситуацию в термины, которые помогли бы нам проанализировать положение дел.
Оттолкнёмся от фаллической фазы генитальной организации. В чём смысл того, что говорит нам Фрейд по этому поводу? В преддверии латентного периода инфантильный субъект, как мальчик, так и девочка, подходит к фаллической фазе, которая отмечает пункт генитальной реализации, где уже всё представлено в наличии, вплоть до выбора объекта. Однако кое-чего недостаёт, а именно полноценного осуществления генитальной функции, по-настоящему структурированной и организованной. Действительно, есть только фантазматический, воображаемый по своей сути, элемент фаллического преобладания, посредством которого существа этого мира делятся для субъекта на два типа: существ, которые обладают фаллосом, и тех, кто им не обладает, то есть кастрированы.
Эти формулы Фрейда порождают проблематику, которую авторы не могут разрешить, когда пытаются положить в её основание мотивы, которые для субъекта определяются реальным, и тогда возникает необходимость прибегать к невероятным способам объяснения. Я уже говорил вам, что помечаю это кавычками, но общий смысл [подобных заблуждений] можно сформулировать примерно следующим образом. Поскольку всё, как известно, предначертано заранее и вписано в бессознательные тенденции, поскольку в субъекте заранее заложено то, что делает половые отношения адекватными, необходимо, чтобы фаллическое преимущество было формацией, в которой субъект находит определённое преимущество и чтобы налицо был, таким
Хотя мы сегодня и не доведём дело до конца, попробуем подытожить. Можно различить пять тактов в сопровождающих образование и установление этой перверсии феноменах, при этом неважно, рассматриваем ли мы её как вписанную в структуру изначально или приобретённую. В этом случае мы знаем, как именно перверсия дала о себе знать, потом закрепилась и развивалась, мы знаем о её пружинах и обстоятельствах её возникновения. Эта перверсия сформировалась поздно, что, однако, не означает, что она не имела предпосылок в самых ранних первичных процессах. Давайте попробуем понять ходы, которые предпринял сам Фрейд.
Начнём с первичного этапа. В пубертатный период, ближе к тринадцати или четырнадцати годам, эта юная девушка дорожит одним объектом, ребёнком, которого она нянчит и к которому привязалась. В глазах всех окружающих она выглядит вполне отвечающей их ожиданиям в смысле точного соответствия обычному призванию каждой женщины, материнству.
В этих обстоятельствах происходит нечто, производящее в ней своего рода разворот, в результате которого она перенаправляет свой интерес на объекты любви, отмеченные знаком женственности. Это женщины в ситуации материнства, которые недавно стали матерями.
В итоге она дойдёт до буквально пожирающей степени страсти к персоне, которую мы не без причины назовём Дамой. Девушка ухаживает за этой Дамой в высоком рыцарском стиле, прямо как мужчина, страстно, но без требований, без желаний и ожидания взаимности, предлагая своё служение в дар, ведя себя как любовник, влюблённый в свой объект помимо любых его проявлений. В общем, в этой истории мы находим одну из наиболее высокоразвитых форм любовных отношений.
Как можно осмыслить произошедшую трансформацию? Я показал вам начало и итог, но между ними происходит ещё кое-что, и Фрейд говорит нам, что именно. Вернёмся к этому и переведём ситуацию в термины, которые помогли бы нам проанализировать положение дел.
Оттолкнёмся от фаллической фазы генитальной организации. В чём смысл того, что говорит нам Фрейд по этому поводу? В преддверии латентного периода инфантильный субъект, как мальчик, так и девочка, подходит к фаллической фазе, которая отмечает пункт генитальной реализации, где уже всё представлено в наличии, вплоть до выбора объекта. Однако кое-чего недостаёт, а именно полноценного осуществления генитальной функции, по-настоящему структурированной и организованной. Действительно, есть только фантазматический, воображаемый по своей сути, элемент фаллического преобладания, посредством которого существа этого мира делятся для субъекта на два типа: существ, которые обладают фаллосом, и тех, кто им не обладает, то есть кастрированы.
Эти формулы Фрейда порождают проблематику, которую авторы не могут разрешить, когда пытаются положить в её основание мотивы, которые для субъекта определяются реальным, и тогда возникает необходимость прибегать к невероятным способам объяснения. Я уже говорил вам, что помечаю это кавычками, но общий смысл [подобных заблуждений] можно сформулировать примерно следующим образом. Поскольку всё, как известно, предначертано заранее и вписано в бессознательные тенденции, поскольку в субъекте заранее заложено то, что делает половые отношения адекватными, необходимо, чтобы фаллическое преимущество было формацией, в которой субъект находит определённое преимущество и чтобы налицо был, таким образом, процесс защиты. Возможно, это имеет некоторый смысл, но уводит в сторону от проблемы и в итоге толкает авторов на ряд построений, которые относят всю диалектику символического к самому началу и по мере восхождения к этому началу предстают всё более немыслимыми.
Нам, по сравнению с этими авторами, гораздо проще допустить, что фаллос в данном случае является воображаемым элементом - это следует принять в качестве факта - посредством которого субъект на генитальном уровне вводится в диалектику символического измерения дара.
Символическое измерение дара и половое созревание, представляя собой две разные вещи, тем не менее связаны с одним фактором, влияющим на реальную человеческую ситуацию, а именно с правилами осуществления генитальных функций, установленными законом, которые действенно включаются в игру в сфере межчеловеческого обмена. Именно потому, что всё происходит на этом уровне, и возникает между символическим измерением дара и половым созреванием настолько тесная взаимосвязь. Но для субъекта это не имеет никакого внутреннего, биологического или индивидуального соответствия. Оказывается, напротив, что фантазм фаллоса на генитальном уровне приобретает своё значение в рамках измерения символического дара. Фрейд настаивает на том, что по определённым причинам фаллос не имеет одинаковой ценности для того, кто им действительно обладает, то есть ребёнка мужского пола, и для того, кто им не обладает, то есть для ребёнка женского пола.
Именно потому, что девочка не обладает фаллосом, она будет включена в символическое измерение дара. Именно в силу того, что она придает фаллосу в данной ситуации столь большое значение, то есть поскольку у неё возникает вопрос о том, иметь или не иметь фаллос, она входит в эдипов комплекс. Тогда как для мальчика, подчёркивает Фрейд, это происходит не на входе, а на выходе из комплекса Эдипа. В завершении комплекса Эдипа, после того как мальчик на определённом плане осознал символическое измерение дара, ему нужно будет подарить то, что у него есть. Девочка входит в комплекс Эдипа по причине того, что она не обладает [фаллосом], и для того, чтобы [его] в комплексе Эдипа найти.
Что значит она не обладает? Здесь мы уже на том уровне, где воображаемый элемент входит в символическую диалектику. Ведь в диалектике символического то, чего у нас нет, существует точно так же, как и всё остальное. Просто со знаком минус. Таким образом, она входит с этим минусом, тогда как мальчик - с плюсом. Нужно только, чтобы было нечто такое, что мы могли бы отметить плюсом или минусом, присутствием или отсутствием. То, что здесь вступает в игру, это и есть фаллос. Вот, говорит нам Фрейд, что подталкивает девочку войти в эдипов комплекс.
В пределах этого символического измерения дара любого рода вещи могут быть предложены в обмен, именно поэтому мы видим такое большое разнообразие эквивалентов фаллоса в симптомах.
Фрейд пошёл ещё дальше. В работе «Ребёнка бьют» вы найдёте предпосылки этого в изначальном виде. Почему такое количество элементов догенитальных отношений оказываются задействованными в эдипальной диалектике? Почему на анальном и оральном уровнях продолжается производство фрустраций, которые присоединяются к фрустрациям, происшествиям и драматическим компонентам эдипальных отношений, хотя, предположительно, всё это должно было послужить
образом, процесс защиты. Возможно, это имеет некоторый смысл, но уводит в сторону от проблемы и в итоге толкает авторов на ряд построений, которые относят всю диалектику символического к самому началу и по мере восхождения к этому началу предстают всё более немыслимыми.
Нам, по сравнению с этими авторами, гораздо проще допустить, что фаллос в данном случае является воображаемым элементом - это следует принять в качестве факта - посредством которого субъект на генитальном уровне вводится в диалектику символического измерения дара.
Символическое измерение дара и половое созревание, представляя собой две разные вещи, тем не менее связаны с одним фактором, влияющим на реальную человеческую ситуацию, а именно с правилами осуществления генитальных функций, установленными законом, которые действенно включаются в игру в сфере межчеловеческого обмена. Именно потому, что всё происходит на этом уровне, и возникает между символическим измерением дара и половым созреванием настолько тесная взаимосвязь. Но для субъекта это не имеет никакого внутреннего, биологического или индивидуального соответствия. Оказывается, напротив, что фантазм фаллоса на генитальном уровне приобретает своё значение в рамках измерения символического дара. Фрейд настаивает на том, что по определённым причинам фаллос не имеет одинаковой ценности для того, кто им действительно обладает, то есть ребёнка мужского пола, и для того, кто им не обладает, то есть для ребёнка женского пола.
Именно потому, что девочка не обладает фаллосом, она будет включена в символическое измерение дара. Именно в силу того, что она придает фаллосу в данной ситуации столь большое значение, то есть поскольку у неё возникает вопрос о том, иметь или не иметь фаллос, она входит в эдипов комплекс. Тогда как для мальчика, подчёркивает Фрейд, это происходит не на входе, а на выходе из комплекса Эдипа. В завершении комплекса Эдипа, после того как мальчик на определённом плане осознал символическое измерение дара, ему нужно будет подарить то, что у него есть. Девочка входит в комплекс Эдипа по причине того, что она не обладает [фаллосом], и для того, чтобы [его] в комплексе Эдипа найти.
Что значит она не обладает? Здесь мы уже на том уровне, где воображаемый элемент входит в символическую диалектику. Ведь в диалектике символического то, чего у нас нет, существует точно так же, как и всё остальное. Просто со знаком минус. Таким образом, она входит с этим минусом, тогда как мальчик - с плюсом. Нужно только, чтобы было нечто такое, что мы могли бы отметить плюсом или минусом, присутствием или отсутствием. То, что здесь вступает в игру, это и есть фаллос. Вот, говорит нам Фрейд, что подталкивает девочку войти в эдипов комплекс.
В пределах этого символического измерения дара любого рода вещи могут быть предложены в обмен, именно поэтому мы видим такое большое разнообразие эквивалентов фаллоса в симптомах.
Фрейд пошёл ещё дальше. В работе «Ребёнка бьют» вы найдёте предпосылки этого в изначальном виде. Почему такое количество элементов догенитальных отношений оказываются задействованными в эдипальной диалектике? Почему на анальном и оральном уровнях продолжается производство фрустраций, которые присоединяются к фрустрациям, происшествиям и драматическим компонентам эдипальных отношений, хотя, предположительно, всё это должно было послужить исключительно целям генитального развития? Ответ Фрейда касается того, что для ребёнка на генитальном уровне есть вещи непонятные, поскольку он, конечно, не располагает соответствующим опытом - объекты, которые задействованы в догенитальном опыте, говорит он, более доступны для словесных представлений, Wortvorstellungen.
Да, Фрейд доходит до утверждения, что если в эдипальную диалектику вводятся догенитальные объекты, то происходит это постольку, поскольку они легче переходят в словесные представления. Ребёнку легче высказать, что иногда папа даёт маме мочу, потому что о её существовании и свойствах он хорошо знает, исходя из своего опыта, он знаком с мочой как с объектом. Легче символизировать, то есть более-менее оснастить знаком тот объект, который уже имеет некоторую реализацию в воображении ребёнка. Но это остаётся труднодоступным и сложным для понимания девочки.
Девочка в своём первом включении в диалектику Эдипа придерживается, согласно Фрейду, того представления, что желаемый ею пенис - это ребёнок, которого она ожидает получить от отца как замену. Но в нашем примере юной гомосексуальной пациентки речь идёт о реальном ребёнке. Девочка нянчится с настоящим ребёнком.
ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА
исключительно целям генитального развития? Ответ Фрейда касается того, что для ребёнка на генитальном уровне есть вещи непонятные, поскольку он, конечно, не располагает соответствующим опытом - объекты, которые задействованы в догенитальном опыте, говорит он, более доступны для словесных представлений, Wortvorstellungen.
Да, Фрейд доходит до утверждения, что если в эдипальную диалектику вводятся догенитальные объекты, то происходит это постольку, поскольку они легче переходят в словесные представления. Ребёнку легче высказать, что иногда папа даёт маме мочу, потому что о её существовании и свойствах он хорошо знает, исходя из своего опыта, он знаком с мочой как с объектом. Легче символизировать, то есть более-менее оснастить знаком тот объект, который уже имеет некоторую реализацию в воображении ребёнка. Но это остаётся труднодоступным и сложным для понимания девочки.
Девочка в своём первом включении в диалектику Эдипа придерживается, согласно Фрейду, того представления, что желаемый ею пенис - это ребёнок, которого она ожидает получить от отца как замену. Но в нашем примере юной гомосексуальной пациентки речь идёт о реальном ребёнке. Девочка нянчится с настоящим ребёнком.
ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА С другой стороны, что для неё значит этот ребёнок, которого она нянчит? Это воображаемый заменитель фаллоса, с помощью которого девушка сама не зная того, формирует свою субъективность в качестве воображаемой матери. Если, ухаживая за ребёнком, она получает удовлетворение, то происходит так потому, что таким образом она обретает воображаемый пенис, в перспективах обладания которым она уже глубоко разочаровалась, поэтому я записываю воображаемый пенис со знаком минус. Этим самым я лишь подчёркиваю то, что характерно для изначальной фрустрации - любой объект, введённый посредством фрустрации, всегда оказывается для субъекта в двусмысленной позиции - позиции принадлежности к его телу.
Я останавливаюсь на этом потому, что в вопросе первичных отношений ребёнка и матери всё внимание концентрируется на пассивном аспекте фрустрации. Утверждается, что ребёнок впервые обнаруживает связь принципа удовольствия и принципа реальности во фрустрациях со стороны матери, вследствие чего вы видите употребление терминов фрустрации объекта и утраты объекта любви, в качестве равнозначных. Тем временем, если и есть нечто, на чём я настаивал на предыдущих встречах, так это на совершенно очевидной биполярности или оппозиции между реальным объектом, которого ребёнок может быть лишён, то есть материнской грудью, с одной стороны, и матерью, положение которой позволяет наделить или обделить этим реальным объектом, с другой.
С другой стороны, что для неё значит этот ребёнок, которого она нянчит? Это воображаемый заменитель фаллоса, с помощью которого девушка сама не зная того, формирует свою субъективность в качестве воображаемой матери. Если, ухаживая за ребёнком, она получает удовлетворение, то происходит так потому, что таким образом она обретает воображаемый пенис, в перспективах обладания которым она уже глубоко разочаровалась, поэтому я записываю воображаемый пенис со знаком минус. Этим самым я лишь подчёркиваю то, что характерно для изначальной фрустрации - любой объект, введённый посредством фрустрации, всегда оказывается для субъекта в двусмысленной позиции - позиции принадлежности к его телу.
Я останавливаюсь на этом потому, что в вопросе первичных отношений ребёнка и матери всё внимание концентрируется на пассивном аспекте фрустрации. Утверждается, что ребёнок впервые обнаруживает связь принципа удовольствия и принципа реальности во фрустрациях со стороны матери, вследствие чего вы видите употребление терминов фрустрации объекта и утраты объекта любви, в качестве равнозначных. Тем временем, если и есть нечто, на чём я настаивал на предыдущих встречах, так это на совершенно очевидной биполярности или оппозиции между реальным объектом, которого ребёнок может быть лишён, то есть материнской грудью, с одной стороны, и матерью, положение которой позволяет наделить или обделить этим реальным объектом, с другой. Это различение между грудью и матерью как всеобъемлющим (total) объектом проведено Мадам Мелани Кляйн. Она чётко помещает частичные объекты по одну сторону, а полный в своей совокупности материнский объект, способный образовать у ребёнка пресловутую депрессивную позицию, по другую. Это действительно является способом отразить положение дел. Только упускается из виду, что эти два объекта обладают разной природой. Но остаётся фактом, что мать как действующее лицо возникает в результате зова ( appel ) - что она с самого начала, на самом примитивном уровне, задействована в качестве объекта, отмеченного способностью присутствовать и отсутствовать, - что любая фрустрация, причинённая чем-то, связанным с матерью, является любовной фрустрацией - что любой материнский отклик на зов (appel) является даром, то есть чем-то другим, нежели объект. Иными словами, существует радикальное различие между даром как знаком любви, который целиком ориентирован чем-то иным и потусторонним, материнской любовью, с одной стороны, и любым объектом удовлетворения потребностей ребёнка, с другой.
Фрустрация любви и фрустрация наслаждения - это две разные вещи. Фрустрация любви весьма сильно проявляется в дальнейшем опыте любых интерсубъективных отношений. Тогда как фрустрация наслаждения никаких особых последствий вообще не несёт.
В противоположность тому, что нам говорят, вовсе не фрустрация наслаждения порождает реальность. Месье Винникотт очень хорошо это уловил, хотя и выразил не без характерной путаницы, присущей аналитической литературе. Мы не можем предполагать ни малейшего основания для происхождения реальности в обстоятельствах наличия или отсутствия доступа ребёнка к груди. Если груди нет, то он голоден и продолжает кричать. Другими словами, что производит фрустрация наслаждения? Прежде всего, она пробуждает желание, но никак не поддерживает образование какого бы то ни было объекта. Вот почему Месье Винникотту удаётся обнаружить в поведении ребенка ту замечательную особенность, которая позволяет нам действительно выявить некоторое развитие - развитие, требующее настоящего объяснения.
Ни фундаментальный, ни какой-либо ещё образ не формируются только лишь потому, что ребёнок лишается материнской груди. Необходимо, чтобы сам по себе образ был принят в его подлинном измерении. Принципиальное значение имеет не грудь, но заострение груди, то есть сосок. Именно им подменяется и на него накладывается фаллос. Общей у них является одна черта, на которой нам следует задержать внимание: они складываются как образы.
То, что следует у ребёнка за фрустрацией объекта наслаждения является самостоятельным измерением, которое сохраняется в субъекте в условиях воображаемых отношений. Это не просто элемент, который фокусирует на себе импульс желания по типу манка (leurre), который всегда направляет поведение животных. В оперении и плавниках противника есть некоторые опознавательные знаки, которые определяют его в качестве противника, и мы всегда можем выявить то, что дифференцирует образ в биологии. Безусловно, это присутствует и у человека, но усиливается в том, что становится доступным для наблюдения в поведении детей, образы у которых связаны с основополагающим образом, сообщающим ему его всеобъемлющий статус. Речь идёт о той форме целостности, к которой ребёнок
Это различение между грудью и матерью как всеобъемлющим (total) объектом проведено Мадам Мелани Кляйн. Она чётко помещает частичные объекты по одну сторону, а полный в своей совокупности материнский объект, способный образовать у ребёнка пресловутую депрессивную позицию, по другую. Это действительно является способом отразить положение дел. Только упускается из виду, что эти два объекта обладают разной природой. Но остаётся фактом, что мать как действующее лицо возникает в результате зова ( appel ) - что она с самого начала, на самом примитивном уровне, задействована в качестве объекта, отмеченного способностью присутствовать и отсутствовать, - что любая фрустрация, причинённая чем-то, связанным с матерью, является любовной фрустрацией - что любой материнский отклик на зов (appel) является даром, то есть чем-то другим, нежели объект. Иными словами, существует радикальное различие между даром как знаком любви, который целиком ориентирован чем-то иным и потусторонним, материнской любовью, с одной стороны, и любым объектом удовлетворения потребностей ребёнка, с другой.
Фрустрация любви и фрустрация наслаждения - это две разные вещи. Фрустрация любви весьма сильно проявляется в дальнейшем опыте любых интерсубъективных отношений. Тогда как фрустрация наслаждения никаких особых последствий вообще не несёт.
В противоположность тому, что нам говорят, вовсе не фрустрация наслаждения порождает реальность. Месье Винникотт очень хорошо это уловил, хотя и выразил не без характерной путаницы, присущей аналитической литературе. Мы не можем предполагать ни малейшего основания для происхождения реальности в обстоятельствах наличия или отсутствия доступа ребёнка к груди. Если груди нет, то он голоден и продолжает кричать. Другими словами, что производит фрустрация наслаждения? Прежде всего, она пробуждает желание, но никак не поддерживает образование какого бы то ни было объекта. Вот почему Месье Винникотту удаётся обнаружить в поведении ребенка ту замечательную особенность, которая позволяет нам действительно выявить некоторое развитие - развитие, требующее настоящего объяснения.
Ни фундаментальный, ни какой-либо ещё образ не формируются только лишь потому, что ребёнок лишается материнской груди. Необходимо, чтобы сам по себе образ был принят в его подлинном измерении. Принципиальное значение имеет не грудь, но заострение груди, то есть сосок. Именно им подменяется и на него накладывается фаллос. Общей у них является одна черта, на которой нам следует задержать внимание: они складываются как образы.
То, что следует у ребёнка за фрустрацией объекта наслаждения является самостоятельным измерением, которое сохраняется в субъекте в условиях воображаемых отношений. Это не просто элемент, который фокусирует на себе импульс желания по типу манка (leurre), который всегда направляет поведение животных. В оперении и плавниках противника есть некоторые опознавательные знаки, которые определяют его в качестве противника, и мы всегда можем выявить то, что дифференцирует образ в биологии. Безусловно, это присутствует и у человека, но усиливается в том, что становится доступным для наблюдения в поведении детей, образы у которых связаны с основополагающим образом, сообщающим ему его всеобъемлющий статус. Речь идёт о той форме целостности, к которой ребёнок присоединяется, о форме другого, том образе, вокруг которого могут группироваться и распадаться субъекты в качестве причастных или же непричастных ему.
В целом, проблема заключается не в том, чтобы понять степень развития нарциссизма, рассматриваемого первоначально в качестве воображаемого и совершенного (idéal) аутоэротизма, а в том, чтобы установить роль первоначального (originel) нарциссизма в образовании мира объектов. Вот что обращает внимание Винникотта на объекты, которые он называет переходными.
Без них мы бы не имели ни малейшего представления о способе, с помощью которого ребёнок способен создать мир, исходя из своих фрустраций. Он, безусловно, создаёт мир, но не стоит утверждать, что это как-то касается объекта его желаний, по отношению к которому он изначально испытал фрустрацию. Он создаёт мир постольку, поскольку, приближаясь к тому, чего желает, он может встретиться с тем, обо что он ударится или обожжётся. Это совсем не является объектом, каким-то образом порождённым объектом желания, это не то, что может быть смоделировано стадиями развития желания в том виде, в котором они формулируются и распределяются в детском развитии. Это нечто другое. Объект, поскольку он порождается фрустрацией, подводит нас к тому, чтобы признать автономию воображаемого производства в его отношениях с образом тела. Это тот самый двойственный (ambigu) объект, который «ни здесь и ни там». Ни о реальности, ни о нереальности этого объекта говорить нельзя. Именно так, и весьма обоснованно, выражается Месье Винникотт, но вместо того, чтобы самому подойти к проблеме, которую ставит включение этого объекта в символический порядок, он сталкивается с ней едва ли не против воли, потому что не столкнуться с ней на этом пути нельзя.
Переходные объекты полуреальны, полуирреальны; для ребёнка таким объектом становится что-то свисающее, например, уголок простыни или краешек нагрудника. Это наблюдается не у всех детей, но у большей части. Месье Винникотт очень хорошо видит, что в конечном итоге эти объекты связаны с фетишем, который он ошибочно называет примитивным фетишем, но который действительно является первоначальным.
Месье Винникотт на этом останавливается, он рассматривает этот ни реальный, ни ирреальный объект, который мы не соотносим ни с полной реальностью, ни с полной иллюзорностью, как эквивалент философской идеи или религиозной системы у взрослых - той среды, в которой живёт воспитанный английский гражданин, зная заранее, как следует себя вести. Никто не подумает там спросить вас, почему вы так железно убеждены в доктрине, которой вы придерживаетесь в области философии или религии, никто и не подумает вас в ней разубеждать. Речь идёт о промежуточной, неопределённой области, в которой есть место полусуществованию вещей. Характерной чертой такого положения является то, что, как правило, никому и в голову не приходит навязывать другим подлинность своей веры или незыблемость своих философских иллюзий. Короче говоря, на Британских островах всем предоставлено право сходить с ума по-своему, но каждому по отдельности. Безумие начинается тогда, когда своё личное безумие навязывается множеству субъектов, поскольку каждому изначально присуще кочевое качество переходного объекта.
Месье Винникотт не ошибся, в сердцевине этого располагается жизнь. Если этого не было, то каким образом можно организовать всё остальное?
присоединяется, о форме другого, том образе, вокруг которого могут группироваться и распадаться субъекты в качестве причастных или же непричастных ему.
В целом, проблема заключается не в том, чтобы понять степень развития нарциссизма, рассматриваемого первоначально в качестве воображаемого и совершенного (idéal) аутоэротизма, а в том, чтобы установить роль первоначального (originel) нарциссизма в образовании мира объектов. Вот что обращает внимание Винникотта на объекты, которые он называет переходными.
Без них мы бы не имели ни малейшего представления о способе, с помощью которого ребёнок способен создать мир, исходя из своих фрустраций. Он, безусловно, создаёт мир, но не стоит утверждать, что это как-то касается объекта его желаний, по отношению к которому он изначально испытал фрустрацию. Он создаёт мир постольку, поскольку, приближаясь к тому, чего желает, он может встретиться с тем, обо что он ударится или обожжётся. Это совсем не является объектом, каким-то образом порождённым объектом желания, это не то, что может быть смоделировано стадиями развития желания в том виде, в котором они формулируются и распределяются в детском развитии. Это нечто другое. Объект, поскольку он порождается фрустрацией, подводит нас к тому, чтобы признать автономию воображаемого производства в его отношениях с образом тела. Это тот самый двойственный (ambigu) объект, который «ни здесь и ни там». Ни о реальности, ни о нереальности этого объекта говорить нельзя. Именно так, и весьма обоснованно, выражается Месье Винникотт, но вместо того, чтобы самому подойти к проблеме, которую ставит включение этого объекта в символический порядок, он сталкивается с ней едва ли не против воли, потому что не столкнуться с ней на этом пути нельзя.
Переходные объекты полуреальны, полуирреальны; для ребёнка таким объектом становится что-то свисающее, например, уголок простыни или краешек нагрудника. Это наблюдается не у всех детей, но у большей части. Месье Винникотт очень хорошо видит, что в конечном итоге эти объекты связаны с фетишем, который он ошибочно называет примитивным фетишем, но который действительно является первоначальным.
Месье Винникотт на этом останавливается, он рассматривает этот ни реальный, ни ирреальный объект, который мы не соотносим ни с полной реальностью, ни с полной иллюзорностью, как эквивалент философской идеи или религиозной системы у взрослых - той среды, в которой живёт воспитанный английский гражданин, зная заранее, как следует себя вести. Никто не подумает там спросить вас, почему вы так железно убеждены в доктрине, которой вы придерживаетесь в области философии или религии, никто и не подумает вас в ней разубеждать. Речь идёт о промежуточной, неопределённой области, в которой есть место полусуществованию вещей. Характерной чертой такого положения является то, что, как правило, никому и в голову не приходит навязывать другим подлинность своей веры или незыблемость своих философских иллюзий. Короче говоря, на Британских островах всем предоставлено право сходить с ума по-своему, но каждому по отдельности. Безумие начинается тогда, когда своё личное безумие навязывается множеству субъектов, поскольку каждому изначально присуще кочевое качество переходного объекта.
Месье Винникотт не ошибся, в сердцевине этого располагается жизнь. Если этого не было, то каким образом можно организовать всё остальное? 3
Чтобы завершить, вернёмся к нашей юной влюблённой девушке, о которой было сказано, что она обладает своим переходным объектом, воображаемым фаллосом, когда нянчит ребёнка. Что нужно, чтобы она перешла к третьему такту, то есть оказалась на втором этапе пяти ситуаций, которые сегодня мы не успеем полностью рассмотреть?
Она гомосексуальна, и она любит, как говорит Фрейд, männliches Typus, по мужскому типу, - хотя переводчик посчитал, что по женскому - она занимает мужскую позицию. Это отражено на нашей схеме - отец, который на первом этапе был на уровне большого Другого, A, переходит на уровень собственного Я. В точке a' находится дама, объект любви, которая заменила собой ребёнка. В точке А - символический пенис, то есть то, что в наиболее развитой форме любви расположено по другую сторону любимого субъекта. То, что в любви любимо, расположено вне субъекта, это буквально то, чего он не имеет. Дама любима именно потому, что не имеет символического пениса, но наделена всем, чтобы его иметь, поскольку является избранным предметом обожания субъекта.
3
Чтобы завершить, вернёмся к нашей юной влюблённой девушке, о которой было сказано, что она обладает своим переходным объектом, воображаемым фаллосом, когда нянчит ребёнка. Что нужно, чтобы она перешла к третьему такту, то есть оказалась на втором этапе пяти ситуаций, которые сегодня мы не успеем полностью рассмотреть?
Она гомосексуальна, и она любит, как говорит Фрейд, männliches Typus, по мужскому типу, - хотя переводчик посчитал, что по женскому - она занимает мужскую позицию. Это отражено на нашей схеме - отец, который на первом этапе был на уровне большого Другого, A, переходит на уровень собственного Я. В точке a' находится дама, объект любви, которая заменила собой ребёнка. В точке А - символический пенис, то есть то, что в наиболее развитой форме любви расположено по другую сторону любимого субъекта. То, что в любви любимо, расположено вне субъекта, это буквально то, чего он не имеет. Дама любима именно потому, что не имеет символического пениса, но наделена всем, чтобы его иметь, поскольку является избранным предметом обожания субъекта.
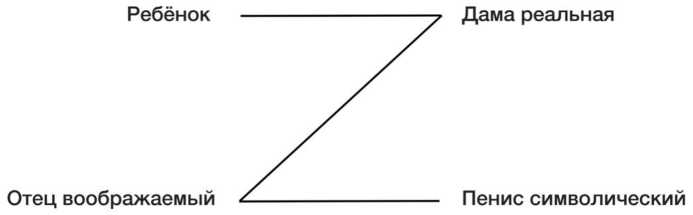
 Так можно это наблюдение описать. Когда рассуждают о неких инстинктивных всплесках, активизации психических тенденций или примитивных влечениях, пытаясь представить нечто в плане перверсии, не стоит ли нам всегда придерживаться трёх принципиально важных, при условии их различения, элементов, которыми являются воображаемое, символическое и реальное?
Вы могли заметить, что если ситуация - по причинам, имеющим глубоко структурный характер, - пробудила зависть, и если воображаемое удовлетворение, на которое полагалась девочка, оказалось недоступным, то произошло так потому, что вмешивается реальное, реальное, отвечающее на эту бессознательную ситуацию, расположенную на уровне воображаемого. Становясь в своем роде посредником, отец переходит в план воображаемых отношений, он вступает в игру как отец воображаемый, уже не как отец символический. С этих пор устанавливаются новые воображаемые отношения, которые девочка будет по возможности поддерживать.
Эти отношения характеризуются тем, что артикулированное латентно на уровне большого Другого начинает артикулироваться воображаемым образом, характерным для перверсии; именно это, а не что-то другое, приведёт к перверсии. Девочка идентифицируется с отцом и принимает на себя его роль. Она сама становится воображаемым отцом. Также она сохраняет свой пенис и привязывается к объекту, который его не имеет, и ей необходимо дать то, чего этот объект не имеет.
Эту необходимость сориентировать любовь не на объект, а на то, чего в объекте нет, мы размещаем в сердцевине отношений любви и дара. Это нечто такое, чем объект не располагает, и что делает необходимым рассмотреть историю субъекта под иным углом.
С этого мы начнём в следующий раз, чтобы глубже разработать диалектику дара, в качестве наиболее раннего опыта субъекта и увидеть другую её сторону, которую мы сейчас не рассмотрели. Ибо, подчеркнув парадоксы фрустрации на стороне объекта, я не сказал ещё, что, собственно, означает фрустрация любви.
16 января 1957
Так можно это наблюдение описать. Когда рассуждают о неких инстинктивных всплесках, активизации психических тенденций или примитивных влечениях, пытаясь представить нечто в плане перверсии, не стоит ли нам всегда придерживаться трёх принципиально важных, при условии их различения, элементов, которыми являются воображаемое, символическое и реальное?
Вы могли заметить, что если ситуация - по причинам, имеющим глубоко структурный характер, - пробудила зависть, и если воображаемое удовлетворение, на которое полагалась девочка, оказалось недоступным, то произошло так потому, что вмешивается реальное, реальное, отвечающее на эту бессознательную ситуацию, расположенную на уровне воображаемого. Становясь в своем роде посредником, отец переходит в план воображаемых отношений, он вступает в игру как отец воображаемый, уже не как отец символический. С этих пор устанавливаются новые воображаемые отношения, которые девочка будет по возможности поддерживать.
Эти отношения характеризуются тем, что артикулированное латентно на уровне большого Другого начинает артикулироваться воображаемым образом, характерным для перверсии; именно это, а не что-то другое, приведёт к перверсии. Девочка идентифицируется с отцом и принимает на себя его роль. Она сама становится воображаемым отцом. Также она сохраняет свой пенис и привязывается к объекту, который его не имеет, и ей необходимо дать то, чего этот объект не имеет.
Эту необходимость сориентировать любовь не на объект, а на то, чего в объекте нет, мы размещаем в сердцевине отношений любви и дара. Это нечто такое, чем объект не располагает, и что делает необходимым рассмотреть историю субъекта под иным углом.
С этого мы начнём в следующий раз, чтобы глубже разработать диалектику дара, в качестве наиболее раннего опыта субъекта и увидеть другую её сторону, которую мы сейчас не рассмотрели. Ибо, подчеркнув парадоксы фрустрации на стороне объекта, я не сказал ещё, что, собственно, означает фрустрация любви.
16 января 1957
 1
Мы пришли к тому, что я назвал третьим тактом и расположил его в первой ситуации, которую мы произвольно приняли за отправную точку.
Отметим, что это уже было некоторой уступкой в пользу модели поступательного развития, которая предполагает хронологическую последовательность движения от прошлого к будущему. Мы сделали это для простоты, приближаясь к тому, что обычно происходит в диалектике фрустрации, и не забывая при этом, что её осмысление в общем смысле, то есть без различения планов реального, воображаемого и символического, заводит в тупики, которые по мере нашего продвижения, я надеюсь, становятся для вас всё более ощутимыми.
На данный момент мы пытаемся установить принципы отношений между объектом и образованием символической цепи.
Итак, мы имеем дело с юной девушкой в пубертатный период. Первое символическое и воображаемое структурное осмысление этой позиции осуществляется классическим образом, как это и прописано в теории. Равноценность воображаемого пениса и ребёнка устанавливает субъекта в позицию воображаемой матери по отношению к тому, кто по другую сторону представлен отцом, который в этот момент вмешивается, реализуя символическую функцию, то есть к тому, кто может предоставить фаллос. В это время могущество отца бессознательно. В этот момент, после угасания эдипова комплекса, отец, будучи тем, кто может дать ребёнка, бессознателен.
Именно на этой стадии наступает роковой, если можно так выразиться, момент реального вмешательства отца, когда он даёт ребенка матери, то есть делает ребёнка той, с кем субъект находится в воображаемых отношениях, ребёнком реальным. Нечто нашло свою реализацию, и, стало быть, вышло из той воображаемой позиции, которую девушка ранее ему отводила. Мы находимся сейчас на втором такте. Вмешательство реального отца на уровне ребёнка, в отношении которого она испытывала фрустрацию, преобразует всё уравнение, члены которого выглядят теперь так: воображаемый отец, дама, символический пенис.
Посредством своего рода инверсии отношения субъекта с отцом, расположенные до того в порядке символического, переходят в разряд воображаемых отношений. Или, если хотите, имеет место проекция бессознательной формулы первого уравнения в перверсивные, - в кавычках - воображаемые отношения с дамой. Это третий такт.
ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА (3)
1
Мы пришли к тому, что я назвал третьим тактом и расположил его в первой ситуации, которую мы произвольно приняли за отправную точку.
Отметим, что это уже было некоторой уступкой в пользу модели поступательного развития, которая предполагает хронологическую последовательность движения от прошлого к будущему. Мы сделали это для простоты, приближаясь к тому, что обычно происходит в диалектике фрустрации, и не забывая при этом, что её осмысление в общем смысле, то есть без различения планов реального, воображаемого и символического, заводит в тупики, которые по мере нашего продвижения, я надеюсь, становятся для вас всё более ощутимыми.
На данный момент мы пытаемся установить принципы отношений между объектом и образованием символической цепи.
Итак, мы имеем дело с юной девушкой в пубертатный период. Первое символическое и воображаемое структурное осмысление этой позиции осуществляется классическим образом, как это и прописано в теории. Равноценность воображаемого пениса и ребёнка устанавливает субъекта в позицию воображаемой матери по отношению к тому, кто по другую сторону представлен отцом, который в этот момент вмешивается, реализуя символическую функцию, то есть к тому, кто может предоставить фаллос. В это время могущество отца бессознательно. В этот момент, после угасания эдипова комплекса, отец, будучи тем, кто может дать ребёнка, бессознателен.
Именно на этой стадии наступает роковой, если можно так выразиться, момент реального вмешательства отца, когда он даёт ребенка матери, то есть делает ребёнка той, с кем субъект находится в воображаемых отношениях, ребёнком реальным. Нечто нашло свою реализацию, и, стало быть, вышло из той воображаемой позиции, которую девушка ранее ему отводила. Мы находимся сейчас на втором такте. Вмешательство реального отца на уровне ребёнка, в отношении которого она испытывала фрустрацию, преобразует всё уравнение, члены которого выглядят теперь так: воображаемый отец, дама, символический пенис.
Посредством своего рода инверсии отношения субъекта с отцом, расположенные до того в порядке символического, переходят в разряд воображаемых отношений. Или, если хотите, имеет место проекция бессознательной формулы первого уравнения в перверсивные, - в кавычках - воображаемые отношения с дамой. Это третий такт.
ЮНАЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТКА (3) Вот так после первого применения наших формул выглядит положение задействованных в игре терминов, положение, без всяких сомнений, загадочное,
Вот так после первого применения наших формул выглядит положение задействованных в игре терминов, положение, без всяких сомнений, загадочное, которое стоит того, чтобы мы на мгновение на нём задержались. Следует тем не менее отметить, что эти термины, что бы они собой не представляли, задают определённую структуру, то есть, если мы меняем позицию одного из них, мы должны переместить и все прочие, и сделать это отнюдь не случайным образом. Теперь посмотрим, что всё это значит и какой смысл открывает для нас анализ.
Что говорит нам Фрейд в критический момент этого наблюдения? В силу определённой концепции, которой он обусловлен, исходя из обсуждаемой позиции, и посредством предпринятой им в этом смысле интерпретации, он кристаллизует ситуацию между ним и пациенткой неудовлетворительным образом, поскольку он сам подтверждает, что именно в этот момент происходит разрыв аналитических отношений. Что бы не имел в виду Фрейд, мы далеки от намерения возложить всю ответственность за сложившийся тупик на пациентку. Его интервенция, его концепция, его предубеждения по поводу ситуации каким-то образом должны были повлиять на этот разрыв.
Вспомним, что это за ситуация и как Фрейд формулирует её для нас. Он говорит нам, что сопротивления пациентки были непреодолимыми. Эти сопротивления, каким образом он их обосновывает? Какие он приводит примеры? Какой смысл он им придаёт?
Он видит их особенно выразительные проявления в сновидениях, которые парадоксальным образом подают большие надежды на то, что ситуация нормализуется. Это действительно сновидения о союзе, о воссоединении, о плодотворном браке. Пациентка в них вступает в идеальное супружество, в котором рождаются дети. Короче говоря, сновидения предъявляют желание, которое может удовлетворить, если и не Фрейда, то, как минимум, общество, представляющее здесь интересы семьи, и тем самым послужить наилучшим исходом лечения.
Учитывая всё то, что пациентка рассказывает о своём положении и своих намерениях, Фрейд далёк от буквального понимания текста сновидения, но видит в нём, как онговорит, уловку, явно направленную на то, чтобы его в итоге огорчить, а точнее, очаровать и одновременно разочаровать его, как это происходит в той интерсубъективной игре в разгадывание, которую я только что упоминал. Как замечает Фрейд, это может вызвать следующее возражение: «Но в таком случае бессознательное способно лгать?» Фрейд подробно останавливается на обсуждении этого пункта и старается ответить очень чётко.
Фрейд обращается к пассажу из Толкования сновидений. Он прибегает к нему также и в рассказе о другом случае, к которому мы сейчас обратимся, о случае Доры, говоря о котором после доклада Лагаша о переносе, я недавно сформулировал некоторые обобщающие положения, исходя из которых, как я полагаю, мы должны этот случай понимать.
В Толковании сновидений отношение между желанием бессознательным и желанием предсознательным описано путём сопоставления капиталиста и предпринимателя. Предсознательное желание - это предприниматель сновидения, но сновидение не обладало бы ничем, удовлетворяющим тому, чтобы утвердиться в качестве представителя бессознательного, если бы не было другого желания, которое создаёт основу сновидения и которое является бессознательным желанием. Таким образом, Фрейд чётко различает два желания, только не делает из этого окончательных выводов. Здесь уместно провести различие между тем, что субъект приносит в своём
которое стоит того, чтобы мы на мгновение на нём задержались. Следует тем не менее отметить, что эти термины, что бы они собой не представляли, задают определённую структуру, то есть, если мы меняем позицию одного из них, мы должны переместить и все прочие, и сделать это отнюдь не случайным образом. Теперь посмотрим, что всё это значит и какой смысл открывает для нас анализ.
Что говорит нам Фрейд в критический момент этого наблюдения? В силу определённой концепции, которой он обусловлен, исходя из обсуждаемой позиции, и посредством предпринятой им в этом смысле интерпретации, он кристаллизует ситуацию между ним и пациенткой неудовлетворительным образом, поскольку он сам подтверждает, что именно в этот момент происходит разрыв аналитических отношений. Что бы не имел в виду Фрейд, мы далеки от намерения возложить всю ответственность за сложившийся тупик на пациентку. Его интервенция, его концепция, его предубеждения по поводу ситуации каким-то образом должны были повлиять на этот разрыв.
Вспомним, что это за ситуация и как Фрейд формулирует её для нас. Он говорит нам, что сопротивления пациентки были непреодолимыми. Эти сопротивления, каким образом он их обосновывает? Какие он приводит примеры? Какой смысл он им придаёт?
Он видит их особенно выразительные проявления в сновидениях, которые парадоксальным образом подают большие надежды на то, что ситуация нормализуется. Это действительно сновидения о союзе, о воссоединении, о плодотворном браке. Пациентка в них вступает в идеальное супружество, в котором рождаются дети. Короче говоря, сновидения предъявляют желание, которое может удовлетворить, если и не Фрейда, то, как минимум, общество, представляющее здесь интересы семьи, и тем самым послужить наилучшим исходом лечения.
Учитывая всё то, что пациентка рассказывает о своём положении и своих намерениях, Фрейд далёк от буквального понимания текста сновидения, но видит в нём, как онговорит, уловку, явно направленную на то, чтобы его в итоге огорчить, а точнее, очаровать и одновременно разочаровать его, как это происходит в той интерсубъективной игре в разгадывание, которую я только что упоминал. Как замечает Фрейд, это может вызвать следующее возражение: «Но в таком случае бессознательное способно лгать?» Фрейд подробно останавливается на обсуждении этого пункта и старается ответить очень чётко.
Фрейд обращается к пассажу из Толкования сновидений. Он прибегает к нему также и в рассказе о другом случае, к которому мы сейчас обратимся, о случае Доры, говоря о котором после доклада Лагаша о переносе, я недавно сформулировал некоторые обобщающие положения, исходя из которых, как я полагаю, мы должны этот случай понимать.
В Толковании сновидений отношение между желанием бессознательным и желанием предсознательным описано путём сопоставления капиталиста и предпринимателя. Предсознательное желание - это предприниматель сновидения, но сновидение не обладало бы ничем, удовлетворяющим тому, чтобы утвердиться в качестве представителя бессознательного, если бы не было другого желания, которое создаёт основу сновидения и которое является бессознательным желанием. Таким образом, Фрейд чётко различает два желания, только не делает из этого окончательных выводов. Здесь уместно провести различие между тем, что субъект приносит в своём сновидении, которое относится к уровню бессознательного, с одной стороны, и фактором дуальных отношений с тем, к кому человек обращается, когда рассказывает это сновидение в анализе, с другой. И именно в этом смысле я говорю вам, что сон, возникающий в процессе анализа, всегда определённым образом адресован аналитику, и эта адресованность не всегда и не обязательно является бессознательной.
Весь вопрос заключается в том, следует ли делать акцент на усмотренных здесь Фрейдом намерениях пациентки продолжать игру со своим отцом - пациентка сама это так формулирует - обманывать его, притворно следовать лечению и при этом сохранять свои позиции, свою верность даме. Следует ли то, что проявляется в сновидении, представлять непосредственно в перспективе обмана, то есть в рамках её предсознательной преднамеренности?
Непохоже на то. Если мы присмотримся внимательнее, то что мы увидим?
Несомненно, здесь присутствует диалектика обмана, но в бессознательном как на первом, так и на третьем этапе формулируется здесь то, что, сведённое к означающему, уже с самого начала изменило свое направление - это собственное послание, возвращенное от отца в обращённой форме, в форме: «ты - моя жена, ты - мой господин, у тебя будет ребёнок от меня». Это данное при вхождении в Эдип или в то время, когда Эдип ещё не разрешён до конца, обещание, на которое полагается девочка, входя в эдипов комплекс. Исходя из этого и выстраивается позиция пациентки, а в сновидении артикулируется соответствующая этому обещанию ситуация. Содержание бессознательного оказывается, таким образом, одним и тем же.
Фрейд сомневается в этом содержании, поскольку точной формулы для переноса он ещё не нашёл. Действительно, в переносе присутствуют элемент воображаемого и элемент символического, и, соответственно, выбор, который нужно сделать. Если перенос имеет смысл того, что Фрейд в дальнейшем представил в понятии Wiederholungszwang, которому я посвятил целый год, чтобы показать, что оно может значить, то перенос связан прежде всего с настоятельностью, присущей символической цепи как таковой.
Эта специфическая для символической цепи настоятельность по определению не принимается субъектом в расчёт. Тем не менее факт того, что она воспроизводится и появляется на третьем этапе, осуществляясь и формулируясь в сновидении, позволяет заключить, что это сновидение, даже если оно и выглядит на воображаемом уровне и в прямых отношениях с терапевтом обманом, как раз и представляет перенос в его собственном смысле. Именно на это мог бы положиться Фрейд и смело вмешиваться. Для его концепции переноса нужны были более устойчивые основания, которые бы чётко определяли осуществление переноса на уровне символической артикуляции.
Когда мы говорим о переносе, когда нечто приобретает смысл в силу того, что аналитик становится причиной переноса, вопрос ставится именно таким образом, потому что имеет место символическая артикуляция как таковая, которая складывается, конечно же, до того, как субъект её признаёт, как мы видим это здесь в том, что представляет собой сновидение переноса. Фрейд сразу отмечает, что случилось нечто, принадлежащее порядку переноса, но не делает из этого точных выводов и не предпринимает соответствующего вмешательства.
Это замечание касается не только этого случая. У нас есть другой случай, в котором подобная проблема возникает на том же уровне, только Фрейд ошибается ровно противоположным образом. Это случай Доры.
сновидении, которое относится к уровню бессознательного, с одной стороны, и фактором дуальных отношений с тем, к кому человек обращается, когда рассказывает это сновидение в анализе, с другой. И именно в этом смысле я говорю вам, что сон, возникающий в процессе анализа, всегда определённым образом адресован аналитику, и эта адресованность не всегда и не обязательно является бессознательной.
Весь вопрос заключается в том, следует ли делать акцент на усмотренных здесь Фрейдом намерениях пациентки продолжать игру со своим отцом - пациентка сама это так формулирует - обманывать его, притворно следовать лечению и при этом сохранять свои позиции, свою верность даме. Следует ли то, что проявляется в сновидении, представлять непосредственно в перспективе обмана, то есть в рамках её предсознательной преднамеренности?
Непохоже на то. Если мы присмотримся внимательнее, то что мы увидим?
Несомненно, здесь присутствует диалектика обмана, но в бессознательном как на первом, так и на третьем этапе формулируется здесь то, что, сведённое к означающему, уже с самого начала изменило свое направление - это собственное послание, возвращенное от отца в обращённой форме, в форме: «ты - моя жена, ты - мой господин, у тебя будет ребёнок от меня». Это данное при вхождении в Эдип или в то время, когда Эдип ещё не разрешён до конца, обещание, на которое полагается девочка, входя в эдипов комплекс. Исходя из этого и выстраивается позиция пациентки, а в сновидении артикулируется соответствующая этому обещанию ситуация. Содержание бессознательного оказывается, таким образом, одним и тем же.
Фрейд сомневается в этом содержании, поскольку точной формулы для переноса он ещё не нашёл. Действительно, в переносе присутствуют элемент воображаемого и элемент символического, и, соответственно, выбор, который нужно сделать. Если перенос имеет смысл того, что Фрейд в дальнейшем представил в понятии Wiederholungszwang, которому я посвятил целый год, чтобы показать, что оно может значить, то перенос связан прежде всего с настоятельностью, присущей символической цепи как таковой.
Эта специфическая для символической цепи настоятельность по определению не принимается субъектом в расчёт. Тем не менее факт того, что она воспроизводится и появляется на третьем этапе, осуществляясь и формулируясь в сновидении, позволяет заключить, что это сновидение, даже если оно и выглядит на воображаемом уровне и в прямых отношениях с терапевтом обманом, как раз и представляет перенос в его собственном смысле. Именно на это мог бы положиться Фрейд и смело вмешиваться. Для его концепции переноса нужны были более устойчивые основания, которые бы чётко определяли осуществление переноса на уровне символической артикуляции.
Когда мы говорим о переносе, когда нечто приобретает смысл в силу того, что аналитик становится причиной переноса, вопрос ставится именно таким образом, потому что имеет место символическая артикуляция как таковая, которая складывается, конечно же, до того, как субъект её признаёт, как мы видим это здесь в том, что представляет собой сновидение переноса. Фрейд сразу отмечает, что случилось нечто, принадлежащее порядку переноса, но не делает из этого точных выводов и не предпринимает соответствующего вмешательства.
Это замечание касается не только этого случая. У нас есть другой случай, в котором подобная проблема возникает на том же уровне, только Фрейд ошибается ровно противоположным образом. Это случай Доры. Эти два случая превосходно друг друга уравновешивают. Они точно пересекаются на встречном курсе. Прежде всего потому, что смешение символической и воображаемой позиции в каждом случае имеет противоположный смысл. Но ещё потому, что в их общей диспозиции эти два случая строго соответствуют друг другу, как позитив негативу. Я мог бы сказать, что нет лучшей иллюстрации формулы Фрейда перверсия - это негатив невроза.
Эту мысль стоит продолжить.
2
Вспомним вкратце обстоятельства случая Доры, чтобы сопоставить их с некоторыми подробностями случая юной гомосексуальной пациентки.
В случае Доры фигурируют те же самые персонажи: на первом плане отец, дочь и тоже дама госпожа К. Нас ещё более поражает, что и здесь ситуация вращается вокруг дамы, хотя в том, как девушка представляет всю историю для Фрейда, это неочевидно.
Дора - молодая истеричка, которую приводят к Фрейду с несколькими симптомами, без сомнения, незначительными, но в то же время выраженными. Ситуация стала невыносимой вследствие определённой демонстрации суицидального намерения, которое в конечном итоге встревожило её семью. Отец представил её Фрейду как больную, и этот переход на уровень лечения является элементом, который сам по себе и без всяких сомнений обозначает кризис в той системе отношений, где до сих пор поддерживалось некоторое равновесие. Однако это уникальное равновесие было нарушено ещё двумя годами прежде по причине изначально скрытой от Фрейда любовной связи отца и госпожи К., которая была замужем за господином К. Отношения этой пары с парой отца и дочери образуют своего рода квартет. Мать в этой ситуации отсутствует.
И по мере нашего продвижения мы замечаем контраст в сравнении с предыдущей ситуацией. Действительно, в случае юной гомосексуальной пациентки присутствует мать, ведь именно она похищает у девочки внимание отца и вводит тот самый элемент реальной фрустрации, который стал определяющим фактором при формировании перверсивной установки. К тому же в историю Доры именно отец приводит даму и поддерживает её присутствие, тогда как в первом случае дама появляется благодаря девушке.
Поразительно то, что Дора сразу же заявляет Фрейду чрезвычайно выразительный протест по поводу привязанности своего отца, в которой, по её словам, он счастлив. Она сразу же даёт Фрейду понять, что всегда была в курсе существования этой постоянной и приоритетной для отца связи и что она больше не может это выносить. Всё её поведение выражало протест против этих отношений.
Тогда Фрейд делает шаг, первый шаг фрейдовского подхода, наиболее решающий в своём, строго говоря, диалектическом качестве. Он подводит Дору к следующему вопросу: «Не кажется ли вам, что вы возмущаетесь тем беспорядком, в образовании которого вы сами приняли участие?». И действительно, для Фрейда быстро становится очевидным, что до критического момента Дора сама непосредственным образом поддерживала такое положение дел. Она была более чем удовлетворена этой уникально сложившейся позицией и была настоящим опорным стержнем всей ситуации, защищая интересы пары отца и госпожи К., при необходимости принимая на
Эти два случая превосходно друг друга уравновешивают. Они точно пересекаются на встречном курсе. Прежде всего потому, что смешение символической и воображаемой позиции в каждом случае имеет противоположный смысл. Но ещё потому, что в их общей диспозиции эти два случая строго соответствуют друг другу, как позитив негативу. Я мог бы сказать, что нет лучшей иллюстрации формулы Фрейда перверсия - это негатив невроза.
Эту мысль стоит продолжить.
2
Вспомним вкратце обстоятельства случая Доры, чтобы сопоставить их с некоторыми подробностями случая юной гомосексуальной пациентки.
В случае Доры фигурируют те же самые персонажи: на первом плане отец, дочь и тоже дама госпожа К. Нас ещё более поражает, что и здесь ситуация вращается вокруг дамы, хотя в том, как девушка представляет всю историю для Фрейда, это неочевидно.
Дора - молодая истеричка, которую приводят к Фрейду с несколькими симптомами, без сомнения, незначительными, но в то же время выраженными. Ситуация стала невыносимой вследствие определённой демонстрации суицидального намерения, которое в конечном итоге встревожило её семью. Отец представил её Фрейду как больную, и этот переход на уровень лечения является элементом, который сам по себе и без всяких сомнений обозначает кризис в той системе отношений, где до сих пор поддерживалось некоторое равновесие. Однако это уникальное равновесие было нарушено ещё двумя годами прежде по причине изначально скрытой от Фрейда любовной связи отца и госпожи К., которая была замужем за господином К. Отношения этой пары с парой отца и дочери образуют своего рода квартет. Мать в этой ситуации отсутствует.
И по мере нашего продвижения мы замечаем контраст в сравнении с предыдущей ситуацией. Действительно, в случае юной гомосексуальной пациентки присутствует мать, ведь именно она похищает у девочки внимание отца и вводит тот самый элемент реальной фрустрации, который стал определяющим фактором при формировании перверсивной установки. К тому же в историю Доры именно отец приводит даму и поддерживает её присутствие, тогда как в первом случае дама появляется благодаря девушке.
Поразительно то, что Дора сразу же заявляет Фрейду чрезвычайно выразительный протест по поводу привязанности своего отца, в которой, по её словам, он счастлив. Она сразу же даёт Фрейду понять, что всегда была в курсе существования этой постоянной и приоритетной для отца связи и что она больше не может это выносить. Всё её поведение выражало протест против этих отношений.
Тогда Фрейд делает шаг, первый шаг фрейдовского подхода, наиболее решающий в своём, строго говоря, диалектическом качестве. Он подводит Дору к следующему вопросу: «Не кажется ли вам, что вы возмущаетесь тем беспорядком, в образовании которого вы сами приняли участие?». И действительно, для Фрейда быстро становится очевидным, что до критического момента Дора сама непосредственным образом поддерживала такое положение дел. Она была более чем удовлетворена этой уникально сложившейся позицией и была настоящим опорным стержнем всей ситуации, защищая интересы пары отца и госпожи К., при необходимости принимая на себя её функции, занимаясь, например, её детьми. С другой стороны, по мере продвижения в понимании структуры случая, становится заметна особая связь с госпожой К, которая оказывается доверенным лицом и выглядит глубоко посвящённой в секреты Доры.
Этот случай настолько богат содержанием, что мы до сих пор можем делать новые открытия, и это краткое напоминание никоим образом не может заменить внимательного прочтения текста Фрейда. Давайте упомянем среди прочего промежуток времени равный девяти месяцам между истерическим симптомом аппендицита и фактом, его порождающим, сценой у озера - Фрейд полагает, что здесь имеется символическое значение, которое придаёт этому пациентка, но если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что в действительности речь идёт о пятнадцати месяцах. И эти пятнадцать месяцев имеют смысл, потому что это «пятнадцать» встречается в отчёте о наблюдении повсюду, и это полезный для понимания элемент, поскольку он основан на цифрах и на чисто символическом значении.
Сегодня я смогу напомнить вам лишь термины, в которых рассматривается проблема на протяжении всего наблюдения. Конечно, Фрейд впоследствии признаёт, что если он и потерпел неудачу, то произошло это из-за сопротивления пациентки признанию своей любовной привязанности к господину К., которую Фрейд, опираясь на свой авторитет, настойчиво преподносит ей как свершившийся факт. Он доходит до того, что впоследствии добавляет примечание с указанием на то, что, несомненно, им была допущена ошибка и ему следовало понять гомосексуальную привязанность к госпоже К. в качестве действительной причины как для формирования изначальной позиции Доры, так и для её дальнейшего кризиса. Но помимо того, что Фрейд понимает это спустя некоторое время, важно ещё то, что на протяжении всего отчёта о наблюдении вы видите, насколько противоречиво он относится к реальному объекту желания Доры.
В каких терминах можно сформулировать проблему? Здесь снова речь идёт о предоставлении возможной формулировки этой двойственности, в некотором смысле неразрешимой. Ясно, что персонально господин К. имеет весьма важное значение для Доры и что с ним установлено что-то вроде либидинальной связи. Также ясно, что существует и важный фактор иного порядка, постоянно играющий свою роль в либидинальной связи Доры и госпожи К. Как можно сопоставить одно и другое таким образом, чтобы это было обоснованным и позволило осмыслить и развитие ситуации, и момент остановки, кризис и нарушение равновесия?
Я сделал это пять лет назад при первом прочтении этого случая с точки зрения истерической структуры и отметил следующее:
- истерик это тот, кто любит по доверенности (par procuration), вы найдёте подтверждение этому в массе наблюдений;
- истерик это тот, чей объект гомосексуален;
- истерик подступается к этому гомосексуальному объекту путём идентификации с кем-то другого пола.
Так было в первом, более клиническом приближении.
Я пошёл дальше, исходя из понятия нарциссического отношения в качестве основания собственного Я как матрицы, Urbild, исходя из конструкции воображаемой функции, называемой собственное Я, и показал, где в наблюдении можно увидеть следы работы этой воображаемой функции. На самом деле в этой кадрили принимает участие лишь собственное Я. Только собственное Я Доры осуществляет идентификацию
себя её функции, занимаясь, например, её детьми. С другой стороны, по мере продвижения в понимании структуры случая, становится заметна особая связь с госпожой К, которая оказывается доверенным лицом и выглядит глубоко посвящённой в секреты Доры.
Этот случай настолько богат содержанием, что мы до сих пор можем делать новые открытия, и это краткое напоминание никоим образом не может заменить внимательного прочтения текста Фрейда. Давайте упомянем среди прочего промежуток времени равный девяти месяцам между истерическим симптомом аппендицита и фактом, его порождающим, сценой у озера - Фрейд полагает, что здесь имеется символическое значение, которое придаёт этому пациентка, но если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что в действительности речь идёт о пятнадцати месяцах. И эти пятнадцать месяцев имеют смысл, потому что это «пятнадцать» встречается в отчёте о наблюдении повсюду, и это полезный для понимания элемент, поскольку он основан на цифрах и на чисто символическом значении.
Сегодня я смогу напомнить вам лишь термины, в которых рассматривается проблема на протяжении всего наблюдения. Конечно, Фрейд впоследствии признаёт, что если он и потерпел неудачу, то произошло это из-за сопротивления пациентки признанию своей любовной привязанности к господину К., которую Фрейд, опираясь на свой авторитет, настойчиво преподносит ей как свершившийся факт. Он доходит до того, что впоследствии добавляет примечание с указанием на то, что, несомненно, им была допущена ошибка и ему следовало понять гомосексуальную привязанность к госпоже К. в качестве действительной причины как для формирования изначальной позиции Доры, так и для её дальнейшего кризиса. Но помимо того, что Фрейд понимает это спустя некоторое время, важно ещё то, что на протяжении всего отчёта о наблюдении вы видите, насколько противоречиво он относится к реальному объекту желания Доры.
В каких терминах можно сформулировать проблему? Здесь снова речь идёт о предоставлении возможной формулировки этой двойственности, в некотором смысле неразрешимой. Ясно, что персонально господин К. имеет весьма важное значение для Доры и что с ним установлено что-то вроде либидинальной связи. Также ясно, что существует и важный фактор иного порядка, постоянно играющий свою роль в либидинальной связи Доры и госпожи К. Как можно сопоставить одно и другое таким образом, чтобы это было обоснованным и позволило осмыслить и развитие ситуации, и момент остановки, кризис и нарушение равновесия?
Я сделал это пять лет назад при первом прочтении этого случая с точки зрения истерической структуры и отметил следующее:
- истерик это тот, кто любит по доверенности (par procuration), вы найдёте подтверждение этому в массе наблюдений;
- истерик это тот, чей объект гомосексуален;
- истерик подступается к этому гомосексуальному объекту путём идентификации с кем-то другого пола.
Так было в первом, более клиническом приближении.
Я пошёл дальше, исходя из понятия нарциссического отношения в качестве основания собственного Я как матрицы, Urbild, исходя из конструкции воображаемой функции, называемой собственное Я, и показал, где в наблюдении можно увидеть следы работы этой воображаемой функции. На самом деле в этой кадрили принимает участие лишь собственное Я. Только собственное Я Доры осуществляет идентификацию с мужественной фигурой господина К, мужчины являются для неё множеством возможных образцов для её собственного Я. Другими словами, при посредничестве господина К., когда она сама становится господином К., именно в этом воображаемом положении, где воссоздаётся личность господина К., Дора оказывается связанной с персонажем госпожи К.
Я пошел ещё дальше и задался вопросом, почему госпожа К. является кем-то важным? Она важна не только потому, что является объектом, выбранным среди прочих объектов. Она важна не только потому, что наделена нарциссической функцией, которая лежит в основе влюблённости, Verliebtheit. Нет, как показывают сновидения, которые и стали принципиальной основой наблюдения, госпожа К. - это вопрос Доры.
Попробуем теперь перевести это в нашу нынешнюю формулировку и определить, каким образом этот квартет можно переложить на нашу основную схему.
Дора - истеричка, то есть она перешла на уровень эдипального кризиса, смогла его преодолеть и в то же время не смогла. На то есть причина: её отец, в отличие от отца юной гомосексуальной пациентки, несостоятелен в половом отношении. Всё наблюдение основано на этом центральном пункте несостоятельности отца. Таким образом, здесь есть возможность особенно наглядно показать то, в чём может заключаться функция отца в отношении нехватки объекта, посредством которой девочка входит в Эдип. Какой может быть функция отца как дарителя?
Эта ситуация опирается на различение, предпринятое мной в разговоре о первичной фрустрации - различение, которое может установиться в отношениях ребёнка с матерью. Ребёнок испытывает фрустрацию в связи с отстранением от некоторого объекта. Но после произошедшей фрустрации его желание сохраняется. Смысл фрустрации состоит в том, что объект остаётся принадлежащим субъекту и после фрустрации. И тогда мать вмешивается в другом регистре - она даёт или не даёт, но лишь то, что является знаком любви.
Именно здесь появляется отец как тот, кто символически предоставляет этот объект нехватки. В случае Доры он его не предоставляет, потому что не имеет его. Фаллическая несостоятельность (carence) отца звучит на протяжении всего наблюдения как фундаментальная, определяющая позицию тональность. Но является ли этот обнаруженный нами план единственным? Означает ли это, что случившийся кризис связан целиком и полностью с одной только этой нехваткой? Посмотрим, о чём идёт речь. Что выступает в качестве дара? Нет ли другого измерения, которое вводится в отношения с объектом на уровне, где они возводятся в символическую степень тем фактом, что объект может быть дан или может быть не дан? Другими словами, этот объект вообще когда-нибудь может быть дан? В этом весь вопрос, и в случае Доры мы видим одно из показательных его разрешений.
На самом деле она не получает дара мужественности от отца и остаётся к нему очень привязанной, так сильно привязанной, что эта история начинается именно в возрасте угасания Эдипа вместе с серией истерических происшествий, которые очень чётко связаны с проявлениями любви к отцу, который в этот момент более, чем когда-либо, выглядит как отец раненый и больной, как отец, поражённый в самой своей жизненной состоятельности. Любовь, которую Дора испытывает к отцу в тот момент, напрямую соотносится с его умалением.
Таким образом, у нас есть чёткое различение. То, что вмешивается в отношения любви, то, что запрашивается в качестве знака любви, никогда не является чем-то иным,
с мужественной фигурой господина К, мужчины являются для неё множеством возможных образцов для её собственного Я. Другими словами, при посредничестве господина К., когда она сама становится господином К., именно в этом воображаемом положении, где воссоздаётся личность господина К., Дора оказывается связанной с персонажем госпожи К.
Я пошел ещё дальше и задался вопросом, почему госпожа К. является кем-то важным? Она важна не только потому, что является объектом, выбранным среди прочих объектов. Она важна не только потому, что наделена нарциссической функцией, которая лежит в основе влюблённости, Verliebtheit. Нет, как показывают сновидения, которые и стали принципиальной основой наблюдения, госпожа К. - это вопрос Доры.
Попробуем теперь перевести это в нашу нынешнюю формулировку и определить, каким образом этот квартет можно переложить на нашу основную схему.
Дора - истеричка, то есть она перешла на уровень эдипального кризиса, смогла его преодолеть и в то же время не смогла. На то есть причина: её отец, в отличие от отца юной гомосексуальной пациентки, несостоятелен в половом отношении. Всё наблюдение основано на этом центральном пункте несостоятельности отца. Таким образом, здесь есть возможность особенно наглядно показать то, в чём может заключаться функция отца в отношении нехватки объекта, посредством которой девочка входит в Эдип. Какой может быть функция отца как дарителя?
Эта ситуация опирается на различение, предпринятое мной в разговоре о первичной фрустрации - различение, которое может установиться в отношениях ребёнка с матерью. Ребёнок испытывает фрустрацию в связи с отстранением от некоторого объекта. Но после произошедшей фрустрации его желание сохраняется. Смысл фрустрации состоит в том, что объект остаётся принадлежащим субъекту и после фрустрации. И тогда мать вмешивается в другом регистре - она даёт или не даёт, но лишь то, что является знаком любви.
Именно здесь появляется отец как тот, кто символически предоставляет этот объект нехватки. В случае Доры он его не предоставляет, потому что не имеет его. Фаллическая несостоятельность (carence) отца звучит на протяжении всего наблюдения как фундаментальная, определяющая позицию тональность. Но является ли этот обнаруженный нами план единственным? Означает ли это, что случившийся кризис связан целиком и полностью с одной только этой нехваткой? Посмотрим, о чём идёт речь. Что выступает в качестве дара? Нет ли другого измерения, которое вводится в отношения с объектом на уровне, где они возводятся в символическую степень тем фактом, что объект может быть дан или может быть не дан? Другими словами, этот объект вообще когда-нибудь может быть дан? В этом весь вопрос, и в случае Доры мы видим одно из показательных его разрешений.
На самом деле она не получает дара мужественности от отца и остаётся к нему очень привязанной, так сильно привязанной, что эта история начинается именно в возрасте угасания Эдипа вместе с серией истерических происшествий, которые очень чётко связаны с проявлениями любви к отцу, который в этот момент более, чем когда-либо, выглядит как отец раненый и больной, как отец, поражённый в самой своей жизненной состоятельности. Любовь, которую Дора испытывает к отцу в тот момент, напрямую соотносится с его умалением.
Таким образом, у нас есть чёткое различение. То, что вмешивается в отношения любви, то, что запрашивается в качестве знака любви, никогда не является чем-то иным, нежели именно знаком. Или, продвигаясь ещё дальше: нет большего возможного дара, большего знака любви, чем дар того, чего у нас нет. Но подчеркнём также, что измерение дара появляется только с введением закона. Как это подтверждают социологические изыскания, дар - это нечто, циркулирующее в процессе обмена - дар, который вы преподносите, всегда является даром, который вы до этого сами получили. Но когда дело касается двух субъектов, обмен происходит как-то иначе, поскольку отношения любви предполагают, что дар преподносится в обмен на ничто.
Ничто на ничто как принцип обмена. Эта формула, как и любая другая, содержащая в себе двусмысленное ничто, кажется формулой самой заинтересованности, но также она является формулой чистой благодарности. На самом деле в даре любви заключается только то, что дается ни за что и может быть только «ничем». Другими словами, субъект делает дар, когда отдаёт что-то безвозмездно, и поскольку в этом заключено всё то, чего ему не хватает, то он жертвует чем-то за пределами того, что у него есть. То же самое относится к примитивному дару, поскольку он действительно появляется в начале человеческих обменов в форме потлача.
Предположим, субъект располагает всеми возможными благами, несметным богатством, он на вершине возможностей обладания всем, чем только можно. Но его дар не имел бы тогда ни малейшей ценности в качестве знака любви. Верующие воображают себе возможность любить Бога, потому что предполагают, что Бог действительно обладает этой полнотой и совершенством бытия. Но такая возможность мыслима лишь постольку, поскольку в основе любой веры можно обнаружить ещё кое-что. Ведь существу, которое представляется всем, несомненно, не хватает в бытии главного, то есть существования. В основе любой веры в Бога как безгранично щедрого, есть нечто такое, чего Ему не хватает, что постоянно заставляет сомневаться в Его существовании. Нет никаких других оснований любить Бога, кроме сомнения в Его существовании.
Не вызывает сомнений, что именно так Дора любит своего отца. Она любит его за то, чего он ей не дает. Ситуация не поддаётся осмыслению без учёта этого изначального положения, которое сохраняется до конца. И теперь стоит задуматься, каким образом можно было это положение терпеть, выносить, когда отец на глазах у Доры оказался вовлечён в другие отношения, которым сама Дора, похоже, способствовала.
В наблюдении мы имеем дело с тройкой: отец, Дора, госпожа К.
ДОРА
нежели именно знаком. Или, продвигаясь ещё дальше: нет большего возможного дара, большего знака любви, чем дар того, чего у нас нет. Но подчеркнём также, что измерение дара появляется только с введением закона. Как это подтверждают социологические изыскания, дар - это нечто, циркулирующее в процессе обмена - дар, который вы преподносите, всегда является даром, который вы до этого сами получили. Но когда дело касается двух субъектов, обмен происходит как-то иначе, поскольку отношения любви предполагают, что дар преподносится в обмен на ничто.
Ничто на ничто как принцип обмена. Эта формула, как и любая другая, содержащая в себе двусмысленное ничто, кажется формулой самой заинтересованности, но также она является формулой чистой благодарности. На самом деле в даре любви заключается только то, что дается ни за что и может быть только «ничем». Другими словами, субъект делает дар, когда отдаёт что-то безвозмездно, и поскольку в этом заключено всё то, чего ему не хватает, то он жертвует чем-то за пределами того, что у него есть. То же самое относится к примитивному дару, поскольку он действительно появляется в начале человеческих обменов в форме потлача.
Предположим, субъект располагает всеми возможными благами, несметным богатством, он на вершине возможностей обладания всем, чем только можно. Но его дар не имел бы тогда ни малейшей ценности в качестве знака любви. Верующие воображают себе возможность любить Бога, потому что предполагают, что Бог действительно обладает этой полнотой и совершенством бытия. Но такая возможность мыслима лишь постольку, поскольку в основе любой веры можно обнаружить ещё кое-что. Ведь существу, которое представляется всем, несомненно, не хватает в бытии главного, то есть существования. В основе любой веры в Бога как безгранично щедрого, есть нечто такое, чего Ему не хватает, что постоянно заставляет сомневаться в Его существовании. Нет никаких других оснований любить Бога, кроме сомнения в Его существовании.
Не вызывает сомнений, что именно так Дора любит своего отца. Она любит его за то, чего он ей не дает. Ситуация не поддаётся осмыслению без учёта этого изначального положения, которое сохраняется до конца. И теперь стоит задуматься, каким образом можно было это положение терпеть, выносить, когда отец на глазах у Доры оказался вовлечён в другие отношения, которым сама Дора, похоже, способствовала.
В наблюдении мы имеем дело с тройкой: отец, Дора, госпожа К.
ДОРА Похоже на то, что вся история начинается с вопроса Доры: «Что мой отец любит в госпоже К.?» Госпожа К. представляет собой то, что отец может любить помимо неё. И то, к чему Дора привязывается, это то неизвестное ей, что её отец любит в другой.
Это вполне соответствует теории фаллического объекта, а именно тому, что субъект женского пола может войти в диалектику символического порядка только посредством фаллического дара. В психологии женщины Фрейд не отрицает реальную потребность, соотносимую с женским органом, но он никогда не допускал её участия в
Похоже на то, что вся история начинается с вопроса Доры: «Что мой отец любит в госпоже К.?» Госпожа К. представляет собой то, что отец может любить помимо неё. И то, к чему Дора привязывается, это то неизвестное ей, что её отец любит в другой.
Это вполне соответствует теории фаллического объекта, а именно тому, что субъект женского пола может войти в диалектику символического порядка только посредством фаллического дара. В психологии женщины Фрейд не отрицает реальную потребность, соотносимую с женским органом, но он никогда не допускал её участия в установлении позиции желания. Желание ориентировано на фаллос, поскольку он должен быть обретён в качестве дара. Для этого фаллос, отсутствующий или присутствующий где-то в другом месте, нужно перевести на уровень дара. Тогда он приобретает достоинство объекта дара и вводит субъекта в диалектику обмена, которая урегулирует все позиции, вплоть до основополагающих запретов, в условиях которых существуют отношения обмена. Именно внутри этого находит своё место и побочное удовлетворение реальная потребность, связанная с женским органом, существование которой Фрейд никогда не думал отрицать, но он никогда не придавал ей какого-либо символического смысла, поскольку она всегда сама по себе проблематична и имеет место до определённого символического перехода.
Вот то, о чём в действительности идёт речь по ходу развития событий и разворачивания симптомов на протяжении всего наблюдения. Дора задается вопросом: «Что такое женщина?» И поскольку госпожа К. воплощает эту самую женскую функцию, она становится для Доры той, на кого проецируется этот вопрос. Дора вступает в дуальные отношения с госпожой К., или скорее госпожа К. это та, кто любима помимо Доры, вот почему Дора заинтересована в сохранении этой позиции. Госпожа К. осознаёт, что Дора понятия не имеет, как себя в этой ситуации расположить. Любимо нечто за пределами существа. То, что любимо в существе, лежит за пределами того, чем это существо является, в конечном итоге это именно то, чего ему не хватает.
Дора оказывается где-то между своим отцом и госпожой К. Покуда отец любит госпожу К., Дора чувствует себя удовлетворённой, конечно, при условии, что эта позиция стабильно сохраняется. Кроме того, эта позиция многократно символизируется. Так, несостоятельный отец прибегает к всевозможным вариантам замены символического дара, включая дары материальные, для того чтобы восполнить нехватку своего мужественного присутствия, он заодно щедро одаривает Дору, распределяя подарки между любовницей и дочерью, тем самым включая последнюю в эту символическую диспозицию.
Но это ещё не всё - Дора старается получить доступ в противоположном направлении. Я имею в виду, что не по отношению к отцу, а по отношению к женщине, госпоже К., она пытается воссоздать ситуацию треугольника отношений. Здесь появляется господин К., с фигурой которого образуется треугольник, ориентированный в противоположном направлении.
ДОРА (2)
I Господин К А .
Госпожа К Дора Отец
В поисках ответа на свой вопрос Дора предполагает, что господин К. по одну с ней сторону к госпоже К., то есть испытывает к своей жене такое же обожание, которое находит ещё одно своё выражение у Доры в очень показательной символической
установлении позиции желания. Желание ориентировано на фаллос, поскольку он должен быть обретён в качестве дара. Для этого фаллос, отсутствующий или присутствующий где-то в другом месте, нужно перевести на уровень дара. Тогда он приобретает достоинство объекта дара и вводит субъекта в диалектику обмена, которая урегулирует все позиции, вплоть до основополагающих запретов, в условиях которых существуют отношения обмена. Именно внутри этого находит своё место и побочное удовлетворение реальная потребность, связанная с женским органом, существование которой Фрейд никогда не думал отрицать, но он никогда не придавал ей какого-либо символического смысла, поскольку она всегда сама по себе проблематична и имеет место до определённого символического перехода.
Вот то, о чём в действительности идёт речь по ходу развития событий и разворачивания симптомов на протяжении всего наблюдения. Дора задается вопросом: «Что такое женщина?» И поскольку госпожа К. воплощает эту самую женскую функцию, она становится для Доры той, на кого проецируется этот вопрос. Дора вступает в дуальные отношения с госпожой К., или скорее госпожа К. это та, кто любима помимо Доры, вот почему Дора заинтересована в сохранении этой позиции. Госпожа К. осознаёт, что Дора понятия не имеет, как себя в этой ситуации расположить. Любимо нечто за пределами существа. То, что любимо в существе, лежит за пределами того, чем это существо является, в конечном итоге это именно то, чего ему не хватает.
Дора оказывается где-то между своим отцом и госпожой К. Покуда отец любит госпожу К., Дора чувствует себя удовлетворённой, конечно, при условии, что эта позиция стабильно сохраняется. Кроме того, эта позиция многократно символизируется. Так, несостоятельный отец прибегает к всевозможным вариантам замены символического дара, включая дары материальные, для того чтобы восполнить нехватку своего мужественного присутствия, он заодно щедро одаривает Дору, распределяя подарки между любовницей и дочерью, тем самым включая последнюю в эту символическую диспозицию.
Но это ещё не всё - Дора старается получить доступ в противоположном направлении. Я имею в виду, что не по отношению к отцу, а по отношению к женщине, госпоже К., она пытается воссоздать ситуацию треугольника отношений. Здесь появляется господин К., с фигурой которого образуется треугольник, ориентированный в противоположном направлении.
ДОРА (2)
I Господин К А .
Госпожа К Дора Отец
В поисках ответа на свой вопрос Дора предполагает, что господин К. по одну с ней сторону к госпоже К., то есть испытывает к своей жене такое же обожание, которое находит ещё одно своё выражение у Доры в очень показательной символической ассоциации госпожи К. с Сикстинской Мадонной. Госпожа К. - предмет обожания всех окружающих, и в конечном итоге Дора связана с ней именно как соучастница этого обожания. Господин К. является инструментом, с помощью которого она осваивается в этом положении, пытаясь реинтегрировать в общий контур мужской элемент.
Когда господин К. получает пощёчину? Не тогда, когда ухаживает за Дорой или признаётся ей в любви. И даже не тогда, когда приближается к ней в невыносимой для истерички манере. Но в тот момент, когда он говорит ей: «Ich habe nichts an meiner Frau». «Я ничего не имею к моей жене». Немецкая формулировка очень красноречива, если мы придадим понятию «ничего» его полное значение, она приобретёт особенно выразительный смысл. То, что он сказал, выводит его за пределы образованного контура, где установился следующий порядок:
ассоциации госпожи К. с Сикстинской Мадонной. Госпожа К. - предмет обожания всех окружающих, и в конечном итоге Дора связана с ней именно как соучастница этого обожания. Господин К. является инструментом, с помощью которого она осваивается в этом положении, пытаясь реинтегрировать в общий контур мужской элемент.
Когда господин К. получает пощёчину? Не тогда, когда ухаживает за Дорой или признаётся ей в любви. И даже не тогда, когда приближается к ней в невыносимой для истерички манере. Но в тот момент, когда он говорит ей: «Ich habe nichts an meiner Frau». «Я ничего не имею к моей жене». Немецкая формулировка очень красноречива, если мы придадим понятию «ничего» его полное значение, она приобретёт особенно выразительный смысл. То, что он сказал, выводит его за пределы образованного контура, где установился следующий порядок:

 организации дара и закона в прямых отношениях с даром любви, она может пережить эту ситуацию, только опустившись до уровня объекта.
Именно так и происходит в этот момент. Дора, переполненная возмущением, говорит: «Мой отец продаёт меня кому-то другому». Что действительно является объективной оценкой положения дел, которое остаётся в тени. Фактически, отец покупал расположение мужа госпожи К. тем, что на протяжении нескольких лет не обращал внимания на его ухаживания за Дорой.
Итак, господин К. признал, что не является частью контура, в котором Дора могла бы идентифицировать себя и полагать, что она, Дора, привязана к нему в качестве его объекта «по другую сторону» его жены. Происходит разрыв этих связей, без сомнения, тонких и неоднозначных, но имеющих смысл и прекрасно ориентированных, пусть нестабильных, но помогающих Доре найти своё место в общем контуре. Равновесное положение ситуации оказалось нарушенным. Дора обнаруживает себя в роли простого объекта и затем начинает требовать. Она заявляет свои права на то, что до сих пор, по её мнению, ей уже принадлежало, даже посредством другого человека. Она требует любви своего отца. С этого момента, поскольку в этой любви ей отказано, она требует её исключительно для себя.
3
Таким образом, Дора и наша юная гомосексуальная пациентка вписаны соответственно в две ситуации в двух разных регистрах. В чём между ними разница?
Чтобы ускориться и завершить картину, я скажу вам, на что мы опираемся.
Если в бессознательном нашей юной гомосексуальной пациентки действительно поддерживается обещание отца у тебя будет ребёнок от меня, и если в своей возвышенной любви к даме она демонстрирует, как нам говорит об этом Фрейд, модель абсолютно бескорыстной любви, любви в обмен на ничто, не замечаете ли вы, что всё происходит, как если бы девочка хотела показать отцу, что такое настоящая любовь, любовь, в которой её отец отказал ей? Без сомнения, в бессознательном субъекта есть мысль, что отец отдаёт предпочтение матери, поскольку видит в этом больше преимуществ, и действительно, это положение, а именно подавляющее превосходство взрослого соперника, имеет основополагающее значение для любого вступающего в комплекс Эдипа ребёнка. Дочь здесь показывает своему отцу, как можно любить кого-то не только за то, что он имеет, но буквально за то, чего у него нет, за символический пенис. Она хорошо знает, что не найдёт его у дамы, потому что ей хорошо известно, что им располагает отец, который не бессилен.
Другими словами, то, что мы можем назвать в этом случае перверсией, выражается между строк, с помощью противопоставлений и намёков. Это один из способов говорить о чём-либо одном и в то же самое время путём использования определённых терминов сообщать некий противоположный смысл, который требуется донести до понимания. Иначе говоря, вы находите здесь то, что я однажды назвал метонимией, которая позволяет нечто сообщить, говоря о совершенно других вещах. Если вы не преуспели в постижении этого основополагающего понятия метонимии, то вряд ли вы сможете прийти к каким-либо представлениям о том, что перверсия может означать в воображаемом.
организации дара и закона в прямых отношениях с даром любви, она может пережить эту ситуацию, только опустившись до уровня объекта.
Именно так и происходит в этот момент. Дора, переполненная возмущением, говорит: «Мой отец продаёт меня кому-то другому». Что действительно является объективной оценкой положения дел, которое остаётся в тени. Фактически, отец покупал расположение мужа госпожи К. тем, что на протяжении нескольких лет не обращал внимания на его ухаживания за Дорой.
Итак, господин К. признал, что не является частью контура, в котором Дора могла бы идентифицировать себя и полагать, что она, Дора, привязана к нему в качестве его объекта «по другую сторону» его жены. Происходит разрыв этих связей, без сомнения, тонких и неоднозначных, но имеющих смысл и прекрасно ориентированных, пусть нестабильных, но помогающих Доре найти своё место в общем контуре. Равновесное положение ситуации оказалось нарушенным. Дора обнаруживает себя в роли простого объекта и затем начинает требовать. Она заявляет свои права на то, что до сих пор, по её мнению, ей уже принадлежало, даже посредством другого человека. Она требует любви своего отца. С этого момента, поскольку в этой любви ей отказано, она требует её исключительно для себя.
3
Таким образом, Дора и наша юная гомосексуальная пациентка вписаны соответственно в две ситуации в двух разных регистрах. В чём между ними разница?
Чтобы ускориться и завершить картину, я скажу вам, на что мы опираемся.
Если в бессознательном нашей юной гомосексуальной пациентки действительно поддерживается обещание отца у тебя будет ребёнок от меня, и если в своей возвышенной любви к даме она демонстрирует, как нам говорит об этом Фрейд, модель абсолютно бескорыстной любви, любви в обмен на ничто, не замечаете ли вы, что всё происходит, как если бы девочка хотела показать отцу, что такое настоящая любовь, любовь, в которой её отец отказал ей? Без сомнения, в бессознательном субъекта есть мысль, что отец отдаёт предпочтение матери, поскольку видит в этом больше преимуществ, и действительно, это положение, а именно подавляющее превосходство взрослого соперника, имеет основополагающее значение для любого вступающего в комплекс Эдипа ребёнка. Дочь здесь показывает своему отцу, как можно любить кого-то не только за то, что он имеет, но буквально за то, чего у него нет, за символический пенис. Она хорошо знает, что не найдёт его у дамы, потому что ей хорошо известно, что им располагает отец, который не бессилен.
Другими словами, то, что мы можем назвать в этом случае перверсией, выражается между строк, с помощью противопоставлений и намёков. Это один из способов говорить о чём-либо одном и в то же самое время путём использования определённых терминов сообщать некий противоположный смысл, который требуется донести до понимания. Иначе говоря, вы находите здесь то, что я однажды назвал метонимией, которая позволяет нечто сообщить, говоря о совершенно других вещах. Если вы не преуспели в постижении этого основополагающего понятия метонимии, то вряд ли вы сможете прийти к каким-либо представлениям о том, что перверсия может означать в воображаемом. Метонимия является основным принципом для всего, что можно причислить к измерению выдумки и искусства, то есть к реализму. Поскольку реализм буквально не имеет смысла. Роман со множеством мелочей, которые ни о чём не говорят, не имеет никакой ценности, если в нём нет отчётливо и согласованно вибрирующего смысла, который обретает своё значение за пределами текста. Так в начале Войны и мира отсылка к элементу обнажённых женских плеч служит отсылке к чему-то совершенно отвлечённому. Великие романисты выражают смысл не символически, не аллегорически, но с помощью того, что они удерживают на расстоянии. То же самое в кино - фильм хороший, если метонимический. Точно так же перверсивная функция субъекта является метонимической функцией.
Но так ли это для Доры, которая является невротиком? В её случае всё происходит совершенно иначе. Принимая во внимание схему, обнаруживается, что в перверсии мы имеем дело с означающим поступком, указывающим на означающее, расположенное дальше в цепочке означающих и связывающее его таким образом с необходимым означающим. В случае Доры она как субъект меняет свою позицию, соблюдая последовательность означающих в цепи. Она находится в своего рода бесконечной метафоре.
Дора не понимает ни куда себя деть, ни где она находится, ни зачем она нужна, ни зачем нужна любовь. Она только знает, что любовь существует, и конструирует историю, где любовь находит своё место в виде вопроса. Этот вопрос проявляется в форме и содержании всех её сновидений. Шкатулка с драгоценностями, Bahnhof, Friedhof, Vorhof - всё это означает не что иное, как этот вопрос. Короче говоря, у Доры возникает вопрос, что значит быть женщиной, и она выражает его определённым образом, а именно посредством симптомов. Симптомы - это означающие элементы, но они важны постольку, поскольку под ними скрывается постоянно ускользающее означаемое, которое интересует Дору, в погоню за которым она вовлечена.
Именно в качестве метафоры невроз Доры приобретает свой смысл и может найти своё разрешение. Фрейд хотел ввести в эту метафору или, скорее, усилить в ней реальный, постоянно возвращающийся элемент, повторяя Доре: «Вот, именно это вы любите». Конечно, кое-что нормализуется посредством включения в контур господина К., но это всё равно остаётся в метафорическом состоянии.
Доказательством этого служат те признаки подобия беременности Доры после разрыва с господином К., смысл которых Фрейд распознаёт своим поразительным интуитивным чутьём. Действительно, в дальнейшем имеет место нечто вроде странного многозначительного выкидыша. Фрейд указывает на срок в девять месяцев, потому что так говорит ему сама Дора, признавая тем самым своего рода беременность. На самом деле проходит пятнадцать месяцев, что превышает обычный период беременности. Важно, что Дора видит в этом последний отзвук того, что до сих пор связывает её с господином К. Мы находим некоторый эквивалент совокупления, который производится в символическом порядке в чисто метафорической форме. Повторим ещё раз, симптом в этом случае - только метафора. Для Доры это попытка присоединиться к закону символических обменов в отношениях с человеком, с которым вступают в союз или расходятся.
И наоборот, роды, которые также имеют место в конце случая юной гомосексуальной пациентки перед тем, как она попадает в руки к Фрейду, находят своё выражение следующим образом - внезапно она бросается с небольшого моста на
Метонимия является основным принципом для всего, что можно причислить к измерению выдумки и искусства, то есть к реализму. Поскольку реализм буквально не имеет смысла. Роман со множеством мелочей, которые ни о чём не говорят, не имеет никакой ценности, если в нём нет отчётливо и согласованно вибрирующего смысла, который обретает своё значение за пределами текста. Так в начале Войны и мира отсылка к элементу обнажённых женских плеч служит отсылке к чему-то совершенно отвлечённому. Великие романисты выражают смысл не символически, не аллегорически, но с помощью того, что они удерживают на расстоянии. То же самое в кино - фильм хороший, если метонимический. Точно так же перверсивная функция субъекта является метонимической функцией.
Но так ли это для Доры, которая является невротиком? В её случае всё происходит совершенно иначе. Принимая во внимание схему, обнаруживается, что в перверсии мы имеем дело с означающим поступком, указывающим на означающее, расположенное дальше в цепочке означающих и связывающее его таким образом с необходимым означающим. В случае Доры она как субъект меняет свою позицию, соблюдая последовательность означающих в цепи. Она находится в своего рода бесконечной метафоре.
Дора не понимает ни куда себя деть, ни где она находится, ни зачем она нужна, ни зачем нужна любовь. Она только знает, что любовь существует, и конструирует историю, где любовь находит своё место в виде вопроса. Этот вопрос проявляется в форме и содержании всех её сновидений. Шкатулка с драгоценностями, Bahnhof, Friedhof, Vorhof - всё это означает не что иное, как этот вопрос. Короче говоря, у Доры возникает вопрос, что значит быть женщиной, и она выражает его определённым образом, а именно посредством симптомов. Симптомы - это означающие элементы, но они важны постольку, поскольку под ними скрывается постоянно ускользающее означаемое, которое интересует Дору, в погоню за которым она вовлечена.
Именно в качестве метафоры невроз Доры приобретает свой смысл и может найти своё разрешение. Фрейд хотел ввести в эту метафору или, скорее, усилить в ней реальный, постоянно возвращающийся элемент, повторяя Доре: «Вот, именно это вы любите». Конечно, кое-что нормализуется посредством включения в контур господина К., но это всё равно остаётся в метафорическом состоянии.
Доказательством этого служат те признаки подобия беременности Доры после разрыва с господином К., смысл которых Фрейд распознаёт своим поразительным интуитивным чутьём. Действительно, в дальнейшем имеет место нечто вроде странного многозначительного выкидыша. Фрейд указывает на срок в девять месяцев, потому что так говорит ему сама Дора, признавая тем самым своего рода беременность. На самом деле проходит пятнадцать месяцев, что превышает обычный период беременности. Важно, что Дора видит в этом последний отзвук того, что до сих пор связывает её с господином К. Мы находим некоторый эквивалент совокупления, который производится в символическом порядке в чисто метафорической форме. Повторим ещё раз, симптом в этом случае - только метафора. Для Доры это попытка присоединиться к закону символических обменов в отношениях с человеком, с которым вступают в союз или расходятся.
И наоборот, роды, которые также имеют место в конце случая юной гомосексуальной пациентки перед тем, как она попадает в руки к Фрейду, находят своё выражение следующим образом - внезапно она бросается с небольшого моста на железную дорогу. Это случается в момент, когда реальный отец снова являет своё раздражение и ярость, а женщина, которая с ней, поддерживает это вмешательство отца и говорит, что больше не хочет её видеть. Девушка в этот момент лишается своих последних опор. До этого она уже была достаточно фрустрирована потерей того, что должна была получить, а именно отцовского фаллоса, но нашла способ поддержать желание в воображаемых отношениях с дамой, отказа которой она теперь совершенно не может вынести. Объект окончательно утрачен, и то ничто, в котором она утверждается, чтобы показать отцу, как можно любить, больше не имеет основы для существования. В этот момент она совершает попытку самоубийства.
Как подчёркивает Фрейд, у этого есть и другой смысл, смысл окончательной потери объекта. Этот фаллос, в котором ей решительно отказано, является тем, что выпадает, niederkommt. Падение здесь имеет значение окончательного лишения и в то же время некоторым образом имитирует символические роды. Вы найдёте здесь метонимическое значение, о котором я говорил. Если акт этого броска с железнодорожного моста в критический и предельный момент её отношений с дамой и отцом Фрейд интерпретирует как показательную попытку самой произвести на свет ребёнка, которого она не получила, и в то же время уничтожить себя в последнем выразительном акте как объект, то основана эта интерпретация исключительно на существовании слова niederkommt.
Это слово метонимически указывает на последнее обстоятельство суицида, в котором находит своё выражение то, о чём идёт речь в случае юной гомосексуальной пациентки. Единственным источником её перверсии, в соответствии с тем, что Фрейд неоднократно утверждал относительно патогенеза определённого типа женской гомосексуальности, является устойчивая и особенно сильная любовь к отцу.
23 января 1957
железную дорогу. Это случается в момент, когда реальный отец снова являет своё раздражение и ярость, а женщина, которая с ней, поддерживает это вмешательство отца и говорит, что больше не хочет её видеть. Девушка в этот момент лишается своих последних опор. До этого она уже была достаточно фрустрирована потерей того, что должна была получить, а именно отцовского фаллоса, но нашла способ поддержать желание в воображаемых отношениях с дамой, отказа которой она теперь совершенно не может вынести. Объект окончательно утрачен, и то ничто, в котором она утверждается, чтобы показать отцу, как можно любить, больше не имеет основы для существования. В этот момент она совершает попытку самоубийства.
Как подчёркивает Фрейд, у этого есть и другой смысл, смысл окончательной потери объекта. Этот фаллос, в котором ей решительно отказано, является тем, что выпадает, niederkommt. Падение здесь имеет значение окончательного лишения и в то же время некоторым образом имитирует символические роды. Вы найдёте здесь метонимическое значение, о котором я говорил. Если акт этого броска с железнодорожного моста в критический и предельный момент её отношений с дамой и отцом Фрейд интерпретирует как показательную попытку самой произвести на свет ребёнка, которого она не получила, и в то же время уничтожить себя в последнем выразительном акте как объект, то основана эта интерпретация исключительно на существовании слова niederkommt.
Это слово метонимически указывает на последнее обстоятельство суицида, в котором находит своё выражение то, о чём идёт речь в случае юной гомосексуальной пациентки. Единственным источником её перверсии, в соответствии с тем, что Фрейд неоднократно утверждал относительно патогенеза определённого типа женской гомосексуальности, является устойчивая и особенно сильная любовь к отцу.
23 января 1957

 того, что было написано о фетишизме, я удостоверился, что эти спекуляции заводят авторов во всевозможные тупики.
Я, как всегда, постараюсь не слишком задержаться в этой чаще психоаналитической литературы. Откровенно говоря, чтобы как следует проработать тему, требуются многие часы и подробное изучение, потому что нет более кропотливой и даже утомительной работы, чем искать точное место, где рассуждение проскальзывает, где автору изменяет способность к различению, так что я представлю вам более-менее сухой остаток из всего мною прочитанного и попрошу вас этому довериться.
Чтобы избежать тех дебрей, в которых долгие годы пребывают эти авторы, необходима путеводная нить. И нужно чётко сориентироваться относительно того пункта, который они не признают. А именно, следует определить, что речь идёт не о реальном фаллосе, который, будучи реальным, или есть, или нет, речь идёт о фаллосе символическом, по самой природе своей предстающем в обмене в качестве отсутствующего - отсутствие, функционирующее как таковое.
На самом деле всё, что может быть передано в символическом обмене, всегда представляет собой нечто столь же отсутствующее, сколь и присутствующее. Так устанавливается основополагающий режим чередования, в котором нечто, появляясь в одном месте, исчезает, чтобы вновь появиться в другом. Иначе говоря, оно циркулирует, оставляя знак своего отсутствия там, откуда приходит. Другими словами, в фаллосе, о котором идёт речь, мы тотчас распознаём символический объект.
С одной стороны, с помощью этого объекта устанавливается структурный цикл воображаемых угроз, которые ограничивает применение реального фаллоса. Именно в этом и состоит смысл комплекса кастрации, именно в этом отношении человек ему подчинён. Но есть и другое использование, которое скрыто, так сказать, под более или менее пугающими фантазмами об отношениях человека с запретами, связанными с использованием фаллоса - в этом состоит символическая функция фаллоса. Именно тем, тут он или его тут нет, и исключительно этим, и определяется символическое различие полов.
Женщина символически не обладает фаллосом. Но не обладать фаллосом символически означает располагать его отсутствием, это уже некоторого рода обладание. За любыми отношениями между мужчиной и женщиной всегда стоит фаллос. Порой он может оказаться для женщины объектом воображаемой ностальгии, поскольку у неё есть только очень маленький фаллос. Но этот фаллос, который она может считать недостаточным, является не единственным, которым она располагает. В силу того, что она вписана в интерсубъективные отношения, для мужчины по ту её сторону есть тот фаллос, которого у неё нет, то есть символический фаллос, который налицо у неё как отсутствие. Её реальная причастность к фаллосу совершенно никак не зависит от той неполноценности, которую она может ощущать в воображаемом плане.
Этот символический пенис, который я включил на предыдущих встречах в схему случая юной гомосексуальной пациентки, играет принципиальную роль при вхождении девочки в измерение символического обмена. Именно по причине того, что у девочки нет фаллоса, то есть поскольку она располагает им в символическом плане, она входит в символическую диалектику обладания или не обладания фаллосом, то есть в упорядоченные и символизированные отношения различия полов, отношения между людьми, которые являются принятыми, регулируемыми, типизированными,
того, что было написано о фетишизме, я удостоверился, что эти спекуляции заводят авторов во всевозможные тупики.
Я, как всегда, постараюсь не слишком задержаться в этой чаще психоаналитической литературы. Откровенно говоря, чтобы как следует проработать тему, требуются многие часы и подробное изучение, потому что нет более кропотливой и даже утомительной работы, чем искать точное место, где рассуждение проскальзывает, где автору изменяет способность к различению, так что я представлю вам более-менее сухой остаток из всего мною прочитанного и попрошу вас этому довериться.
Чтобы избежать тех дебрей, в которых долгие годы пребывают эти авторы, необходима путеводная нить. И нужно чётко сориентироваться относительно того пункта, который они не признают. А именно, следует определить, что речь идёт не о реальном фаллосе, который, будучи реальным, или есть, или нет, речь идёт о фаллосе символическом, по самой природе своей предстающем в обмене в качестве отсутствующего - отсутствие, функционирующее как таковое.
На самом деле всё, что может быть передано в символическом обмене, всегда представляет собой нечто столь же отсутствующее, сколь и присутствующее. Так устанавливается основополагающий режим чередования, в котором нечто, появляясь в одном месте, исчезает, чтобы вновь появиться в другом. Иначе говоря, оно циркулирует, оставляя знак своего отсутствия там, откуда приходит. Другими словами, в фаллосе, о котором идёт речь, мы тотчас распознаём символический объект.
С одной стороны, с помощью этого объекта устанавливается структурный цикл воображаемых угроз, которые ограничивает применение реального фаллоса. Именно в этом и состоит смысл комплекса кастрации, именно в этом отношении человек ему подчинён. Но есть и другое использование, которое скрыто, так сказать, под более или менее пугающими фантазмами об отношениях человека с запретами, связанными с использованием фаллоса - в этом состоит символическая функция фаллоса. Именно тем, тут он или его тут нет, и исключительно этим, и определяется символическое различие полов.
Женщина символически не обладает фаллосом. Но не обладать фаллосом символически означает располагать его отсутствием, это уже некоторого рода обладание. За любыми отношениями между мужчиной и женщиной всегда стоит фаллос. Порой он может оказаться для женщины объектом воображаемой ностальгии, поскольку у неё есть только очень маленький фаллос. Но этот фаллос, который она может считать недостаточным, является не единственным, которым она располагает. В силу того, что она вписана в интерсубъективные отношения, для мужчины по ту её сторону есть тот фаллос, которого у неё нет, то есть символический фаллос, который налицо у неё как отсутствие. Её реальная причастность к фаллосу совершенно никак не зависит от той неполноценности, которую она может ощущать в воображаемом плане.
Этот символический пенис, который я включил на предыдущих встречах в схему случая юной гомосексуальной пациентки, играет принципиальную роль при вхождении девочки в измерение символического обмена. Именно по причине того, что у девочки нет фаллоса, то есть поскольку она располагает им в символическом плане, она входит в символическую диалектику обладания или не обладания фаллосом, то есть в упорядоченные и символизированные отношения различия полов, отношения между людьми, которые являются принятыми, регулируемыми, типизированными, организованными, пронизанными запретами, отмеченными, в частности, фундаментальной структурой запрета на инцест. Именно это имеет в виду Фрейд, когда пишет, что при помощи того, что он называет идеей кастрации - идеей, которая заключается в том, что у девочки нет фаллоса, но у неё нет его символически, таким образом, она может его иметь - она входит в эдипов комплекс, входит именно там, где мальчик из него выходит.
Здесь на структурном уровне мы видим подтверждение андроцентризма, который по леви-строссовской схематизации отмечает элементарные структуры родства. Женщины обмениваются между родами, определяющимися по мужской линии, именно в силу того, что она определяется символически и вероятностно. По факту женщины выступают предметами обмена между мужскими родами посредством обмена на тот фаллос, который они символически получают и в обмен на который они дают ребенка. Этот последний приобретает для них функцию эрзаца, заменителя, эквивалента фаллоса, благодаря чему они вводят природное воспроизводство в эту, саму по себе бесплодную, патроцентрическую символическую генеалогию. Именно в силу связи с этим уникальным, центральным объектом, который характеризуется тем, что является не просто объектом, но объектом, который самым радикальным образом был обращён в символический, именно через такое отношение к фаллосу они входят в цепочку символического обмена, обустраиваются там, обретают своё место и своё значение.
Это тысячей способов даёт о себе знать, как только однажды вы это заметили. Если присмотреться повнимательнее, чем оборачивается фундаментальное представление, будто женщина отдаёт себя, как не утверждением дара? Перед нами здесь весьма конкретный и парадоксальный психологический опыт. На самом деле в акте любви именно женщина является получающей стороной, она скорее получает, чем отдаёт. Всё указывает на то, - и аналитический опыт это подтверждает - что в воображаемом плане её позиция ассоциируется прежде всего с присвоением, едва ли не с пожиранием. И если на деле говорится обратное, что женщина отдаёт себя, то лишь в силу того, что символически это должно быть именно так - она должна что-то отдать взамен того, что получает, а именно взамен символического фаллоса.
Итак, говорит нам Фрейд, это и есть фетиш, представляющий собой отсутствующий символический фаллос. Как можно не заметить, что здесь необходим этот особого рода изначальный переворот, чтобы мы смогли понять вещи, которые в ином случае были бы парадоксальными? Например, фетишистом всегда становится мальчик и никогда девочка. Если бы решающим моментом была недостача, воображаемая неполноценность, то из двух полов к фетишизму должен был бы быть более предрасположен скорее тот, который действительно лишён фаллоса. Но ничего подобного. Фетишизм чрезвычайно редко встречается у женщин, если говорить о его непосредственном и обособленном значении, когда он воплощается в объекте, который мы могли бы рассмотреть как символизацию отсутствующего фаллоса.
Попробуем для начала понять, каким образом могут возникнуть эти особые отношения субъекта с объектом, который таковым не является.
организованными, пронизанными запретами, отмеченными, в частности, фундаментальной структурой запрета на инцест. Именно это имеет в виду Фрейд, когда пишет, что при помощи того, что он называет идеей кастрации - идеей, которая заключается в том, что у девочки нет фаллоса, но у неё нет его символически, таким образом, она может его иметь - она входит в эдипов комплекс, входит именно там, где мальчик из него выходит.
Здесь на структурном уровне мы видим подтверждение андроцентризма, который по леви-строссовской схематизации отмечает элементарные структуры родства. Женщины обмениваются между родами, определяющимися по мужской линии, именно в силу того, что она определяется символически и вероятностно. По факту женщины выступают предметами обмена между мужскими родами посредством обмена на тот фаллос, который они символически получают и в обмен на который они дают ребенка. Этот последний приобретает для них функцию эрзаца, заменителя, эквивалента фаллоса, благодаря чему они вводят природное воспроизводство в эту, саму по себе бесплодную, патроцентрическую символическую генеалогию. Именно в силу связи с этим уникальным, центральным объектом, который характеризуется тем, что является не просто объектом, но объектом, который самым радикальным образом был обращён в символический, именно через такое отношение к фаллосу они входят в цепочку символического обмена, обустраиваются там, обретают своё место и своё значение.
Это тысячей способов даёт о себе знать, как только однажды вы это заметили. Если присмотреться повнимательнее, чем оборачивается фундаментальное представление, будто женщина отдаёт себя, как не утверждением дара? Перед нами здесь весьма конкретный и парадоксальный психологический опыт. На самом деле в акте любви именно женщина является получающей стороной, она скорее получает, чем отдаёт. Всё указывает на то, - и аналитический опыт это подтверждает - что в воображаемом плане её позиция ассоциируется прежде всего с присвоением, едва ли не с пожиранием. И если на деле говорится обратное, что женщина отдаёт себя, то лишь в силу того, что символически это должно быть именно так - она должна что-то отдать взамен того, что получает, а именно взамен символического фаллоса.
Итак, говорит нам Фрейд, это и есть фетиш, представляющий собой отсутствующий символический фаллос. Как можно не заметить, что здесь необходим этот особого рода изначальный переворот, чтобы мы смогли понять вещи, которые в ином случае были бы парадоксальными? Например, фетишистом всегда становится мальчик и никогда девочка. Если бы решающим моментом была недостача, воображаемая неполноценность, то из двух полов к фетишизму должен был бы быть более предрасположен скорее тот, который действительно лишён фаллоса. Но ничего подобного. Фетишизм чрезвычайно редко встречается у женщин, если говорить о его непосредственном и обособленном значении, когда он воплощается в объекте, который мы могли бы рассмотреть как символизацию отсутствующего фаллоса.
Попробуем для начала понять, каким образом могут возникнуть эти особые отношения субъекта с объектом, который таковым не является. 2
Фетиш, говорит нам анализ, является символом. В этом отношении он сразу же оказывается почти в том же положении, что и любой другой невротический симптом.
Но в случае фетишизма мы говорим не о неврозе, но о перверсии, и это не одно и то же. Нозологическая классификация опирается на клинические проявления, которые, несомненно, имеют определённое значение, но нужно присмотреться повнимательнее, чтобы увидеть это на структурном уровне, с аналитической точки зрения. На самом деле многие авторы испытывают здесь некоторые колебания и доходят до того, что располагают фетишизм на границе между перверсиями и неврозами именно по причине особого символического характера ключевого фантазма.
Начиная с самой верхушки всей структуры, задержимся на мгновение на этой позиции заслонения, в которой то, что любимо в объекте любви, располагается по другую его сторону. Без сомнения, эта вещь является ничем, но обладает свойством наличия тамсимволически. Поскольку она символ, она не только может, но и должна быть ничем. Что наиболее явным образом может материализовать для нас эти отношения заслонения, где то, на что мы нацелены, находится по другую сторону того, что явлено? Не является ли это одним из фундаментальных образов человеческих отношений с миром - покровом, завесой?
Покров, завеса, за которыми что-то кроется - вот что даёт наилучшее представление о ситуации любви. Можно даже сказать, что в присутствии завесы то, что расположено по другую сторону как нехватка, стремится реализовать себя как образ. На завесе изображено отсутствие. Это и есть функция любой завесы. Завеса приобретает своё значение, существование и качество именно экрана, на который спроецировано и где отображено отсутствие. Эта завеса, так сказать, представляет из себя идол отсутствия. И если покрывало Майи стало метафорой, наиболее часто используемой для выражения отношений человека со всем, что его пленяет, то, без сомнения, произошло это не без причины, а связано с ощущением некоторой исконной иллюзорности всех сотканных желанием взаимосвязей. Именно на этой поверхности человек воплощает, идолотворит своё чувство к этому ничто, расположенному по другую сторону объекта любви.
Вы должны иметь в виду эту основополагающую схему для того, чтобы всякий раз, когда мы рассматриваем установление фетишистских отношений, правильно располагать задействованные элементы.
СХЕМА ЗАВЕСЫ
Субъект
Объект Ничто
Завеса
2
Фетиш, говорит нам анализ, является символом. В этом отношении он сразу же оказывается почти в том же положении, что и любой другой невротический симптом.
Но в случае фетишизма мы говорим не о неврозе, но о перверсии, и это не одно и то же. Нозологическая классификация опирается на клинические проявления, которые, несомненно, имеют определённое значение, но нужно присмотреться повнимательнее, чтобы увидеть это на структурном уровне, с аналитической точки зрения. На самом деле многие авторы испытывают здесь некоторые колебания и доходят до того, что располагают фетишизм на границе между перверсиями и неврозами именно по причине особого символического характера ключевого фантазма.
Начиная с самой верхушки всей структуры, задержимся на мгновение на этой позиции заслонения, в которой то, что любимо в объекте любви, располагается по другую его сторону. Без сомнения, эта вещь является ничем, но обладает свойством наличия тамсимволически. Поскольку она символ, она не только может, но и должна быть ничем. Что наиболее явным образом может материализовать для нас эти отношения заслонения, где то, на что мы нацелены, находится по другую сторону того, что явлено? Не является ли это одним из фундаментальных образов человеческих отношений с миром - покровом, завесой?
Покров, завеса, за которыми что-то кроется - вот что даёт наилучшее представление о ситуации любви. Можно даже сказать, что в присутствии завесы то, что расположено по другую сторону как нехватка, стремится реализовать себя как образ. На завесе изображено отсутствие. Это и есть функция любой завесы. Завеса приобретает своё значение, существование и качество именно экрана, на который спроецировано и где отображено отсутствие. Эта завеса, так сказать, представляет из себя идол отсутствия. И если покрывало Майи стало метафорой, наиболее часто используемой для выражения отношений человека со всем, что его пленяет, то, без сомнения, произошло это не без причины, а связано с ощущением некоторой исконной иллюзорности всех сотканных желанием взаимосвязей. Именно на этой поверхности человек воплощает, идолотворит своё чувство к этому ничто, расположенному по другую сторону объекта любви.
Вы должны иметь в виду эту основополагающую схему для того, чтобы всякий раз, когда мы рассматриваем установление фетишистских отношений, правильно располагать задействованные элементы.
СХЕМА ЗАВЕСЫ
Субъект
Объект Ничто
Завеса Вот субъект и объект, и это ничто, расположенное по ту сторону, оно же символ, оно же фаллос, которого не хватает женщине. Но как только возникает занавес, на нём может нарисоваться нечто, говорящее: «Объект там, по ту сторону». Тогда объект может занять место нехватки и таким образом стать опорой любви, но как раз в силу того, что он не является пунктом, к которому устремлено желание. Некоторым образом, желание здесь проявляется как метафора любви, но то, что привязывает его к себе, то есть объект, является в качестве иллюзорного, и с иллюзорностью и связана как раз его ценность.
Пресловутое «расщепление эго» в разговорах о фетише объясняют нам тем, что в женской кастрации одновременно присутствует утверждение и отрицание. Поскольку фетиш своим наличием удостоверяет, что женщина не потеряла фаллос, но и может его лишиться, то есть может быть кастрирована. Двойственность по отношению к фетишу является константой и постоянно проявляется в симптомах. Эта двойственность представляет собой оберегаемую иллюзию, которая зависит каждое мгновение от того, опущена завеса или же поднята. Именно о такого рода связи идёт речь в отношениях фетишиста с его объектом.
По поводу фундаментальной позиции отрицания по отношению к фетишу Фрейд, когда мы следуем его тексту, говорит о Verleugnung. Но в разговоре об этих сложных отношениях он упоминает также о важности сохранения вертикального положения, aufrecht zu halten, как если бы речь шла предметах мебели. Так в языке Фрейда, настолько образном и одновременно точном, появляются термины, которые обретают здесь весомую значимость. «В создании подобного заменителя отвращение к кастрации воздвигло себе памятник», - говорит он. Фетиш - это Denkmal. Слово трофей не подходит, но на самом деле оно присутствует в удвоении знака триумфа, das Zeichen des Triumphes. Множество раз авторы, приближаясь к типичному феномену фетиша, будут говорить о нём как о том, посредством чего субъект провозглашает своё отношению к полу. Здесь Фрейд помогает продвинуться ещё на один шаг.
Почему так происходит? Почему это необходимо? Мы к этому ещё подойдём. Ведь мы, как обычно, слишком торопимся. Если мы сразу же начинаем с «почему», то немедленно попадаем в пандемический хаос различных направлений, которые наваливаются толпой, дабы объяснить, почему субъект более или менее отдаляется от объекта и чувствует угрозу с его стороны, находится в конфликте с ним. Давайте лучше на мгновение задержимся на структуре.
А структура вот она: в отношениях того, что по другую сторону, и завесы. На завесе может быть изображено, то есть размещено в качестве воображаемой ловушки и места желания, отношение к тому, что лежит по ту сторону и является основополагающим для всякого установления символических отношений. Речь здесь идёт о сведении в воображаемую плоскость того троичного ритма субъект-объект-потустороннее, который является фундаментально значимым для символических отношений. Иначе говоря, в функции завесы речь идёт о проекции занимаемого объектом промежуточного положения.
Прежде чем идти дальше и подойти вплотную к необходимости, создающей у субъекта потребность в завесе, обратим внимание на ещё один аспект установления в воображаемом символических отношений.
В прошлый раз я говорил вам, в связи со структурой перверсии, о метонимии, а также о косвенных намёках и тех подразумеваемых между строк отношениях, которые представляют собой её производные формы. То же самое говорит и Фрейд, только слово
Вот субъект и объект, и это ничто, расположенное по ту сторону, оно же символ, оно же фаллос, которого не хватает женщине. Но как только возникает занавес, на нём может нарисоваться нечто, говорящее: «Объект там, по ту сторону». Тогда объект может занять место нехватки и таким образом стать опорой любви, но как раз в силу того, что он не является пунктом, к которому устремлено желание. Некоторым образом, желание здесь проявляется как метафора любви, но то, что привязывает его к себе, то есть объект, является в качестве иллюзорного, и с иллюзорностью и связана как раз его ценность.
Пресловутое «расщепление эго» в разговорах о фетише объясняют нам тем, что в женской кастрации одновременно присутствует утверждение и отрицание. Поскольку фетиш своим наличием удостоверяет, что женщина не потеряла фаллос, но и может его лишиться, то есть может быть кастрирована. Двойственность по отношению к фетишу является константой и постоянно проявляется в симптомах. Эта двойственность представляет собой оберегаемую иллюзию, которая зависит каждое мгновение от того, опущена завеса или же поднята. Именно о такого рода связи идёт речь в отношениях фетишиста с его объектом.
По поводу фундаментальной позиции отрицания по отношению к фетишу Фрейд, когда мы следуем его тексту, говорит о Verleugnung. Но в разговоре об этих сложных отношениях он упоминает также о важности сохранения вертикального положения, aufrecht zu halten, как если бы речь шла предметах мебели. Так в языке Фрейда, настолько образном и одновременно точном, появляются термины, которые обретают здесь весомую значимость. «В создании подобного заменителя отвращение к кастрации воздвигло себе памятник», - говорит он. Фетиш - это Denkmal. Слово трофей не подходит, но на самом деле оно присутствует в удвоении знака триумфа, das Zeichen des Triumphes. Множество раз авторы, приближаясь к типичному феномену фетиша, будут говорить о нём как о том, посредством чего субъект провозглашает своё отношению к полу. Здесь Фрейд помогает продвинуться ещё на один шаг.
Почему так происходит? Почему это необходимо? Мы к этому ещё подойдём. Ведь мы, как обычно, слишком торопимся. Если мы сразу же начинаем с «почему», то немедленно попадаем в пандемический хаос различных направлений, которые наваливаются толпой, дабы объяснить, почему субъект более или менее отдаляется от объекта и чувствует угрозу с его стороны, находится в конфликте с ним. Давайте лучше на мгновение задержимся на структуре.
А структура вот она: в отношениях того, что по другую сторону, и завесы. На завесе может быть изображено, то есть размещено в качестве воображаемой ловушки и места желания, отношение к тому, что лежит по ту сторону и является основополагающим для всякого установления символических отношений. Речь здесь идёт о сведении в воображаемую плоскость того троичного ритма субъект-объект-потустороннее, который является фундаментально значимым для символических отношений. Иначе говоря, в функции завесы речь идёт о проекции занимаемого объектом промежуточного положения.
Прежде чем идти дальше и подойти вплотную к необходимости, создающей у субъекта потребность в завесе, обратим внимание на ещё один аспект установления в воображаемом символических отношений.
В прошлый раз я говорил вам, в связи со структурой перверсии, о метонимии, а также о косвенных намёках и тех подразумеваемых между строк отношениях, которые представляют собой её производные формы. То же самое говорит и Фрейд, только слово метонимия он не использует. То, что образует фетиш, тот символический элемент, который фиксирует фетиш и проецирует его на завесу, специально заимствуется из исторического измерения. Это момент истории, где образ фиксируется.
Помнится, я однажды уже использовал сравнение с действием фильма, которое внезапно застывает за мгновение до того, как то, что разыскивается у матери, то есть фаллос, который она и имеет, и не имеет, вот-вот должен быть увиден как присутствие-отсутствия или отсутствие-присутствия. Припоминание истории останавливается и зависает в последний момент.
Я говорю о припоминании истории, поскольку у такого фундаментального термина фрейдовской феноменологии и концептуализации как покрывающее воспоминание (souvenir-écran) нет никакого другого смысла. Покрывающее воспоминание, Deckerinnerung, это не просто стоп-кадр, это прерывание истории, момент, в который она останавливается и застывает, продолжая одновременно стремиться к тому, что расположено по ту сторону завесы. Покрывающее воспоминание связано с историей всей цепочкой исторических событий, оно является остановкой этой цепи, и именно в этом смысле оно метонимично, поскольку история по своей природе длится. И в момент остановки цепь указывает на своё завуалированное продолжение, на своё отсутствующее продолжение, то есть на вытеснение, о котором, как уточняет Фрейд, и идёт здесь речь.
Мы говорим о вытеснении только потому, что существует символическая цепь. Если в качестве вытесняемого мы описываем воображаемый феномен, поскольку фетиш в некотором смысле является образом, и образом спроецированным, то лишь потому, что этот образ представляет собой пограничный пункт между длящейся историей и моментом, в котором она прерывается. Это знак, метка, пункт вытеснения.
Читая тексты Фрейда внимательно, вы увидите, что именно наш способ артикулировать вещи наделяет его выражения наиболее ясным смыслом.
Здесь мы снова видим различие между отношением к объекту любви и фрустрирующим отношением к объекту. Это два разных отношения. Любовь переносится на привязанное к иллюзорному объекту желание посредством метафоры, но конституируется этот объект не метафорически, а метонимически. Это пункт в исторической цепочке, тот пункт, где история останавливается. Это знак того, что именно здесь берёт начало конституируемое субъектом потустороннее. Почему? Почему именно в этом пункте субъекту приходится конституировать нечто по ту сторону? Почему человек ценит завесу более, чем реальность? Почему порядок этого иллюзорного отношения становится для него сущностной, необходимой составляющей связи с объектом? Таков вопрос, поднимаемый фетишизмом.
Прежде чем идти дальше, вы уже можете заметить, насколько всё проясняется, включая случай замечательного каламбура, который Фрейд предоставляет нам как первый эпизод анализа фетишизма. Один господин, который жил в детстве в Англии и стал фетишистом, приехав в Германию, всегда искал виденный им некогда небольшой блеск на носу, ein Glanz auf die Nase. Речь здесь идёт ни о чём ином, как о взгляде на нос, нос, который и сам по себе, конечно, является символом. Немецкое выражение воспроизводит звучание английского glance at the nose, взгляд на нос, услышанное нашим господином в раннем детстве. Здесь вы видите включение в игру и проекцию на определённую точку завесы исторической цепочки событий, которая может включить в себя даже целое предложение и, более того, забытое предложение на другом языке.
метонимия он не использует. То, что образует фетиш, тот символический элемент, который фиксирует фетиш и проецирует его на завесу, специально заимствуется из исторического измерения. Это момент истории, где образ фиксируется.
Помнится, я однажды уже использовал сравнение с действием фильма, которое внезапно застывает за мгновение до того, как то, что разыскивается у матери, то есть фаллос, который она и имеет, и не имеет, вот-вот должен быть увиден как присутствие-отсутствия или отсутствие-присутствия. Припоминание истории останавливается и зависает в последний момент.
Я говорю о припоминании истории, поскольку у такого фундаментального термина фрейдовской феноменологии и концептуализации как покрывающее воспоминание (souvenir-écran) нет никакого другого смысла. Покрывающее воспоминание, Deckerinnerung, это не просто стоп-кадр, это прерывание истории, момент, в который она останавливается и застывает, продолжая одновременно стремиться к тому, что расположено по ту сторону завесы. Покрывающее воспоминание связано с историей всей цепочкой исторических событий, оно является остановкой этой цепи, и именно в этом смысле оно метонимично, поскольку история по своей природе длится. И в момент остановки цепь указывает на своё завуалированное продолжение, на своё отсутствующее продолжение, то есть на вытеснение, о котором, как уточняет Фрейд, и идёт здесь речь.
Мы говорим о вытеснении только потому, что существует символическая цепь. Если в качестве вытесняемого мы описываем воображаемый феномен, поскольку фетиш в некотором смысле является образом, и образом спроецированным, то лишь потому, что этот образ представляет собой пограничный пункт между длящейся историей и моментом, в котором она прерывается. Это знак, метка, пункт вытеснения.
Читая тексты Фрейда внимательно, вы увидите, что именно наш способ артикулировать вещи наделяет его выражения наиболее ясным смыслом.
Здесь мы снова видим различие между отношением к объекту любви и фрустрирующим отношением к объекту. Это два разных отношения. Любовь переносится на привязанное к иллюзорному объекту желание посредством метафоры, но конституируется этот объект не метафорически, а метонимически. Это пункт в исторической цепочке, тот пункт, где история останавливается. Это знак того, что именно здесь берёт начало конституируемое субъектом потустороннее. Почему? Почему именно в этом пункте субъекту приходится конституировать нечто по ту сторону? Почему человек ценит завесу более, чем реальность? Почему порядок этого иллюзорного отношения становится для него сущностной, необходимой составляющей связи с объектом? Таков вопрос, поднимаемый фетишизмом.
Прежде чем идти дальше, вы уже можете заметить, насколько всё проясняется, включая случай замечательного каламбура, который Фрейд предоставляет нам как первый эпизод анализа фетишизма. Один господин, который жил в детстве в Англии и стал фетишистом, приехав в Германию, всегда искал виденный им некогда небольшой блеск на носу, ein Glanz auf die Nase. Речь здесь идёт ни о чём ином, как о взгляде на нос, нос, который и сам по себе, конечно, является символом. Немецкое выражение воспроизводит звучание английского glance at the nose, взгляд на нос, услышанное нашим господином в раннем детстве. Здесь вы видите включение в игру и проекцию на определённую точку завесы исторической цепочки событий, которая может включить в себя даже целое предложение и, более того, забытое предложение на другом языке. Итак, каковы причины установления фетишистской структуры? Грамматисты по этому поводу ничего не могут сказать.
3
С некоторых пор авторы-психоаналитики находятся в затруднении. С одной стороны, мы не можем упускать из виду, что происхождение фетишизма непосредственным образом сопряжено с комплексом кастрации. С другой стороны, именно в доэдипальных отношениях, и нигде ещё, с наибольшей отчётливостью проявляется центральное положение элемента фаллической матери как главной первопричины. Как могут сочетаться эти два положения?
Авторы довольно легко с этим справились. Посмотрите только, какие способы упрощения, притом довольно посредственные, могут использовать представители английской школы благодаря системе Мелани Кляйн. Она структурирует первые этапы оральных тенденций, особенно в их самой агрессивный фазе, вводя присутствие отцовского пениса, который оказывается там путём ретроактивной проекции, то есть она ретро-активирует эдипов комплекс в первых отношениях с допускающими интроекцию объектами. Так мы получаем наиболее простой доступ к материалу, который позволяет проинтерпретировать, о чём идёт речь. Поскольку я ещё не представил всестороннего анализа системы Мелани Кляйн, оставим пока в стороне, что думает на этот счёт тот или иной автор. Чтобы держаться того, к чему мы пришли на сегодняшний день, оттолкнёмся от основополагающих отношений реального ребенка, символической матери и фаллоса, который является для неё воображаемым.
С этой схемой следует обращаться осторожно, поскольку она, будучи сфокусированной на одном плане, в то же время проявляет себя на других планах, которые вступают в действие на последующих этапах истории. На самом деле долгое время ребёнок не способен усвоить отношения воображаемой принадлежности, что приводит к глубокому расщеплению матери по отношению к нему. В этом году мы постараемся прояснить этот вопрос. Мы находимся на пути к тому, чтобы понять, каким образом и в какой момент это усваивается ребёнком, как это позволяет ребёнку войти в те отношения с символическим объектом, где именно фаллос является основной разменной монетой. Как нам на это указывает история психоанализа, здесь появляются вопросы времени, хронологии, порядка и преемственности, на которые мы стараемся ответить, рассматривая патологию.
Что показывают нам наблюдения? Их тщательное изучение обнаруживает феномены, которые заявляют о себе в связи с особым симптомом, который ставит субъекта в особые отношения с фетишем, изображённым на завесе завораживающим объектом, к которому тяготеет вся его эротическая жизнь. Я говорю о «тяготении», потому что субъект, конечно, сохраняет определённую степень подвижности, которую можно обнаружить, делая анализ, не ограничиваясь лишь описанием клинической картины. В одном наблюдении очень хорошо видны элементы, которые я вам уже сегодня представил, и на которые уже ранее указал Бинет - к примеру, покрывающее воспоминание (souvenir-écran), поразительный момент останавки взгляда на подоле платья матери или даже краю корсета, также он отмечает изначальную двойственность отношений субъекта с фетишем - иллюзорную, переживаемую таким образом и таким образом предпочитаемую связь - мы видим удовлетворяющую функцию объекта,
Итак, каковы причины установления фетишистской структуры? Грамматисты по этому поводу ничего не могут сказать.
3
С некоторых пор авторы-психоаналитики находятся в затруднении. С одной стороны, мы не можем упускать из виду, что происхождение фетишизма непосредственным образом сопряжено с комплексом кастрации. С другой стороны, именно в доэдипальных отношениях, и нигде ещё, с наибольшей отчётливостью проявляется центральное положение элемента фаллической матери как главной первопричины. Как могут сочетаться эти два положения?
Авторы довольно легко с этим справились. Посмотрите только, какие способы упрощения, притом довольно посредственные, могут использовать представители английской школы благодаря системе Мелани Кляйн. Она структурирует первые этапы оральных тенденций, особенно в их самой агрессивный фазе, вводя присутствие отцовского пениса, который оказывается там путём ретроактивной проекции, то есть она ретро-активирует эдипов комплекс в первых отношениях с допускающими интроекцию объектами. Так мы получаем наиболее простой доступ к материалу, который позволяет проинтерпретировать, о чём идёт речь. Поскольку я ещё не представил всестороннего анализа системы Мелани Кляйн, оставим пока в стороне, что думает на этот счёт тот или иной автор. Чтобы держаться того, к чему мы пришли на сегодняшний день, оттолкнёмся от основополагающих отношений реального ребенка, символической матери и фаллоса, который является для неё воображаемым.
С этой схемой следует обращаться осторожно, поскольку она, будучи сфокусированной на одном плане, в то же время проявляет себя на других планах, которые вступают в действие на последующих этапах истории. На самом деле долгое время ребёнок не способен усвоить отношения воображаемой принадлежности, что приводит к глубокому расщеплению матери по отношению к нему. В этом году мы постараемся прояснить этот вопрос. Мы находимся на пути к тому, чтобы понять, каким образом и в какой момент это усваивается ребёнком, как это позволяет ребёнку войти в те отношения с символическим объектом, где именно фаллос является основной разменной монетой. Как нам на это указывает история психоанализа, здесь появляются вопросы времени, хронологии, порядка и преемственности, на которые мы стараемся ответить, рассматривая патологию.
Что показывают нам наблюдения? Их тщательное изучение обнаруживает феномены, которые заявляют о себе в связи с особым симптомом, который ставит субъекта в особые отношения с фетишем, изображённым на завесе завораживающим объектом, к которому тяготеет вся его эротическая жизнь. Я говорю о «тяготении», потому что субъект, конечно, сохраняет определённую степень подвижности, которую можно обнаружить, делая анализ, не ограничиваясь лишь описанием клинической картины. В одном наблюдении очень хорошо видны элементы, которые я вам уже сегодня представил, и на которые уже ранее указал Бинет - к примеру, покрывающее воспоминание (souvenir-écran), поразительный момент останавки взгляда на подоле платья матери или даже краю корсета, также он отмечает изначальную двойственность отношений субъекта с фетишем - иллюзорную, переживаемую таким образом и таким образом предпочитаемую связь - мы видим удовлетворяющую функцию объекта, самого по себе инертного, полностью отданного на милость субъекта, поставленного на службу его эротических отношений. Всё это доступно для наблюдения, но необходимо это проанализировать, чтобы приблизиться к сути того, что происходит каждый раз, когда по какой-то причине применение фетиша слабеет, исчерпывается, изнашивается или просто ускользает.
Любовное поведение или, проще говоря, эротические отношения субъекта сводятся к защите. Вы можете в этом убедиться, прочитав в International Journal отчёты о наблюдениях Мадам Сильвии Пэйн, Месье Джиллеспи, Мадам Гринэкр, Месье Дагмора Хантера или другие работы, вышедшие в Psycho-Analytic Study of the Child. Это также было предугадано Фрейдом и нашло выражение в нашей схеме. Фрейд говорит нам, что фетишизм - это защита от гомосексуальности, и, как замечает Месье Гиллеспи, грань между ними чрезвычайно тонка. Короче говоря, в отношениях с любовным объектом, организующих у фетишиста этот цикл, мы обнаруживаем чередование идентификаций. Одна из них - идентификация с женщиной, столкнувшейся с разрушительным пенисом, с воображаемым фаллосом первичного опыта оральноанального периода, опыта, сконцентрированного на садистской теории коитуса; подтверждение ей можно обнаружить в большом количестве аналитических наблюдений, где первосцена воспринимается как жестокая, агрессивная, насильственная, даже смертоносная. Другая, обратная ей - идентификация с воображаемым фаллосом, в результате которой субъект становится для женщины чистым объектом, чем-то, что она может поглотить и даже полностью уничтожить.
Именно с таким колебанием между двумя полюсами первичных воображаемых отношений грубо сталкивается ребёнок в период, предваряющий появление отца как субъекта, устанавливающего эдипальный порядок и законность обладания. Это биполярное колебание между двумя несовместными объектами разными путями приводит к разрушительному или даже убийственному исходу. Именно это мы и находим в основе любовных отношений всякий раз, когда они появляются в жизни субъекта, стремясь приобрести определенные очертания и организацию. На определённом пути понимания психоанализа, который можно обозначить как современный и который недалёк в этом пункте от моего собственного, именно здесь аналитику следует вмешаться, чтобы помочь субъекту воспринять чередование своих позиций, а также их значение. Можно сказать, что он некоторым образом вводит символическую дистанцию, необходимую субъекту для обнаружения их смысла.
Материал наблюдений здесь чрезвычайно плодотворен и богат, мы можем увидеть, например, тысячи форм, которые на ранних стадиях жизни субъекта может принять фундаментальная неполнота, погружающая субъекта в воображаемые отношения либо путём идентификации с женщиной, либо ставя его на место воображаемого фаллоса; в любом случае субъект оказывается в условиях, где тройственные отношения символизированы не до конца. Очень часто авторы упоминают об отсутствии отца в истории субъекта, о недостаточном присутствии отца -он в путешествии, на войне и т.д.
Также бывает, что в фантазмах отчётливо воспроизводится другая позиция субъекта, позиция вынужденной неподвижности. Она может принять форму действительного связывания, пример чему можно найти в случае, описанном Сильвией Пейн, в котором, следуя экстравагантному медицинскому предписанию, ребёнку не давали ходить, и пока ему не исполнилось два года, он был привязан верёвками к своей
самого по себе инертного, полностью отданного на милость субъекта, поставленного на службу его эротических отношений. Всё это доступно для наблюдения, но необходимо это проанализировать, чтобы приблизиться к сути того, что происходит каждый раз, когда по какой-то причине применение фетиша слабеет, исчерпывается, изнашивается или просто ускользает.
Любовное поведение или, проще говоря, эротические отношения субъекта сводятся к защите. Вы можете в этом убедиться, прочитав в International Journal отчёты о наблюдениях Мадам Сильвии Пэйн, Месье Джиллеспи, Мадам Гринэкр, Месье Дагмора Хантера или другие работы, вышедшие в Psycho-Analytic Study of the Child. Это также было предугадано Фрейдом и нашло выражение в нашей схеме. Фрейд говорит нам, что фетишизм - это защита от гомосексуальности, и, как замечает Месье Гиллеспи, грань между ними чрезвычайно тонка. Короче говоря, в отношениях с любовным объектом, организующих у фетишиста этот цикл, мы обнаруживаем чередование идентификаций. Одна из них - идентификация с женщиной, столкнувшейся с разрушительным пенисом, с воображаемым фаллосом первичного опыта оральноанального периода, опыта, сконцентрированного на садистской теории коитуса; подтверждение ей можно обнаружить в большом количестве аналитических наблюдений, где первосцена воспринимается как жестокая, агрессивная, насильственная, даже смертоносная. Другая, обратная ей - идентификация с воображаемым фаллосом, в результате которой субъект становится для женщины чистым объектом, чем-то, что она может поглотить и даже полностью уничтожить.
Именно с таким колебанием между двумя полюсами первичных воображаемых отношений грубо сталкивается ребёнок в период, предваряющий появление отца как субъекта, устанавливающего эдипальный порядок и законность обладания. Это биполярное колебание между двумя несовместными объектами разными путями приводит к разрушительному или даже убийственному исходу. Именно это мы и находим в основе любовных отношений всякий раз, когда они появляются в жизни субъекта, стремясь приобрести определенные очертания и организацию. На определённом пути понимания психоанализа, который можно обозначить как современный и который недалёк в этом пункте от моего собственного, именно здесь аналитику следует вмешаться, чтобы помочь субъекту воспринять чередование своих позиций, а также их значение. Можно сказать, что он некоторым образом вводит символическую дистанцию, необходимую субъекту для обнаружения их смысла.
Материал наблюдений здесь чрезвычайно плодотворен и богат, мы можем увидеть, например, тысячи форм, которые на ранних стадиях жизни субъекта может принять фундаментальная неполнота, погружающая субъекта в воображаемые отношения либо путём идентификации с женщиной, либо ставя его на место воображаемого фаллоса; в любом случае субъект оказывается в условиях, где тройственные отношения символизированы не до конца. Очень часто авторы упоминают об отсутствии отца в истории субъекта, о недостаточном присутствии отца -он в путешествии, на войне и т.д.
Также бывает, что в фантазмах отчётливо воспроизводится другая позиция субъекта, позиция вынужденной неподвижности. Она может принять форму действительного связывания, пример чему можно найти в случае, описанном Сильвией Пейн, в котором, следуя экстравагантному медицинскому предписанию, ребёнку не давали ходить, и пока ему не исполнилось два года, он был привязан верёвками к своей кровати. И это не осталось без последствий. Тот факт, что он жил под тщательным присмотром в комнате своих родителей, ставит его в показательное для нас положение, где его отношения остаются чисто визуальными, без каких-либо шансов на двигательные реакции с его стороны. Как вы можете догадаться, его отношение к родителям было окрашено яростью и гневом. Пусть такие показательные случаи довольно редки, но определённые авторы настойчиво говорят о том, что, когда некоторые матери воздерживаются от близкого контакта со своим ребёнком, как если бы он был источником инфекции, эти страхи способствуют, безусловно, тому, что в организации первичных отношений с материнским объектом преимущество получает визуальное измерение.
Гораздо более поучительным, чем такой пример нарушенных первичных отношений, является патологическое проявление, которое предстает как обратная сторона или дополнение либидинального пристрастия к фетишу. Фетишизм - это нозологически широкий класс всевозможных феноменов, близость или родство которых к фетишизму поверяется лишь интуитивно.
Например, может показаться, что тот субъект, о котором нам говорит Мадам Пейн, с одинаковым успехом мог привязаться как к плащу, так и к ботинкам. Мы ошибаемся, если думаем, что оба варианта имеют одну природу. Структурно говоря, этот плащ предполагает отношения и указывает на несколько иное положение, нежели ботинки или корсет, которые сами по себе находятся непосредственно в позиции завесы между субъектом и объектом. Но это не относится к плащу или к любому другому фетишу в форме одежды, в которую каким-то образом можно завернуться. Здесь нужно отвести особую роль тому качеству, которое привносит каучук. Загадку этой очень часто встречаемой характеристики, без сомнения, следует прояснить психологически, а именно ощущениями, которые возникают при контакте с резиновой поверхностью. Возможно, это потому, что она больше, чем что-либо другое, напоминает кожу или обладает специальными изолирующими свойствами. Как бы то ни было, исходя из самой структуры взаимосвязей, которые обнаруживаются в тех пунктах наблюдения, где оно рассматривается аналитически, мы видим, что плащ играет роль, которая не совсем соответствует завесе. Это скорее нечто такое, позади чего субъект располагает себя сам. Он оказывается не перед завесой, но за ней, то есть на месте матери, придерживаясь позиции идентификации с матерью, где она испытывает потребность в защите, в данном случае с помощью того, во что можно завернуться.
Это нечто переходное между случаями фетишизма и случаями трансвестизма. Заворачивание принадлежит порядку защиты, но не завесы. Заворачиваясь, субъект ищет спасения под эгидой идентификации с женской фигурой.
Другими типичными проявлениями, порой весьма показательными, являются в некоторых случаях действительно реактивные взрывы эксгибиционизма, иногда даже в чередовании с фетишизмом. Это постоянно наблюдается в ситуации, когда субъект старается выйти из своего лабиринта по причине реального вмешательства, которое нарушает его равновесное положение и приводит к укреплению или опрокидыванию его позиции. Это хорошо отражено в схеме случая юной гомосексуальной пациентки Фрейда, где вмешательство отца, в качестве реального элемента, приводит к смене позиций, итогом чего становится перемещение того, что было по ту сторону, символического отца, в положение пункта воображаемых отношений, тогда как субъект принимает по отношению к отцу демонстративную гомосексуальную позицию.
кровати. И это не осталось без последствий. Тот факт, что он жил под тщательным присмотром в комнате своих родителей, ставит его в показательное для нас положение, где его отношения остаются чисто визуальными, без каких-либо шансов на двигательные реакции с его стороны. Как вы можете догадаться, его отношение к родителям было окрашено яростью и гневом. Пусть такие показательные случаи довольно редки, но определённые авторы настойчиво говорят о том, что, когда некоторые матери воздерживаются от близкого контакта со своим ребёнком, как если бы он был источником инфекции, эти страхи способствуют, безусловно, тому, что в организации первичных отношений с материнским объектом преимущество получает визуальное измерение.
Гораздо более поучительным, чем такой пример нарушенных первичных отношений, является патологическое проявление, которое предстает как обратная сторона или дополнение либидинального пристрастия к фетишу. Фетишизм - это нозологически широкий класс всевозможных феноменов, близость или родство которых к фетишизму поверяется лишь интуитивно.
Например, может показаться, что тот субъект, о котором нам говорит Мадам Пейн, с одинаковым успехом мог привязаться как к плащу, так и к ботинкам. Мы ошибаемся, если думаем, что оба варианта имеют одну природу. Структурно говоря, этот плащ предполагает отношения и указывает на несколько иное положение, нежели ботинки или корсет, которые сами по себе находятся непосредственно в позиции завесы между субъектом и объектом. Но это не относится к плащу или к любому другому фетишу в форме одежды, в которую каким-то образом можно завернуться. Здесь нужно отвести особую роль тому качеству, которое привносит каучук. Загадку этой очень часто встречаемой характеристики, без сомнения, следует прояснить психологически, а именно ощущениями, которые возникают при контакте с резиновой поверхностью. Возможно, это потому, что она больше, чем что-либо другое, напоминает кожу или обладает специальными изолирующими свойствами. Как бы то ни было, исходя из самой структуры взаимосвязей, которые обнаруживаются в тех пунктах наблюдения, где оно рассматривается аналитически, мы видим, что плащ играет роль, которая не совсем соответствует завесе. Это скорее нечто такое, позади чего субъект располагает себя сам. Он оказывается не перед завесой, но за ней, то есть на месте матери, придерживаясь позиции идентификации с матерью, где она испытывает потребность в защите, в данном случае с помощью того, во что можно завернуться.
Это нечто переходное между случаями фетишизма и случаями трансвестизма. Заворачивание принадлежит порядку защиты, но не завесы. Заворачиваясь, субъект ищет спасения под эгидой идентификации с женской фигурой.
Другими типичными проявлениями, порой весьма показательными, являются в некоторых случаях действительно реактивные взрывы эксгибиционизма, иногда даже в чередовании с фетишизмом. Это постоянно наблюдается в ситуации, когда субъект старается выйти из своего лабиринта по причине реального вмешательства, которое нарушает его равновесное положение и приводит к укреплению или опрокидыванию его позиции. Это хорошо отражено в схеме случая юной гомосексуальной пациентки Фрейда, где вмешательство отца, в качестве реального элемента, приводит к смене позиций, итогом чего становится перемещение того, что было по ту сторону, символического отца, в положение пункта воображаемых отношений, тогда как субъект принимает по отношению к отцу демонстративную гомосексуальную позицию. Мы также располагаем прекрасными наблюдениями, где субъект, пытаясь достичь полноценных отношений в условиях искусственной реализации и преодоления реального, выражает то, что неявно присутствовало в ситуации на символическом уровне, путем acting-out, то есть отреагирования в плане воображаемого.
У нас есть пример субъекта, который впервые пытается установить реальные отношения с женщиной именно с тем намерением, чтобы показать, что он на это способен. Благодаря содействию женщины это ему более-менее удаётся, но после встречи, хотя до настоящего момента ничего не предвещало появления у него таких симптомов, он осуществляет очень своеобразный и хорошо продуманный эксгибиционистский акт, который заключается в том, что он демонстрирует свой половой орган проходящему мимо международному поезду так, что никто не смог бы поймать его за руку. Таким образом субъект даёт выход тому, что имплицитно соответствует его положению. Его эксгибиционизм представляет из себя только выражение или проекцию на воображаемый план тех символических коннотаций, в которых он сам себе не отдаёт целиком отчёта, то есть его акт в конечном итоге был прямой попыткой просто показать - показать, что он, как и другие, способен вступить в нормальные отношения.
Мы встречаем множество проявлений такого рода реакционного эксгибиционизма в случаях очень близких к фетишизму или даже и являющихся, собственно говоря, фетишизмом. Иногда мы хорошо понимаем, что речь идёт об актах поведения с отклонениями, которые эквивалентны фетишизму. Мелита Шмидеберг представляет, например, одного мужчину, женившегося на женщине, которая была почти в два раза старше, чем он. И он превратился в жертву, настоящего мальчика для битья. В один прекрасный день этот мужчина, который старался сохранить хорошую мину в этой ужасной для него игре, поставлен в известность, что станет отцом. Он спешно направляется в городской парк и показывает свой орган компании молодых девушек.
Мадам Шмидеберг, слишком безоглядно следующая, судя про всему, Анне Фрейд, находит здесь всевозможные параллели с тем фактом, что отец мальчика тоже был жертвой своей жены, но сумел найти решение, будучи однажды застигнутым со служанкой, и это из-за взыгравшей ревности немного повлияло на его супругу. Но это ничего не объясняет. Мадам Шмидеберг не хочет замечать главного. Она полагает, что произвела анализ перверсии в рамках short analysis. И нет ничего удивительного в том, что это никакая не перверсия, и никакого анализа она тоже не сделала. Она упускает главное, оставляя в стороне тот факт, что субъект воспользовался возможностью эксгибиционистского акта, чтобы проявить себя. И нет другого способа объяснить этот акт демонстрации, кроме как обратиться к тому механизму внезапного пуска, с помощью которого то, что в реальном избыточно, что символизации не поддаётся, приводит к резкому обнаружению того, что лежит в основе символических отношений -эквивалентности ребёнка фаллосу.
В отсутствие какой-либо возможности допустить и даже предположить собственное отцовство, этот отважный человек отправился в подходящее место, чтобы предъявить эквивалент ребёнка, то, на что его фаллос ещё мог сгодиться.
30 января 1957
Мы также располагаем прекрасными наблюдениями, где субъект, пытаясь достичь полноценных отношений в условиях искусственной реализации и преодоления реального, выражает то, что неявно присутствовало в ситуации на символическом уровне, путем acting-out, то есть отреагирования в плане воображаемого.
У нас есть пример субъекта, который впервые пытается установить реальные отношения с женщиной именно с тем намерением, чтобы показать, что он на это способен. Благодаря содействию женщины это ему более-менее удаётся, но после встречи, хотя до настоящего момента ничего не предвещало появления у него таких симптомов, он осуществляет очень своеобразный и хорошо продуманный эксгибиционистский акт, который заключается в том, что он демонстрирует свой половой орган проходящему мимо международному поезду так, что никто не смог бы поймать его за руку. Таким образом субъект даёт выход тому, что имплицитно соответствует его положению. Его эксгибиционизм представляет из себя только выражение или проекцию на воображаемый план тех символических коннотаций, в которых он сам себе не отдаёт целиком отчёта, то есть его акт в конечном итоге был прямой попыткой просто показать - показать, что он, как и другие, способен вступить в нормальные отношения.
Мы встречаем множество проявлений такого рода реакционного эксгибиционизма в случаях очень близких к фетишизму или даже и являющихся, собственно говоря, фетишизмом. Иногда мы хорошо понимаем, что речь идёт об актах поведения с отклонениями, которые эквивалентны фетишизму. Мелита Шмидеберг представляет, например, одного мужчину, женившегося на женщине, которая была почти в два раза старше, чем он. И он превратился в жертву, настоящего мальчика для битья. В один прекрасный день этот мужчина, который старался сохранить хорошую мину в этой ужасной для него игре, поставлен в известность, что станет отцом. Он спешно направляется в городской парк и показывает свой орган компании молодых девушек.
Мадам Шмидеберг, слишком безоглядно следующая, судя про всему, Анне Фрейд, находит здесь всевозможные параллели с тем фактом, что отец мальчика тоже был жертвой своей жены, но сумел найти решение, будучи однажды застигнутым со служанкой, и это из-за взыгравшей ревности немного повлияло на его супругу. Но это ничего не объясняет. Мадам Шмидеберг не хочет замечать главного. Она полагает, что произвела анализ перверсии в рамках short analysis. И нет ничего удивительного в том, что это никакая не перверсия, и никакого анализа она тоже не сделала. Она упускает главное, оставляя в стороне тот факт, что субъект воспользовался возможностью эксгибиционистского акта, чтобы проявить себя. И нет другого способа объяснить этот акт демонстрации, кроме как обратиться к тому механизму внезапного пуска, с помощью которого то, что в реальном избыточно, что символизации не поддаётся, приводит к резкому обнаружению того, что лежит в основе символических отношений -эквивалентности ребёнка фаллосу.
В отсутствие какой-либо возможности допустить и даже предположить собственное отцовство, этот отважный человек отправился в подходящее место, чтобы предъявить эквивалент ребёнка, то, на что его фаллос ещё мог сгодиться.
30 января 1957
 При трансвестизме субъект идентифицирует себя с тем, что находится по ту сторону покрова, с тем объектом, которому чего-то не достаёт. Авторы это хорошо видят в анализе и в своих терминах рассуждают следующим образом: трансвестит идентифицирует себя с фаллической матерью, поскольку она скрывает нехватку фаллоса.
Такой трансвестизм сподвигает нас зайти очень далеко в этом вопросе. Нам не нужно было дожидаться Фрейда, чтобы приблизиться к пониманию психологии одежды. Любое использование одежды каким-то образом причастно функции трансвестизма. И даже если непосредственное, распространённое, общепринятое понимание и состоит в том, что одежда нужна чтобы скрывать pudenda, то с точки зрения аналитика вопрос должен несколько усложниться. Было бы неплохо, чтобы хоть кто-нибудь из числа авторов, говорящих о фаллической матери, попробовал иногда понять смысл того, что они говорят. Одежда нужна не только для того, чтобы скрыть нечто такое, чем можно обладать в смысле «иметь» или «не иметь», но и для того, чтобы скрыть то, чего нет. Обе функции сущностно необходимы. Дело не в том, чтобы всегда и непременно скрыть объект, но также в том, чтобы скрыть нехватку объекта. В случае простого применения воображаемой диалектики об этом слишком часто забывают, то есть упускают из виду вопрос присутствия и функции нехватки объекта.
И наоборот, широко пользуясь понятием скопофилических отношений, почему-то считают само собой разумеющимся, что факт демонстрации себя, «показа себя», очень прост, что он коррелируется с активностью разглядывания, с «видеть» вуайеризма. Здесь также упускается из виду целое измерение.
Неправда, что субъект всегда и при любой возможности показывает себя из-за того, что это соотносится с противоположным полюсом, с активным разглядыванием. Речь не идёт о простом включении субъекта в пару визуальной захваченности. В скопофилии есть дополнительное измерение включённости, которое выражается в языке с помощью глагола в возвратной форме, в том, что называется средним залогом. Здесь это будет «сделать себя разглядываемым» (сделаться разглядываемым). Комбинируя два эти измерения друг с другом, мы можем сказать, что в активности, которую ошибочно принимают за отношения вуайеризма-эксгибиционизма, то, что субъект даёт увидеть, показывая себя, отличается от того, что он показывает. Было бы ошибкой утопить всё это в широком смысле так называемого скопофилического отношения.
Такие авторы, как Фенихель, которые при своей видимой ясности являются очень плохими теоретиками, но не лишены при этом аналитического опыта, были очень хорошо об этом осведомлены. В то время как усилия по выстраиванию теории в таких статьях приводят к безнадёжному провалу, иногда в них можно встретить прекрасные клинические наблюдения. Благодаря таланту аналитика, который он, к счастью, применяет в своей практике, он чувствует или, скорее, предчувствует целый ряд фактов, группирует их вокруг выбранной темы или ветви аналитической артикуляции фундаментальных воображаемых отношений. Автор группирует вокруг скопофилии и трансвестизма факты, которые феноменологи отличают друг от друга, смутно ощущая их родство и общность.
Именно поэтому, разбираясь со всей этой обширной и бестолковой литературой, необходимой мне для того, чтобы понимать, до какой степени аналитики проникли в реальное изложение подобных фактов, я недавно заинтересовался статьёй Фенихеля,
При трансвестизме субъект идентифицирует себя с тем, что находится по ту сторону покрова, с тем объектом, которому чего-то не достаёт. Авторы это хорошо видят в анализе и в своих терминах рассуждают следующим образом: трансвестит идентифицирует себя с фаллической матерью, поскольку она скрывает нехватку фаллоса.
Такой трансвестизм сподвигает нас зайти очень далеко в этом вопросе. Нам не нужно было дожидаться Фрейда, чтобы приблизиться к пониманию психологии одежды. Любое использование одежды каким-то образом причастно функции трансвестизма. И даже если непосредственное, распространённое, общепринятое понимание и состоит в том, что одежда нужна чтобы скрывать pudenda, то с точки зрения аналитика вопрос должен несколько усложниться. Было бы неплохо, чтобы хоть кто-нибудь из числа авторов, говорящих о фаллической матери, попробовал иногда понять смысл того, что они говорят. Одежда нужна не только для того, чтобы скрыть нечто такое, чем можно обладать в смысле «иметь» или «не иметь», но и для того, чтобы скрыть то, чего нет. Обе функции сущностно необходимы. Дело не в том, чтобы всегда и непременно скрыть объект, но также в том, чтобы скрыть нехватку объекта. В случае простого применения воображаемой диалектики об этом слишком часто забывают, то есть упускают из виду вопрос присутствия и функции нехватки объекта.
И наоборот, широко пользуясь понятием скопофилических отношений, почему-то считают само собой разумеющимся, что факт демонстрации себя, «показа себя», очень прост, что он коррелируется с активностью разглядывания, с «видеть» вуайеризма. Здесь также упускается из виду целое измерение.
Неправда, что субъект всегда и при любой возможности показывает себя из-за того, что это соотносится с противоположным полюсом, с активным разглядыванием. Речь не идёт о простом включении субъекта в пару визуальной захваченности. В скопофилии есть дополнительное измерение включённости, которое выражается в языке с помощью глагола в возвратной форме, в том, что называется средним залогом. Здесь это будет «сделать себя разглядываемым» (сделаться разглядываемым). Комбинируя два эти измерения друг с другом, мы можем сказать, что в активности, которую ошибочно принимают за отношения вуайеризма-эксгибиционизма, то, что субъект даёт увидеть, показывая себя, отличается от того, что он показывает. Было бы ошибкой утопить всё это в широком смысле так называемого скопофилического отношения.
Такие авторы, как Фенихель, которые при своей видимой ясности являются очень плохими теоретиками, но не лишены при этом аналитического опыта, были очень хорошо об этом осведомлены. В то время как усилия по выстраиванию теории в таких статьях приводят к безнадёжному провалу, иногда в них можно встретить прекрасные клинические наблюдения. Благодаря таланту аналитика, который он, к счастью, применяет в своей практике, он чувствует или, скорее, предчувствует целый ряд фактов, группирует их вокруг выбранной темы или ветви аналитической артикуляции фундаментальных воображаемых отношений. Автор группирует вокруг скопофилии и трансвестизма факты, которые феноменологи отличают друг от друга, смутно ощущая их родство и общность.
Именно поэтому, разбираясь со всей этой обширной и бестолковой литературой, необходимой мне для того, чтобы понимать, до какой степени аналитики проникли в реальное изложение подобных фактов, я недавно заинтересовался статьёй Фенихеля, опубликованной в Psychoanalytic Quarterly, выпуск XVIII, №3 1949 года, о том, что он называет уравнением Girl = Fallus, которое, как он сам замечает, не обходится без связи с известной серией уравнений фекалии = ребёнок = пенис. Хотя здесь и бросается в глаза отсутствие чёткой ориентации, заставляющее нас искать логику, которая была бы лишена этого недостатка, но из фактов анализа, сгруппированных автором, очевидно, что ребёнок может рассматриваться как эквивалентый, равный в бессознательном субъекта, особенно женского пола, фаллосу. В этом узловом пункте всё связано с тем фактом, что ребёнок предоставляется матери в качестве заменителя или даже эквивалента фаллоса.
Но, с другой стороны, есть большое количество других фактов, и то, что все они были подвёрстаны в одну категорию, довольно удивительно. Когда я говорил о ребёнке, речь шла не только о девочке, тогда как эта статья определённо только о девочке. Автор исходит из хорошо известных черт фетишистской или квазифетишистской специфики, говорящих о том, что девочка может быть проинтерпретирована как эквивалент фаллоса субъекта. Аналитические данные также указывают на то, что девушка, как и ребёнок в более общем плане, может представлять себя саму в качестве эквивалента фаллоса, проявлять это в своём поведении и рассматривать в сексуальных отношениях необходимость преподнести партнёру мужского пола его фаллос. Иногда это проявляется в особенных деталях её любовной позиции, когда она как бы приклеивается, свернувшись калачиком, примкнув к телу своего партнера как некоторая его часть. Такого рода факты не могут не поразить нас и не привлечь нашего внимания. В других случаях бывает, что субъект мужского пола отдаёт себя самого женщине как то, чего ей не хватает - преподносит фаллос той, кому его недостаёт, образно говоря.
Именно на всё это, кажется, указывают все представленные здесь факты. Но мы также можем увидеть, что, собрав их вместе в одном уравнении, мы объединили факты совершенно разных порядков. Поскольку в четырех порядках отношений, которые я только что описал, субъект абсолютно по-разному связан с объектом в зависимости от того, приносит ли он его, даёт ли он его, желает ли он его или же пытается его заменить. Как только мы обратим внимание на эти регистры, мы не можем не заметить, что приравнивание этих фактов друг к другу покидает рамки простого теоретического требования. То, что маленькая девочка часто становится персонажем определённого типа сюжетов, указывает на мифическую, так сказать, функцию, которая обнаруживается как в перверсивных миражах, так и в целом ряде литературных произведений, которые мы можем сгруппировать под рубриками более или менее известных в литературе авторов.
Были такие, кого заинтересовал тип Миньоны. Вы все знаете это творение Гёте. Миньона - цыганка, её бисексуальная позиция подчёркнута самим автором. Она живёт с огромным и жестоким покровителем, с этаким явленным сверхотцом, которого зовут Harfner. В общем-то, она работает у него в качестве старшей служанки, но в то же время он в ней очень нуждается. В одном месте Гёте говорит об этой паре: «Харфнер, который ей нужен более всего, и Миньона, без которой он ни на что не способен». Здесь мы встречаем пару воплощённого могущества в его массивном, брутальном качестве, с одной стороны, и, с другой стороны, того, без чего оно лишено своей действенности, того, чего самому могуществу не достаёт, и в чём в конечном итоге и заключается секрет истинного могущества. И это не что иное, как нехватка.
опубликованной в Psychoanalytic Quarterly, выпуск XVIII, №3 1949 года, о том, что он называет уравнением Girl = Fallus, которое, как он сам замечает, не обходится без связи с известной серией уравнений фекалии = ребёнок = пенис. Хотя здесь и бросается в глаза отсутствие чёткой ориентации, заставляющее нас искать логику, которая была бы лишена этого недостатка, но из фактов анализа, сгруппированных автором, очевидно, что ребёнок может рассматриваться как эквивалентый, равный в бессознательном субъекта, особенно женского пола, фаллосу. В этом узловом пункте всё связано с тем фактом, что ребёнок предоставляется матери в качестве заменителя или даже эквивалента фаллоса.
Но, с другой стороны, есть большое количество других фактов, и то, что все они были подвёрстаны в одну категорию, довольно удивительно. Когда я говорил о ребёнке, речь шла не только о девочке, тогда как эта статья определённо только о девочке. Автор исходит из хорошо известных черт фетишистской или квазифетишистской специфики, говорящих о том, что девочка может быть проинтерпретирована как эквивалент фаллоса субъекта. Аналитические данные также указывают на то, что девушка, как и ребёнок в более общем плане, может представлять себя саму в качестве эквивалента фаллоса, проявлять это в своём поведении и рассматривать в сексуальных отношениях необходимость преподнести партнёру мужского пола его фаллос. Иногда это проявляется в особенных деталях её любовной позиции, когда она как бы приклеивается, свернувшись калачиком, примкнув к телу своего партнера как некоторая его часть. Такого рода факты не могут не поразить нас и не привлечь нашего внимания. В других случаях бывает, что субъект мужского пола отдаёт себя самого женщине как то, чего ей не хватает - преподносит фаллос той, кому его недостаёт, образно говоря.
Именно на всё это, кажется, указывают все представленные здесь факты. Но мы также можем увидеть, что, собрав их вместе в одном уравнении, мы объединили факты совершенно разных порядков. Поскольку в четырех порядках отношений, которые я только что описал, субъект абсолютно по-разному связан с объектом в зависимости от того, приносит ли он его, даёт ли он его, желает ли он его или же пытается его заменить. Как только мы обратим внимание на эти регистры, мы не можем не заметить, что приравнивание этих фактов друг к другу покидает рамки простого теоретического требования. То, что маленькая девочка часто становится персонажем определённого типа сюжетов, указывает на мифическую, так сказать, функцию, которая обнаруживается как в перверсивных миражах, так и в целом ряде литературных произведений, которые мы можем сгруппировать под рубриками более или менее известных в литературе авторов.
Были такие, кого заинтересовал тип Миньоны. Вы все знаете это творение Гёте. Миньона - цыганка, её бисексуальная позиция подчёркнута самим автором. Она живёт с огромным и жестоким покровителем, с этаким явленным сверхотцом, которого зовут Harfner. В общем-то, она работает у него в качестве старшей служанки, но в то же время он в ней очень нуждается. В одном месте Гёте говорит об этой паре: «Харфнер, который ей нужен более всего, и Миньона, без которой он ни на что не способен». Здесь мы встречаем пару воплощённого могущества в его массивном, брутальном качестве, с одной стороны, и, с другой стороны, того, без чего оно лишено своей действенности, того, чего самому могуществу не достаёт, и в чём в конечном итоге и заключается секрет истинного могущества. И это не что иное, как нехватка. Вот где лежат истоки той самой знаменитой магии, которая с таким смущением приписывается в аналитической теории идее всемогущества. Как я уже говорил, структуру всемогущества, в противоположность общепринятым представлениям, следует искать не в субъекте, а в матери, то есть в первичном Другом. Именно этот первичный Другой всемогущ. Но за этим всемогуществом существует нехватка, на которой зиждется его могущество. Как только субъект обнаруживает в объекте предположительного всемогущества эту нехватку, которая делает его немощным, главный источник всемогущества обнаруживается по ту сторону, а именно там, где нечто не существует в наибольшей степени. В объекте это представляет собой не что иное, как символизацию нехватки, эфемерности, ничтожности. Именно здесь субъект сталкивается с тайной и с истинным источником всемогущества. Именно это и заинтересовало нас сегодня в Миньоне - типе, многократно воспроизведённом в литературе.
Три года назад я собирался прочитать лекцию о Дьяволе в любви Казота. Мало существует примеров настолько показательного, глубочайшего видения динамики воображаемого в том виде, в котором я стараюсь представлять её вам, в особенности сегодня. Я вспомнил о нём, потому что это лучшая иллюстрация того, о чём идёт речь -иллюстрация, подчёркивающая смысл этого магического существа по другую сторону объекта, к которому может присоединяться целая серия идеализирующих фантазий.
История начинается в Неаполе, в пещере, где автор очутился, чтобы вызвать дьявола, который после соблюдения необходимых формальностей не заставляет себя долго ждать и появляется в форме отвратительной верблюжьей головы, предусмотрительно оснащённой большими ушами, и спрашивает у автора утробным голосом: «Чего желаешь?» («Che vuoi?» ит.).
Это фундаментальное вопрошание в наиболее точной форме предоставляет нам иллюстрацию функции Сверх-Я. Но интересно другое. Это самое существо сразу же после заключения договора сначала превращается в собачонку, потом, что никого не удивляет, превращается в восхитительного юношу и, наконец, в прекрасную девушку, причём эти последние не перестают до самого конца двусмысленно чередоваться друг с другом. Так появляется возлюбленная рассказчика по имени Бьондетта, которая на некоторое время становится для него удивительным источником всех благ, исполняет все его желания, обеспечивает поистине волшебное удовлетворение всем тем, чего он только может пожелать. Всё это, однако, погружено в атмосферу фантазии, опасной ирреальности, постоянной угрозы, которая не перестаёт о себе повсеместно напоминать. В конце концов ситуация разрешается внезапной остановкой этой всё более ускоряющейся и безумной гонки - как и полагается, мираж рассеивается в тот момент, когда субъект возвращается в замок своей матери.
В другом романе, Фраголетте Латуша, представлен любопытный персонаж -явный трансвестит, поскольку до конца так ничего и не проясняется, по крайней мере для читателя, то ли это юноша, то ли девушка. Речь идёт о девушке, которая мальчик и которая играет роль, аналогичную той, которую я только что описал как тип Миньоны, но с некоторыми другими деталями и подробностями сюжета. Всё заканчивается дуэлью, на которой главный герой романа, не узнав Фраголетту, представившуюся на тот момент юношей, убивает её. Что хорошо демонстрирует равенство одного женского объекта Verliebtheit другому - сопернику. Об этом же другом идёт речь, когда Гамлет убивает брата Офелии.
Вот где лежат истоки той самой знаменитой магии, которая с таким смущением приписывается в аналитической теории идее всемогущества. Как я уже говорил, структуру всемогущества, в противоположность общепринятым представлениям, следует искать не в субъекте, а в матери, то есть в первичном Другом. Именно этот первичный Другой всемогущ. Но за этим всемогуществом существует нехватка, на которой зиждется его могущество. Как только субъект обнаруживает в объекте предположительного всемогущества эту нехватку, которая делает его немощным, главный источник всемогущества обнаруживается по ту сторону, а именно там, где нечто не существует в наибольшей степени. В объекте это представляет собой не что иное, как символизацию нехватки, эфемерности, ничтожности. Именно здесь субъект сталкивается с тайной и с истинным источником всемогущества. Именно это и заинтересовало нас сегодня в Миньоне - типе, многократно воспроизведённом в литературе.
Три года назад я собирался прочитать лекцию о Дьяволе в любви Казота. Мало существует примеров настолько показательного, глубочайшего видения динамики воображаемого в том виде, в котором я стараюсь представлять её вам, в особенности сегодня. Я вспомнил о нём, потому что это лучшая иллюстрация того, о чём идёт речь -иллюстрация, подчёркивающая смысл этого магического существа по другую сторону объекта, к которому может присоединяться целая серия идеализирующих фантазий.
История начинается в Неаполе, в пещере, где автор очутился, чтобы вызвать дьявола, который после соблюдения необходимых формальностей не заставляет себя долго ждать и появляется в форме отвратительной верблюжьей головы, предусмотрительно оснащённой большими ушами, и спрашивает у автора утробным голосом: «Чего желаешь?» («Che vuoi?» ит.).
Это фундаментальное вопрошание в наиболее точной форме предоставляет нам иллюстрацию функции Сверх-Я. Но интересно другое. Это самое существо сразу же после заключения договора сначала превращается в собачонку, потом, что никого не удивляет, превращается в восхитительного юношу и, наконец, в прекрасную девушку, причём эти последние не перестают до самого конца двусмысленно чередоваться друг с другом. Так появляется возлюбленная рассказчика по имени Бьондетта, которая на некоторое время становится для него удивительным источником всех благ, исполняет все его желания, обеспечивает поистине волшебное удовлетворение всем тем, чего он только может пожелать. Всё это, однако, погружено в атмосферу фантазии, опасной ирреальности, постоянной угрозы, которая не перестаёт о себе повсеместно напоминать. В конце концов ситуация разрешается внезапной остановкой этой всё более ускоряющейся и безумной гонки - как и полагается, мираж рассеивается в тот момент, когда субъект возвращается в замок своей матери.
В другом романе, Фраголетте Латуша, представлен любопытный персонаж -явный трансвестит, поскольку до конца так ничего и не проясняется, по крайней мере для читателя, то ли это юноша, то ли девушка. Речь идёт о девушке, которая мальчик и которая играет роль, аналогичную той, которую я только что описал как тип Миньоны, но с некоторыми другими деталями и подробностями сюжета. Всё заканчивается дуэлью, на которой главный герой романа, не узнав Фраголетту, представившуюся на тот момент юношей, убивает её. Что хорошо демонстрирует равенство одного женского объекта Verliebtheit другому - сопернику. Об этом же другом идёт речь, когда Гамлет убивает брата Офелии. Таким образом, мы встречаем в произведениях персонаж-фетиш или фею - оба эти слова связаны со словом factiso на португальском, поскольку исторически именно оттуда пришло слово «фетиш», и это не что иное, как французское fact^e (фальшивка). Это двусмысленное женское существо воплощает определённым образом по другую сторону матери недостающий ей фаллос и воплощает тем лучше, что не обладает им, а само как целое становится его репрезентацией, Vorstellung. Здесь мы находим ещё одну функцию, проясняющую те влюблённости, которые могут возникнуть на перверсивных путях желания. Они могут оказаться для нас полезными и пролить свет на различия, которые стоит иметь в виду, когда мы это желание анализируем.
Вот мы и пришли, наконец, к вопросу о том, что нашим критическим подходом постоянно подразумевается и затрагивается - к понятию идентификации.
2
Понятие идентификации появляется в работах Фрейда с самого начала латентно, далее возникает постоянно и вновь исчезает. Предпосылки к его появлению есть уже в Толковании сновидений. Своё главное объяснение в наиболее полной форме оно получает в VII части работы Массовая психология и анализ я, целиком посвящённой идентификации.
Этот раздел текста предназначен для того, чтобы показать нам, как это часто бывает у Фрейда, в чём и заключается ценность его работ, величайшее недоумение автора. Фрейд признаёт своё замешательство и даже бессилие выйти из дилеммы, возникающей из-за постоянной неопределённости между двумя предложенными им терминами, а именно идентификацией и выбором объекта. Во многих случаях при своём появлении два эти термина замещают друг друга в режиме сбивающей с толку метаморфозы таким образом, что сам переход не улавливается. Однако при этом существует очевидная необходимость их между собой различать, поскольку, как говорит Фрейд, быть на стороне объекта или на стороне субъекта - это не одно и то же. Объект, ставший объектом выбора, - это не то же самое, что объект, который стал поддержкой для идентификации субъекта.
Этот факт сам по себе весьма поучителен. И не менее поучительным является наблюдать эту обескураживающую лёгкость, с которой многие, не задаваясь лишними вопросами, кажется, этого не замечают и продолжают использовать строгое равенство одного другому как в теории, так и на практике. Когда вопросы всё-таки возникают, появляются такие статьи как Два вида механизмов идентификации Густава Ганса Грабера, опубликованная в Imago в 1937 году, и это нечто невероятное и поразительное, поскольку, похоже, что для него весь вопрос решается различием активной идентификации и пассивной идентификации. Если присмотреться к этому повнимательнее, то невозможно не заметить, - к тому же он сам это признает - что оба полюса, активный и пассивный, представлены в любого рода идентификации, так что следует вернуться к Фрейду и заново проследить пункт за пунктом, каким образом он сам формулирует вопрос.
VIII часть работы Массовая психология и анализ Я следует после раздела об идентификации и начинается с фразы, которая даёт нам глоток свежего воздуха в атмосфере того, что мы привыкли обычно читать: «Даже в своих причудах язык всегда остается верным некоторой реальности».
Таким образом, мы встречаем в произведениях персонаж-фетиш или фею - оба эти слова связаны со словом factiso на португальском, поскольку исторически именно оттуда пришло слово «фетиш», и это не что иное, как французское fact^e (фальшивка). Это двусмысленное женское существо воплощает определённым образом по другую сторону матери недостающий ей фаллос и воплощает тем лучше, что не обладает им, а само как целое становится его репрезентацией, Vorstellung. Здесь мы находим ещё одну функцию, проясняющую те влюблённости, которые могут возникнуть на перверсивных путях желания. Они могут оказаться для нас полезными и пролить свет на различия, которые стоит иметь в виду, когда мы это желание анализируем.
Вот мы и пришли, наконец, к вопросу о том, что нашим критическим подходом постоянно подразумевается и затрагивается - к понятию идентификации.
2
Понятие идентификации появляется в работах Фрейда с самого начала латентно, далее возникает постоянно и вновь исчезает. Предпосылки к его появлению есть уже в Толковании сновидений. Своё главное объяснение в наиболее полной форме оно получает в VII части работы Массовая психология и анализ я, целиком посвящённой идентификации.
Этот раздел текста предназначен для того, чтобы показать нам, как это часто бывает у Фрейда, в чём и заключается ценность его работ, величайшее недоумение автора. Фрейд признаёт своё замешательство и даже бессилие выйти из дилеммы, возникающей из-за постоянной неопределённости между двумя предложенными им терминами, а именно идентификацией и выбором объекта. Во многих случаях при своём появлении два эти термина замещают друг друга в режиме сбивающей с толку метаморфозы таким образом, что сам переход не улавливается. Однако при этом существует очевидная необходимость их между собой различать, поскольку, как говорит Фрейд, быть на стороне объекта или на стороне субъекта - это не одно и то же. Объект, ставший объектом выбора, - это не то же самое, что объект, который стал поддержкой для идентификации субъекта.
Этот факт сам по себе весьма поучителен. И не менее поучительным является наблюдать эту обескураживающую лёгкость, с которой многие, не задаваясь лишними вопросами, кажется, этого не замечают и продолжают использовать строгое равенство одного другому как в теории, так и на практике. Когда вопросы всё-таки возникают, появляются такие статьи как Два вида механизмов идентификации Густава Ганса Грабера, опубликованная в Imago в 1937 году, и это нечто невероятное и поразительное, поскольку, похоже, что для него весь вопрос решается различием активной идентификации и пассивной идентификации. Если присмотреться к этому повнимательнее, то невозможно не заметить, - к тому же он сам это признает - что оба полюса, активный и пассивный, представлены в любого рода идентификации, так что следует вернуться к Фрейду и заново проследить пункт за пунктом, каким образом он сам формулирует вопрос.
VIII часть работы Массовая психология и анализ Я следует после раздела об идентификации и начинается с фразы, которая даёт нам глоток свежего воздуха в атмосфере того, что мы привыкли обычно читать: «Даже в своих причудах язык всегда остается верным некоторой реальности». Я хотел бы напомнить, что в предыдущей главе Фрейд подходит к вопросу идентификации, начиная с разговора об идентификации с отцом. Во втором абзаце нас ожидает пример плохого французского перевода текста Фрейда. В немецком тексте мы читаем: «Одновременно с идентификацией с отцом, а бывает и чуть раньше (что переведено на французский как чуть позже) маленький мальчик начинает направлять свои либидинальные желания на свою мать», - исходя из этой версии перевода можно задаться вопросом о том случае, когда идентификация с отцом не является предваряющей.
Ещё один пример этому мы найдём в отрывке, который я подготовил для вас сегодня, чтобы в наиболее концентрированной и явной форме показать недоразумения Фрейда. Речь идёт о состоянии влюблённости в его отношении с идентификацией. Следуя тексту Фрейда, идентификация является первичной, основополагающей функцией, поскольку предусматривает выбор объекта. Но выбор этот таков, что артикуляция его сама по себе оказывается проблематичной. Следуя смыслу, отлично артикулированному здесь Фрейдом, как можно плотнее, скажем, что этот объект является своего рода другим Я в составе субъекта. Таким образом, речь идёт о том, чтобы обозначить разницу между идентификацией и влюблённостью, Verliebtheit, в её наиболее высоких проявлениях, наиболее полных, известных как зачарованность, пленение, Hörigkeit (закабаление), которые несложно описать. Во французском переводе читаем: «В первом случае Я обогащается качествами объекта, ассимилирует его ...». Вообще говоря, нужно просто прочитать, вслед за Ференци, интроецирует. Это вопрос взаимосвязи интроекции с идентификацией.
«Во втором случае оно обездоливает себя, полностью отдаваясь объекту, умаляя себя перед ним ...», - в переводе на французский. Это совсем не то, что говорит Фрейд: «объект заступает на место его важнейшей составной части». Эта фраза начисто отсутствует в предложении, вместо неё появляется «умаляя себя перед ним».
Фрейд останавливается здесь на противопоставлении между тем, что, с одной стороны, субъект интроецирует и чем он обогащается, и тем, что, с другой стороны, отнимает у него что-то и обездоливает. На самом деле незадолго до этого Фрейд подробно останавливается на том, что происходит в состоянии влюблённости, когда субъект всё больше и больше растрачивает всего себя в пользу объекта любви. Он становится смиренным и полностью порабощённым в отношениях с объектом своих инвестиций. Этот объект, в пользу которого он истощается, является тем самым, что заступает на место важнейшей Bestandtail, составной части Я.
Так Фрейд подходит к проблеме. Для этого приходится отступить назад: поскольку он не слишком побеспокоился о нас в своём продвижении, то, понимая, что не предоставил достаточно полных объяснений, он возвращается и говорит, что это описание выявляет оппозицию, которой в действительности с экономической точки зрения не существует, nicht bestehen: «С экономической точки зрения нет ни обогащения, ни обнищания, поскольку даже состояние крайней влюблённости можно представить как интроекцию объекта в Я».
Следующее различие касается, возможно, наиболее принципиальных моментов: «В случае идентификации объект улетучивается и исчезает, чтобы появиться заново в Я, которое подвергается частичному преобразованию по модели исчезнувшего объекта. В другом случае подменный объект оказывается наделённым всеми качествами Я, причём за его счет».
Я хотел бы напомнить, что в предыдущей главе Фрейд подходит к вопросу идентификации, начиная с разговора об идентификации с отцом. Во втором абзаце нас ожидает пример плохого французского перевода текста Фрейда. В немецком тексте мы читаем: «Одновременно с идентификацией с отцом, а бывает и чуть раньше (что переведено на французский как чуть позже) маленький мальчик начинает направлять свои либидинальные желания на свою мать», - исходя из этой версии перевода можно задаться вопросом о том случае, когда идентификация с отцом не является предваряющей.
Ещё один пример этому мы найдём в отрывке, который я подготовил для вас сегодня, чтобы в наиболее концентрированной и явной форме показать недоразумения Фрейда. Речь идёт о состоянии влюблённости в его отношении с идентификацией. Следуя тексту Фрейда, идентификация является первичной, основополагающей функцией, поскольку предусматривает выбор объекта. Но выбор этот таков, что артикуляция его сама по себе оказывается проблематичной. Следуя смыслу, отлично артикулированному здесь Фрейдом, как можно плотнее, скажем, что этот объект является своего рода другим Я в составе субъекта. Таким образом, речь идёт о том, чтобы обозначить разницу между идентификацией и влюблённостью, Verliebtheit, в её наиболее высоких проявлениях, наиболее полных, известных как зачарованность, пленение, Hörigkeit (закабаление), которые несложно описать. Во французском переводе читаем: «В первом случае Я обогащается качествами объекта, ассимилирует его ...». Вообще говоря, нужно просто прочитать, вслед за Ференци, интроецирует. Это вопрос взаимосвязи интроекции с идентификацией.
«Во втором случае оно обездоливает себя, полностью отдаваясь объекту, умаляя себя перед ним ...», - в переводе на французский. Это совсем не то, что говорит Фрейд: «объект заступает на место его важнейшей составной части». Эта фраза начисто отсутствует в предложении, вместо неё появляется «умаляя себя перед ним».
Фрейд останавливается здесь на противопоставлении между тем, что, с одной стороны, субъект интроецирует и чем он обогащается, и тем, что, с другой стороны, отнимает у него что-то и обездоливает. На самом деле незадолго до этого Фрейд подробно останавливается на том, что происходит в состоянии влюблённости, когда субъект всё больше и больше растрачивает всего себя в пользу объекта любви. Он становится смиренным и полностью порабощённым в отношениях с объектом своих инвестиций. Этот объект, в пользу которого он истощается, является тем самым, что заступает на место важнейшей Bestandtail, составной части Я.
Так Фрейд подходит к проблеме. Для этого приходится отступить назад: поскольку он не слишком побеспокоился о нас в своём продвижении, то, понимая, что не предоставил достаточно полных объяснений, он возвращается и говорит, что это описание выявляет оппозицию, которой в действительности с экономической точки зрения не существует, nicht bestehen: «С экономической точки зрения нет ни обогащения, ни обнищания, поскольку даже состояние крайней влюблённости можно представить как интроекцию объекта в Я».
Следующее различие касается, возможно, наиболее принципиальных моментов: «В случае идентификации объект улетучивается и исчезает, чтобы появиться заново в Я, которое подвергается частичному преобразованию по модели исчезнувшего объекта. В другом случае подменный объект оказывается наделённым всеми качествами Я, причём за его счет». Это то, что говорит нам французский текст. С какой стати объект улетучивается и исчезает, чтобы вновь появиться в Я после его частичного преобразования по модели исчезнувшего объекта? Лучше обратиться к тому, что написано в немецком тексте: «Возможно, другое различие было быболее актуально. В случае идентификации объект был потерян», - это ссылка на фундаментальное понятие, которое мы встречаем постоянно и с самого начала. Объясняя нам образование объекта, Фрейд опирается на основополагающее понятие утраченного или брошенного объекта. Так что речь не идёт об объекте, который улетучивается или исчезает, ведь в том и дело, что он не исчезает. «Затем он снова возникает в Я, и Я частично трансформируется по модели утраченного объекта».
«В другом случае, при влюблённости, объект остался в сохранности, erhalten geblieben, и ему придаётся сверхценность, überbesetzt, за счёт инвестиций со стороны Я».
Но это различение в свою очередь приводит к новому соображению: действительно ли идентификация предполагает отказ от инвестирования в объект? Возможна ли идентификация с сохранённым объектом? И прежде чем мы вступим в эту особенно сложную дискуссию, нам следует задержать своё внимание на ещё одной альтернативе, в которой можно рассмотреть данное положение вещей, а именно: занимает ли объект место Ich или Ich-Ideal, место Я или Я-Идеала (l’ideal du moi).
Этот текст нас сильно озадачивает, кажется, что эти движения взад-вперёд ничего не поясняют. Фрейд только удостоверяет факт двусмысленного положения объекта, которое всегда остаётся под вопросом. Объект то уходит, то возвращается, соответственно, как объект идентификации или как объект влюблённости-очарования. Но, как минимум, этот вопрос заслуживает того, чтобы быть поставленным, только это я и хотел подчеркнуть. Этот текст нельзя назвать последним словом Фрейда, хотя это и одна из вершин созданной им аналитической теории.
Попробуем теперь вернуться к проблеме, принимая во внимание те ориентиры, которые мы наметили для себя, занимаясь связью между фрустрацией, с одной стороны, и образованием объекта, с другой.
3
Прежде всего дело в том, чтобы понять, какую связь мы обычно устанавливаем в нашей практике и в нашем способе об этом говорить между идентификацией и интроекцией. Вы видели, как заявляет о себе эта связь уже в начале фрагмента фрейдова текста, который я только что зачитал.
Я предлагаю вам следующее положение: метафора, лежащая в основе интроекции, является оральной метафорой. Интроекцию и инкорпорацию обычно не различают. Говоря о них, мы позволяем себе соскользнуть к формулировкам кляйнианской эпохи. Мы говорим, например, о пресловутом образовании первичных объектов, которые делятся, по обыкновению, на хорошие и плохие. Мы рассуждаем об интроекции объектов, рассматривая их как простые элементы, присутствующие в пресловутом лишённом границ примитивном мире, где субъект мог бы себя собрать воедино в материнском теле. Понятая таким образом интроекция становится функцией строго эквивалентной и симметричной проекции. Таким образом, объект оказывается
Это то, что говорит нам французский текст. С какой стати объект улетучивается и исчезает, чтобы вновь появиться в Я после его частичного преобразования по модели исчезнувшего объекта? Лучше обратиться к тому, что написано в немецком тексте: «Возможно, другое различие было быболее актуально. В случае идентификации объект был потерян», - это ссылка на фундаментальное понятие, которое мы встречаем постоянно и с самого начала. Объясняя нам образование объекта, Фрейд опирается на основополагающее понятие утраченного или брошенного объекта. Так что речь не идёт об объекте, который улетучивается или исчезает, ведь в том и дело, что он не исчезает. «Затем он снова возникает в Я, и Я частично трансформируется по модели утраченного объекта».
«В другом случае, при влюблённости, объект остался в сохранности, erhalten geblieben, и ему придаётся сверхценность, überbesetzt, за счёт инвестиций со стороны Я».
Но это различение в свою очередь приводит к новому соображению: действительно ли идентификация предполагает отказ от инвестирования в объект? Возможна ли идентификация с сохранённым объектом? И прежде чем мы вступим в эту особенно сложную дискуссию, нам следует задержать своё внимание на ещё одной альтернативе, в которой можно рассмотреть данное положение вещей, а именно: занимает ли объект место Ich или Ich-Ideal, место Я или Я-Идеала (l’ideal du moi).
Этот текст нас сильно озадачивает, кажется, что эти движения взад-вперёд ничего не поясняют. Фрейд только удостоверяет факт двусмысленного положения объекта, которое всегда остаётся под вопросом. Объект то уходит, то возвращается, соответственно, как объект идентификации или как объект влюблённости-очарования. Но, как минимум, этот вопрос заслуживает того, чтобы быть поставленным, только это я и хотел подчеркнуть. Этот текст нельзя назвать последним словом Фрейда, хотя это и одна из вершин созданной им аналитической теории.
Попробуем теперь вернуться к проблеме, принимая во внимание те ориентиры, которые мы наметили для себя, занимаясь связью между фрустрацией, с одной стороны, и образованием объекта, с другой.
3
Прежде всего дело в том, чтобы понять, какую связь мы обычно устанавливаем в нашей практике и в нашем способе об этом говорить между идентификацией и интроекцией. Вы видели, как заявляет о себе эта связь уже в начале фрагмента фрейдова текста, который я только что зачитал.
Я предлагаю вам следующее положение: метафора, лежащая в основе интроекции, является оральной метафорой. Интроекцию и инкорпорацию обычно не различают. Говоря о них, мы позволяем себе соскользнуть к формулировкам кляйнианской эпохи. Мы говорим, например, о пресловутом образовании первичных объектов, которые делятся, по обыкновению, на хорошие и плохие. Мы рассуждаем об интроекции объектов, рассматривая их как простые элементы, присутствующие в пресловутом лишённом границ примитивном мире, где субъект мог бы себя собрать воедино в материнском теле. Понятая таким образом интроекция становится функцией строго эквивалентной и симметричной проекции. Таким образом, объект оказывается вовлечён в своего рода движение: переходит сначала снаружи вовнутрь, а потом, когда вынести его внутри становится слишком трудно, выталкивается изнутри наружу. В результате интроекция и проекция становятся полностью симметричны.
Против этого, отнюдь не Фрейду принадлежащего, заблуждения и направлено то, что я попытаюсь сейчас сформулировать.
Например, мы наблюдаем в случае фетишизма очевидные булимические импульсы, которые соответствуют тому поворотному моменту символической редукции объекта, который нам более-менее получается зафиксировать у первертов. Как понимать это соответствие и возникновение в этот определённый момент орального влечения? Концептуализация этого невозможна, невозможно выстроить сколько-нибудь упорядоченную линию рассуждения не только в теории, но и в практике и клинике, пока мы придерживаемся размытого понятия, которое всегда оказывается в таких случаях под рукой - субъект регрессирует, говорим мы, потому что, конечно же, для этого он и здесь. Таким образом, в тот самый момент, когда субъект в анализе прогрессирует, то есть, когда он пытается поставить свой фетиш в определённую перспективу, он регрессирует. Сказать так можно всегда, и никто с этим не поспорит.
Я же говорю наоборот, что каждый раз, когда в анализе или ещё где-то проявляет себя влечение, его экономическую функцию нужно увязывать с развитием определённых символических отношений. Не это ли и проясняет первичная схема символической структуры любовных отношений, которую я вам представил?
Рассмотрим предмет первых любовных отношений, то есть мать как объект призыва, объект, который в равной мере отсутствует и присутствует. С одной стороны, есть её дары, которые являются знаками любви и только ими, то есть в качестве чего-либо другого начисто упраздняются. С другой стороны, есть объекты потребности, которые мать предоставляет ребёнку в виде своей груди. Разве вы не видите, что те и другие друг друга уравновешивают и компенсируют? Всякий раз, когда случается фрустрация любви, она компенсируется удовлетворением потребности. Именно потому, что ребёнку не хватает матери, которую он зовёт, он присасывается к её груди, и эта грудь становится для него значимее всего. Пока она у него во рту и он ею удовлетворён, ребёнок, с одной стороны, неотделим от матери, с другой стороны, в таком положении он получает питание, покой и удовлетворение. Здесь удовлетворение потребности компенсирует фрустрацию, становится, можно сказать, чуть ли не её алиби.
Превалирующая ценность, которую приобретает объект, в данном случае грудь или соска-пустышка, основана именно на том, что реальный объект функционирует как часть объекта любви, он приобретает своё символическое значение, и влечение направляется на реальный объект, являющийся частью символического объекта. Как объект реальный он становится частью объекта символического. Только исходя из этого открывается возможность осмыслить оральное поглощение и его так называемый регрессивный механизм, который может вмешаться в любые любовные отношения. Как только реальный объект, удовлетворяющий реальную потребность, смог стать элементом символического объекта, любой другой объект, способный удовлетворить реальную потребность, может занять его место, и прежде всего таким объектом, уже символизированным, наряду с тем, что он является также и вполне материализованным, является слово.
По мере того, как оральная регрессия к первичному объекту поглощения компенсирует фрустрацию любви, эта реакция инкорпорации становится моделью,
вовлечён в своего рода движение: переходит сначала снаружи вовнутрь, а потом, когда вынести его внутри становится слишком трудно, выталкивается изнутри наружу. В результате интроекция и проекция становятся полностью симметричны.
Против этого, отнюдь не Фрейду принадлежащего, заблуждения и направлено то, что я попытаюсь сейчас сформулировать.
Например, мы наблюдаем в случае фетишизма очевидные булимические импульсы, которые соответствуют тому поворотному моменту символической редукции объекта, который нам более-менее получается зафиксировать у первертов. Как понимать это соответствие и возникновение в этот определённый момент орального влечения? Концептуализация этого невозможна, невозможно выстроить сколько-нибудь упорядоченную линию рассуждения не только в теории, но и в практике и клинике, пока мы придерживаемся размытого понятия, которое всегда оказывается в таких случаях под рукой - субъект регрессирует, говорим мы, потому что, конечно же, для этого он и здесь. Таким образом, в тот самый момент, когда субъект в анализе прогрессирует, то есть, когда он пытается поставить свой фетиш в определённую перспективу, он регрессирует. Сказать так можно всегда, и никто с этим не поспорит.
Я же говорю наоборот, что каждый раз, когда в анализе или ещё где-то проявляет себя влечение, его экономическую функцию нужно увязывать с развитием определённых символических отношений. Не это ли и проясняет первичная схема символической структуры любовных отношений, которую я вам представил?
Рассмотрим предмет первых любовных отношений, то есть мать как объект призыва, объект, который в равной мере отсутствует и присутствует. С одной стороны, есть её дары, которые являются знаками любви и только ими, то есть в качестве чего-либо другого начисто упраздняются. С другой стороны, есть объекты потребности, которые мать предоставляет ребёнку в виде своей груди. Разве вы не видите, что те и другие друг друга уравновешивают и компенсируют? Всякий раз, когда случается фрустрация любви, она компенсируется удовлетворением потребности. Именно потому, что ребёнку не хватает матери, которую он зовёт, он присасывается к её груди, и эта грудь становится для него значимее всего. Пока она у него во рту и он ею удовлетворён, ребёнок, с одной стороны, неотделим от матери, с другой стороны, в таком положении он получает питание, покой и удовлетворение. Здесь удовлетворение потребности компенсирует фрустрацию, становится, можно сказать, чуть ли не её алиби.
Превалирующая ценность, которую приобретает объект, в данном случае грудь или соска-пустышка, основана именно на том, что реальный объект функционирует как часть объекта любви, он приобретает своё символическое значение, и влечение направляется на реальный объект, являющийся частью символического объекта. Как объект реальный он становится частью объекта символического. Только исходя из этого открывается возможность осмыслить оральное поглощение и его так называемый регрессивный механизм, который может вмешаться в любые любовные отношения. Как только реальный объект, удовлетворяющий реальную потребность, смог стать элементом символического объекта, любой другой объект, способный удовлетворить реальную потребность, может занять его место, и прежде всего таким объектом, уже символизированным, наряду с тем, что он является также и вполне материализованным, является слово.
По мере того, как оральная регрессия к первичному объекту поглощения компенсирует фрустрацию любви, эта реакция инкорпорации становится моделью, литейной формой (moule), образцом, Vorbild, той своего рода инкорпорации, которая представляет собой инкорпорацию ряда определённых слов, инкорпорацию, лежащую в основе раннего образования той инстанции, что зовется Сверх-Я. То, что субъект инкорпорирует в качестве Сверх-Я, представляет собой нечто аналогичное объекту потребности, только не в качестве дара как такового, а в качестве того, что может заменить этот дар при его отсутствии, что совсем не одно и то же.
Из этого также следует, что факт обладания или необладания пенисом может иметь двойной смысл и появляться в воображаемой экономике субъекта двумя совершенно разными способами. Во-первых, пенис в данный момент может расположиться в линии или на месте такого объекта, как грудь или соска. Таким образом, это форма оральной инкорпорации пениса, которая играет свою роль в организации некоторых симптомов и некоторых функций. Но есть и другой способ, посредством которого пенис может войти в воображаемую экономику. Он может появиться там не в качестве объекта компенсации фрустрации любви, но как нечто, расположенное по другую сторону объекта любви, как его нехватка.
Один из них, назовём его пенисом, целиком представляет собой воображаемую функцию постольку, поскольку он инкорпорирован воображаемым образом. Другой -это фаллос, он является тем, чего не хватает матери, и расположен по ту сторону матери и её способности любить.
Именно в отношении фаллоса как нехватки и ставлю я с самого начала семинара этого года следующий вопрос: в какой момент субъект обнаруживает эту нехватку? Когда и как происходит это открытие, после которого он приходит к необходимости восполнить эту нехватку самим собой, то есть выбрать другой способ нахождения объекта любви, который ускользает, принося с собой собственную нехватку.
Это различие имеет решающее значение, оно позволит нам сегодня сделать первый набросок того, что требуется для осуществления этого такта.
У нас уже есть символическая структуризация и возможная интроекция, которая как таковая является наиболее характерной формой первичной фрейдовской идентификации. Именно на втором такте возникает Verliebtheit. Она абсолютно непостижима и никаким образом не может быть сформулирована, кроме как в регистре нарциссических отношений, иначе говоря, зеркальных отношений в том виде, в каком определил и сформулировал их тот, кто с вами сейчас говорит.
Напомню вам, что в определённом возрасте, но не раньше, чем на шестом месяце, у субъекта возникает отношение к образу другого, дающее субъекту матрицу, вокруг которой развивается у него то, что я назвал его переживанием неполноты (incomplétude vécue). Иными словами, субъект обнаруживает у себя изъян. Именно по отношению к этому образу, который предстает как цельный, не просто удовлетворительный, но, в силу специфического отношения человека к своему собственному отражению, вызывающий ликование, субъект обнаруживает, что ему может чего-то недоставать. Поскольку в игру вступает воображаемое, на основе двух первых символических связей между объектом и матерью, может возникнуть впечатление, что и матери, и ребёнку воображаемым образом чего-то недостаёт. Именно в зеркальных отношениях субъект приобретает опыт и восприятие возможной нехватки, обнаруживает, что по другую сторону может существовать нечто, представляющее собой нехватку.
То есть только за пределами нарциссической реализации, где между субъектом и другим возникает напряжённая, глубоко агрессивная циркуляция, в которой
литейной формой (moule), образцом, Vorbild, той своего рода инкорпорации, которая представляет собой инкорпорацию ряда определённых слов, инкорпорацию, лежащую в основе раннего образования той инстанции, что зовется Сверх-Я. То, что субъект инкорпорирует в качестве Сверх-Я, представляет собой нечто аналогичное объекту потребности, только не в качестве дара как такового, а в качестве того, что может заменить этот дар при его отсутствии, что совсем не одно и то же.
Из этого также следует, что факт обладания или необладания пенисом может иметь двойной смысл и появляться в воображаемой экономике субъекта двумя совершенно разными способами. Во-первых, пенис в данный момент может расположиться в линии или на месте такого объекта, как грудь или соска. Таким образом, это форма оральной инкорпорации пениса, которая играет свою роль в организации некоторых симптомов и некоторых функций. Но есть и другой способ, посредством которого пенис может войти в воображаемую экономику. Он может появиться там не в качестве объекта компенсации фрустрации любви, но как нечто, расположенное по другую сторону объекта любви, как его нехватка.
Один из них, назовём его пенисом, целиком представляет собой воображаемую функцию постольку, поскольку он инкорпорирован воображаемым образом. Другой -это фаллос, он является тем, чего не хватает матери, и расположен по ту сторону матери и её способности любить.
Именно в отношении фаллоса как нехватки и ставлю я с самого начала семинара этого года следующий вопрос: в какой момент субъект обнаруживает эту нехватку? Когда и как происходит это открытие, после которого он приходит к необходимости восполнить эту нехватку самим собой, то есть выбрать другой способ нахождения объекта любви, который ускользает, принося с собой собственную нехватку.
Это различие имеет решающее значение, оно позволит нам сегодня сделать первый набросок того, что требуется для осуществления этого такта.
У нас уже есть символическая структуризация и возможная интроекция, которая как таковая является наиболее характерной формой первичной фрейдовской идентификации. Именно на втором такте возникает Verliebtheit. Она абсолютно непостижима и никаким образом не может быть сформулирована, кроме как в регистре нарциссических отношений, иначе говоря, зеркальных отношений в том виде, в каком определил и сформулировал их тот, кто с вами сейчас говорит.
Напомню вам, что в определённом возрасте, но не раньше, чем на шестом месяце, у субъекта возникает отношение к образу другого, дающее субъекту матрицу, вокруг которой развивается у него то, что я назвал его переживанием неполноты (incomplétude vécue). Иными словами, субъект обнаруживает у себя изъян. Именно по отношению к этому образу, который предстает как цельный, не просто удовлетворительный, но, в силу специфического отношения человека к своему собственному отражению, вызывающий ликование, субъект обнаруживает, что ему может чего-то недоставать. Поскольку в игру вступает воображаемое, на основе двух первых символических связей между объектом и матерью, может возникнуть впечатление, что и матери, и ребёнку воображаемым образом чего-то недостаёт. Именно в зеркальных отношениях субъект приобретает опыт и восприятие возможной нехватки, обнаруживает, что по другую сторону может существовать нечто, представляющее собой нехватку.
То есть только за пределами нарциссической реализации, где между субъектом и другим возникает напряжённая, глубоко агрессивная циркуляция, в которой откладываются и кристаллизуются последовательные слои того, что образует собственное Я (moi), субъект обнаруживает, по ту сторону себя самого как объекта для матери, ситуацию, где объект любви оказывается пленён, объят, захвачен переживанием, которое он сам, будучи объектом, утолить не способен - ностальгией, связанной с его собственной нехваткой.
В той точке, где мы сейчас находимся, всё основано на эффекте передачи, который заставляет предположить, - поскольку это установлено на опыте, и Фрейд остаётся этому привержен до последних своих формулировок - что никакое удовлетворение, с помощью какого бы то ни было реального объекта, пришедшего на замену, никогда не способно восполнить нехватку внутри матери. В отношениях с ребёнком у матери всегда остаётся то, чем обусловлено её место в регистре воображаемого, то есть нехватка фаллоса. Только после второго такта воображаемой зеркальной идентификации с образом тела, который изначально предоставляет матрицу для формирования собственного Я, субъект способен обнаружить, что матери чего-то не хватает. Опыт зеркального восприятия другого, формирующий единство собственного Я, является необходимым предварительным условием. Именно по отношению к этому образу субъект обнаруживает перспективу, что ему самому может чего-то не хватать. Тогда субъект располагает эту нехватку по другую сторону объекта любви и может предложить самого себя в качестве объекта для её восполнения.
Сегодня я подвёл вас к одной схеме, которую прошу принять во внимание, чтобы мы могли вернуться к ней в следующий раз. Что это за схема? То, что здесь изображено, является новым измерением, новым свойством сформировавшегося субъекта, в котором различаются функции, называемые Сверх-Я, Я-Идеал, собственное Я. Речь идёт о том, чтобы понять, как говорит об этом Фрейд в конце своей статьи, чем является объект, который в Verlibtheit заступает на место собственного Я или Я-Идеала.
В том, что я до сих пор говорил о нарциссизме, я делал акцент на образовании идеального Я, то есть на образовании собственного Я как об идеальном образовании, поскольку именно на фоне идеального Я собственное Я и получает свои черты. Я недостаточно чётко сформулировал имеющее здесь место различие. Откройте Фрейда, чьи трудности так поучительны, и взгляните на его схемы, которые продолжают кочевать из рук в руки, хотя никто ни на секунду не задумывается о том, чтобы с ними поработать. Что вы найдёте в конце седьмой части Психологии масс? Схему, на которой расположены собственные Я различных субъектов.
откладываются и кристаллизуются последовательные слои того, что образует собственное Я (moi), субъект обнаруживает, по ту сторону себя самого как объекта для матери, ситуацию, где объект любви оказывается пленён, объят, захвачен переживанием, которое он сам, будучи объектом, утолить не способен - ностальгией, связанной с его собственной нехваткой.
В той точке, где мы сейчас находимся, всё основано на эффекте передачи, который заставляет предположить, - поскольку это установлено на опыте, и Фрейд остаётся этому привержен до последних своих формулировок - что никакое удовлетворение, с помощью какого бы то ни было реального объекта, пришедшего на замену, никогда не способно восполнить нехватку внутри матери. В отношениях с ребёнком у матери всегда остаётся то, чем обусловлено её место в регистре воображаемого, то есть нехватка фаллоса. Только после второго такта воображаемой зеркальной идентификации с образом тела, который изначально предоставляет матрицу для формирования собственного Я, субъект способен обнаружить, что матери чего-то не хватает. Опыт зеркального восприятия другого, формирующий единство собственного Я, является необходимым предварительным условием. Именно по отношению к этому образу субъект обнаруживает перспективу, что ему самому может чего-то не хватать. Тогда субъект располагает эту нехватку по другую сторону объекта любви и может предложить самого себя в качестве объекта для её восполнения.
Сегодня я подвёл вас к одной схеме, которую прошу принять во внимание, чтобы мы могли вернуться к ней в следующий раз. Что это за схема? То, что здесь изображено, является новым измерением, новым свойством сформировавшегося субъекта, в котором различаются функции, называемые Сверх-Я, Я-Идеал, собственное Я. Речь идёт о том, чтобы понять, как говорит об этом Фрейд в конце своей статьи, чем является объект, который в Verlibtheit заступает на место собственного Я или Я-Идеала.
В том, что я до сих пор говорил о нарциссизме, я делал акцент на образовании идеального Я, то есть на образовании собственного Я как об идеальном образовании, поскольку именно на фоне идеального Я собственное Я и получает свои черты. Я недостаточно чётко сформулировал имеющее здесь место различие. Откройте Фрейда, чьи трудности так поучительны, и взгляните на его схемы, которые продолжают кочевать из рук в руки, хотя никто ни на секунду не задумывается о том, чтобы с ними поработать. Что вы найдёте в конце седьмой части Психологии масс? Схему, на которой расположены собственные Я различных субъектов.

 Речь идёт о том, чтобы узнать, почему субъекты приобщаются к одному и тому же идеалу. Фрейд нам объясняет, что есть идентификация Я-Идеала с объектами, которые якобы одинаковы. Просто посмотрите на схему, и вы увидите, что он позаботился о том, чтобы связать эти предположительно одинаковые три объекта с внешним объектом, который находится позади. Не находите ли вы здесь поразительное сходство с тем, о чём говорю вам я? В том, что касается Я-Идеала, речь идёт не просто об объекте, но о том, что находится по ту сторону объекта, который отражается, как говорит Фрейд, не прямо и непосредственно в собственном Я, которое, несомненно, что-то по этому поводу переживает и даже может в силу этого обеднеть, но в чём-то, что находится в самых основах собственного Я, в его первых формах, в его первых нуждах, одним словом, на первой завесе, на поверхность которой оно спроецировано в форме Я-Идеала.
В следующий раз я вернусь к тому пункту, на котором мы остановились в разговоре о взаимосвязи Я-Идеала, фетиша и объекта в качестве объекта нехватки, то есть фаллоса.
06 февраля 1957
Речь идёт о том, чтобы узнать, почему субъекты приобщаются к одному и тому же идеалу. Фрейд нам объясняет, что есть идентификация Я-Идеала с объектами, которые якобы одинаковы. Просто посмотрите на схему, и вы увидите, что он позаботился о том, чтобы связать эти предположительно одинаковые три объекта с внешним объектом, который находится позади. Не находите ли вы здесь поразительное сходство с тем, о чём говорю вам я? В том, что касается Я-Идеала, речь идёт не просто об объекте, но о том, что находится по ту сторону объекта, который отражается, как говорит Фрейд, не прямо и непосредственно в собственном Я, которое, несомненно, что-то по этому поводу переживает и даже может в силу этого обеднеть, но в чём-то, что находится в самых основах собственного Я, в его первых формах, в его первых нуждах, одним словом, на первой завесе, на поверхность которой оно спроецировано в форме Я-Идеала.
В следующий раз я вернусь к тому пункту, на котором мы остановились в разговоре о взаимосвязи Я-Идеала, фетиша и объекта в качестве объекта нехватки, то есть фаллоса.
06 февраля 1957
 загадкой, так что на протяжении всей своей работы он задаётся вопросом, почему бессознательное, вытесненное желание неразрушимо.
Строго говоря, эта характеристика не поддаётся объяснению в единственно принятой перспективе удовлетворения потребности. Мы видим это в любом наблюдении за тем, что происходит в экономике животного мира. Фрустрация потребности приводит к различным изменениям, которые организм более-менее способен вынести, но совершенно очевидно и подтверждается на опыте, что она не способна породить то, что поддерживает желание как таковое. Либо отступается индивид, либо меняется или отклоняется желание.
В любом случае не установлено никакой согласованности между фрустрацией и постоянством желания, тем более его настойчивостью (insistance) - термин, который я вывел на первый план, когда мы говорили об автоматизме повторения.
К тому же Фрейд никогда не говорит о фрустрации. Он говорит о Versagung, что гораздо более адекватно определяется понятием отказа в том смысле, когда говорят об отказе от обязательств, отмене договора. Также верно, что иногда Versagung может иметь обратный смысл, поскольку слово Versagung одновременно означает и обещание, и отказ от него. Это очень часто встречается в словах, которые начинаются с ver-, с приставки, играющей столь существенную роль в этом языке и занявшей видное положение при выборе терминов для аналитической теории.
Давайте сразу же отметим, что триада фрустрация-агрессия-регрессия, предложенная именно в таком виде, далека от обладания заманчивой для понимания простотой. Достаточно задуматься на мгновение, чтобы обнаружить, что сама по себе она непонятна. С таким же успехом можно предложить любой другой ряд понятий. Я совершенно наугад сказал фрустрация-агрессия-регрессия, я мог бы предложить и что-то другое. Сейчас для нас речь идёт о том, чтобы поставить вопрос взаимного отношения фрустрации и регрессии. Это ни разу не было сделано надлежащим образом. Я не говорю, что всё сделанное неверно, я говорю, что этого недостаточно, потому что не было проработано само понятие регрессии.
Итак, фрустрация не является отказом в доступе к объекту удовлетворения. К этому она не сводится. По этому поводу я хочу представить вам цепь рассуждений, чтобы вы, придерживаясь основных её формулировок, смогли проверить, насколько они окажутся вам полезными, а поскольку я приведу в завершение серию формул, которые уже были здесь проработаны, мне не придётся их доказывать заново, а достаточно будет только на них ссылаться.
Попробуем посмотреть на вещи с самого начала, я не имею в виду последовательности их развития, поскольку это не отмечено характером развития, но связано с уровнем первичных (primitive) отношений ребёнка с матерью. Скажем, что изначально фрустрация - и не абы какая фрустрация, но та, которая задействована в нашей диалектике - мыслима только как отказ в даре, тогда как дар - это знак (symbole) любви.
Утверждая это, я не говорю ничего, кроме того, о чём прямо написал Фрейд. Фундаментальный характер отношений любви, не на второй, а на третьей ступени её диалектики, предполагает, что взаимодействие происходит не только с объектом, но и с существом. Это представлено в массе пассажей Фрейда как отношения, установленные с самого начала. Что это значит? Это не означает, что ребёнок изобрёл философию любви, что он различает, например, любовь и желание. Это означает, что он уже попал
загадкой, так что на протяжении всей своей работы он задаётся вопросом, почему бессознательное, вытесненное желание неразрушимо.
Строго говоря, эта характеристика не поддаётся объяснению в единственно принятой перспективе удовлетворения потребности. Мы видим это в любом наблюдении за тем, что происходит в экономике животного мира. Фрустрация потребности приводит к различным изменениям, которые организм более-менее способен вынести, но совершенно очевидно и подтверждается на опыте, что она не способна породить то, что поддерживает желание как таковое. Либо отступается индивид, либо меняется или отклоняется желание.
В любом случае не установлено никакой согласованности между фрустрацией и постоянством желания, тем более его настойчивостью (insistance) - термин, который я вывел на первый план, когда мы говорили об автоматизме повторения.
К тому же Фрейд никогда не говорит о фрустрации. Он говорит о Versagung, что гораздо более адекватно определяется понятием отказа в том смысле, когда говорят об отказе от обязательств, отмене договора. Также верно, что иногда Versagung может иметь обратный смысл, поскольку слово Versagung одновременно означает и обещание, и отказ от него. Это очень часто встречается в словах, которые начинаются с ver-, с приставки, играющей столь существенную роль в этом языке и занявшей видное положение при выборе терминов для аналитической теории.
Давайте сразу же отметим, что триада фрустрация-агрессия-регрессия, предложенная именно в таком виде, далека от обладания заманчивой для понимания простотой. Достаточно задуматься на мгновение, чтобы обнаружить, что сама по себе она непонятна. С таким же успехом можно предложить любой другой ряд понятий. Я совершенно наугад сказал фрустрация-агрессия-регрессия, я мог бы предложить и что-то другое. Сейчас для нас речь идёт о том, чтобы поставить вопрос взаимного отношения фрустрации и регрессии. Это ни разу не было сделано надлежащим образом. Я не говорю, что всё сделанное неверно, я говорю, что этого недостаточно, потому что не было проработано само понятие регрессии.
Итак, фрустрация не является отказом в доступе к объекту удовлетворения. К этому она не сводится. По этому поводу я хочу представить вам цепь рассуждений, чтобы вы, придерживаясь основных её формулировок, смогли проверить, насколько они окажутся вам полезными, а поскольку я приведу в завершение серию формул, которые уже были здесь проработаны, мне не придётся их доказывать заново, а достаточно будет только на них ссылаться.
Попробуем посмотреть на вещи с самого начала, я не имею в виду последовательности их развития, поскольку это не отмечено характером развития, но связано с уровнем первичных (primitive) отношений ребёнка с матерью. Скажем, что изначально фрустрация - и не абы какая фрустрация, но та, которая задействована в нашей диалектике - мыслима только как отказ в даре, тогда как дар - это знак (symbole) любви.
Утверждая это, я не говорю ничего, кроме того, о чём прямо написал Фрейд. Фундаментальный характер отношений любви, не на второй, а на третьей ступени её диалектики, предполагает, что взаимодействие происходит не только с объектом, но и с существом. Это представлено в массе пассажей Фрейда как отношения, установленные с самого начала. Что это значит? Это не означает, что ребёнок изобрёл философию любви, что он различает, например, любовь и желание. Это означает, что он уже попал в купель существования в символическом порядке. Мы находим этому доказательства в его поведении. Происходят определённые вещи, которые возможны лишь тогда, когда этот символический порядок уже в наличии.
Здесь мы всегда имеем дело с двусмысленностью, которая возникает из-за того, что наша наука является наукой о субъекте, а не об индивиде. Однако, подчиняясь необходимости определить субъекта в качестве исходного пункта, мы забываем, что субъект как таковой с индивидом не совпадает. Даже если субъект выделяется в качестве индивида из всего того порядка, который определяет его как субъекта, этот порядок продолжает существовать. Другими словами, закон интерсубъективных отношений управляет изнутри тем, от чего зависит индивид, включая его, таким образом, в обусловленный этим законом порядок, осознаёт он это как индивид или нет. Так возникает отчаянная и обречённая на провал попытка, которая тем не менее постоянно воспроизводится, связать первичные тревоги ребёнка с образом отца. Я имею в виду статьи о первичных (primitives) фобиях человека по имени Молле. Его потуги особенно грубо скроены и шиты белыми нитками толщиной с руку. Отцовский порядок существует как таковой независимо от того, проживает ли индивид те инфантильные страхи (terreurs), которые обретают свой артикулированный смысл только в интерсубъективных отношениях отец-ребёнок, организованных структурой символического и формирующих субъективный контекст, в котором развивается ребёнок. Опыт ребёнка всегда учтён и задним числом переработан в интерсубъективных отношениях, в которые он вовлечён посредством ряда зачаточных попыток, которые потому и зачаточны, что им предстоит быть в эти отношения вовлечёнными.
Я говорил о даре. Дар предполагает полный цикл обмена, в который субъект вовлекается настолько рано, насколько вы только можете себе представить. Дар существует только потому, что существует огромный оборот даров, покрывающий всё интерсубъективное множество. Дар возникает по другую сторону объективированных (objectale) отношений, поскольку подразумевает тот самый порядок обмена, в который вступил ребёнок, и его появление по ту, другую, сторону возможно только в строгом соответствии с символическим характером его учреждения. Нет никакой другой возможности обращения в дар, кроме как посредством акта, в котором он предварительно аннулируется, отменяется. Именно на основании отзыва, отмены обязательства возникает дар, именно таким образом, как знак любви, изначально аннулированный и появляющийся вновь, дар предоставляется или нет в ответ на зов (appel).
Я сказал бы больше. Я говорю о зове, поскольку именно здесь располагается первичный план, первый такт речи, но вспомните, что я вам говорил, когда мы занимались психозом. Я сказал тогда, что зов имел принципиальное значение для речи. Было бы неправильным на этом останавливаться, поскольку структура речи в большом Другом предполагает, что субъект получает своё собственное послание в обращённой форме. В данном случае мы пока ещё не на этом уровне, но уже здесь зов не может возникнуть в изолированном виде, как нам это хорошо показывает фрейдовский пример детской игры в катушку, Fort-Da. Уже на уровне воззвания должно быть налицо противопоставление. Назовите это ориентиром, меткой. Если зов приобретает свой фундаментальный статус основателя символического порядка, то происходит это постольку, поскольку тот, к кому взывают, может оттолкнуть. Воззвание вводит, полностью погружает в символический порядок, в речь.
в купель существования в символическом порядке. Мы находим этому доказательства в его поведении. Происходят определённые вещи, которые возможны лишь тогда, когда этот символический порядок уже в наличии.
Здесь мы всегда имеем дело с двусмысленностью, которая возникает из-за того, что наша наука является наукой о субъекте, а не об индивиде. Однако, подчиняясь необходимости определить субъекта в качестве исходного пункта, мы забываем, что субъект как таковой с индивидом не совпадает. Даже если субъект выделяется в качестве индивида из всего того порядка, который определяет его как субъекта, этот порядок продолжает существовать. Другими словами, закон интерсубъективных отношений управляет изнутри тем, от чего зависит индивид, включая его, таким образом, в обусловленный этим законом порядок, осознаёт он это как индивид или нет. Так возникает отчаянная и обречённая на провал попытка, которая тем не менее постоянно воспроизводится, связать первичные тревоги ребёнка с образом отца. Я имею в виду статьи о первичных (primitives) фобиях человека по имени Молле. Его потуги особенно грубо скроены и шиты белыми нитками толщиной с руку. Отцовский порядок существует как таковой независимо от того, проживает ли индивид те инфантильные страхи (terreurs), которые обретают свой артикулированный смысл только в интерсубъективных отношениях отец-ребёнок, организованных структурой символического и формирующих субъективный контекст, в котором развивается ребёнок. Опыт ребёнка всегда учтён и задним числом переработан в интерсубъективных отношениях, в которые он вовлечён посредством ряда зачаточных попыток, которые потому и зачаточны, что им предстоит быть в эти отношения вовлечёнными.
Я говорил о даре. Дар предполагает полный цикл обмена, в который субъект вовлекается настолько рано, насколько вы только можете себе представить. Дар существует только потому, что существует огромный оборот даров, покрывающий всё интерсубъективное множество. Дар возникает по другую сторону объективированных (objectale) отношений, поскольку подразумевает тот самый порядок обмена, в который вступил ребёнок, и его появление по ту, другую, сторону возможно только в строгом соответствии с символическим характером его учреждения. Нет никакой другой возможности обращения в дар, кроме как посредством акта, в котором он предварительно аннулируется, отменяется. Именно на основании отзыва, отмены обязательства возникает дар, именно таким образом, как знак любви, изначально аннулированный и появляющийся вновь, дар предоставляется или нет в ответ на зов (appel).
Я сказал бы больше. Я говорю о зове, поскольку именно здесь располагается первичный план, первый такт речи, но вспомните, что я вам говорил, когда мы занимались психозом. Я сказал тогда, что зов имел принципиальное значение для речи. Было бы неправильным на этом останавливаться, поскольку структура речи в большом Другом предполагает, что субъект получает своё собственное послание в обращённой форме. В данном случае мы пока ещё не на этом уровне, но уже здесь зов не может возникнуть в изолированном виде, как нам это хорошо показывает фрейдовский пример детской игры в катушку, Fort-Da. Уже на уровне воззвания должно быть налицо противопоставление. Назовите это ориентиром, меткой. Если зов приобретает свой фундаментальный статус основателя символического порядка, то происходит это постольку, поскольку тот, к кому взывают, может оттолкнуть. Воззвание вводит, полностью погружает в символический порядок, в речь. Дар появляется в ответ на зов, который звучит, когда объекта нет. Когда он есть, объект проявляет себя, по сути, только как знак дара, то есть как ничто в смысле объекта удовлетворения. Он там именно для того, чтобы быть отвергнутым, потому что он ничто. Таким образом эта символическая игра имеет принципиально обманчивый (décevant) характер. Такова сущностная формулировка, исходя из которой определяется и обретает свой смысл удовлетворение.
Я не имею в виду, конечно, что ребёнок в этой игре не может испытать удовлетворения в чисто витальном измерении. Я говорю, что любое удовлетворение, достижению которого угрожает фрустрация, возникает в условиях принципиально обманчивого характера символического порядка. Удовлетворение здесь является только замещающим, компенсаторным. При оральном удержании реального объекта удовлетворения, например, груди, ребёнок подавляет (écrase) то, что в этой символической игре его не удовлетворяет. В этом удовлетворении его усыпляет именно безутешность, фрустрация, некогда пережитый отказ.
Фрейд гениально схватывает болезненную сущность диалектики присутствующего и одновременно отсутствующего объекта и представляет её для нас в этом эпизоде, выразив в точной и лаконичной форме. Это основа отношения субъекта к паре присутствия-отсутствия, отношения к присутствию на почве отсутствия и к отсутствию, которое учреждает присутствие. Ребёнок подавляет в удовлетворении фундаментальную ненасытность этих отношений. Он убаюкивает себя с помощью орального удержания. Он подавляет последствия базовых символических отношений.
Поэтому для нас нет ничего удивительного в том, что именно во сне проявляется настойчивость его желания на символическом уровне. Я подчёркиваю, что даже у ребёнка желание никогда не связано с простым удовлетворением естественной потребности. Обратите внимание на сновидения, которые считаются наипростейшими, а именно на инфантильные сновидения, например, сновидение маленькой Анны Фрейд. Она говорит во сне: малина, пирог и т.д. Все эти объекты для неё являются недостижимыми. Они уже настолько вошли в символический порядок, что совершенно точно являются запретными. Ничто не заставляет нас полагать, что Анна Фрейд не осталась в тот вечер сыта, совсем наоборот. Всё то, что утверждается в этом сновидении как желание, выражено, конечно, в неприкрытом виде, но, будучи целиком размещённым в символическом порядке, это желание невозможного.
И если вы ещё сомневаетесь, что слова играют здесь принципиально важную роль, я замечу, что если бы маленькая Анна Фрейд не выразила бы это словами, то мы бы об этом ничего не узнали.
2
Проследим диалектику фрустрации и поставим вопрос: что происходит в момент, когда удовлетворение потребности вступает в игру и замещает собой удовлетворение символическое?
То, что оно задействовано в качестве замены, само по себе подвергает его трансформации. Как только реальный объект становится знаком в требовании любви, то есть в символическом запросе, это немедленно влечёт за собой его трансформацию. Какую? Как я вам сказал, реальный объект обретает в этом случае символическое значение, я бы даже мог сказать, что он становится или почти становится символом, но это было бы слишком просто. То, что оказывается в центре внимания и обретает
Дар появляется в ответ на зов, который звучит, когда объекта нет. Когда он есть, объект проявляет себя, по сути, только как знак дара, то есть как ничто в смысле объекта удовлетворения. Он там именно для того, чтобы быть отвергнутым, потому что он ничто. Таким образом эта символическая игра имеет принципиально обманчивый (décevant) характер. Такова сущностная формулировка, исходя из которой определяется и обретает свой смысл удовлетворение.
Я не имею в виду, конечно, что ребёнок в этой игре не может испытать удовлетворения в чисто витальном измерении. Я говорю, что любое удовлетворение, достижению которого угрожает фрустрация, возникает в условиях принципиально обманчивого характера символического порядка. Удовлетворение здесь является только замещающим, компенсаторным. При оральном удержании реального объекта удовлетворения, например, груди, ребёнок подавляет (écrase) то, что в этой символической игре его не удовлетворяет. В этом удовлетворении его усыпляет именно безутешность, фрустрация, некогда пережитый отказ.
Фрейд гениально схватывает болезненную сущность диалектики присутствующего и одновременно отсутствующего объекта и представляет её для нас в этом эпизоде, выразив в точной и лаконичной форме. Это основа отношения субъекта к паре присутствия-отсутствия, отношения к присутствию на почве отсутствия и к отсутствию, которое учреждает присутствие. Ребёнок подавляет в удовлетворении фундаментальную ненасытность этих отношений. Он убаюкивает себя с помощью орального удержания. Он подавляет последствия базовых символических отношений.
Поэтому для нас нет ничего удивительного в том, что именно во сне проявляется настойчивость его желания на символическом уровне. Я подчёркиваю, что даже у ребёнка желание никогда не связано с простым удовлетворением естественной потребности. Обратите внимание на сновидения, которые считаются наипростейшими, а именно на инфантильные сновидения, например, сновидение маленькой Анны Фрейд. Она говорит во сне: малина, пирог и т.д. Все эти объекты для неё являются недостижимыми. Они уже настолько вошли в символический порядок, что совершенно точно являются запретными. Ничто не заставляет нас полагать, что Анна Фрейд не осталась в тот вечер сыта, совсем наоборот. Всё то, что утверждается в этом сновидении как желание, выражено, конечно, в неприкрытом виде, но, будучи целиком размещённым в символическом порядке, это желание невозможного.
И если вы ещё сомневаетесь, что слова играют здесь принципиально важную роль, я замечу, что если бы маленькая Анна Фрейд не выразила бы это словами, то мы бы об этом ничего не узнали.
2
Проследим диалектику фрустрации и поставим вопрос: что происходит в момент, когда удовлетворение потребности вступает в игру и замещает собой удовлетворение символическое?
То, что оно задействовано в качестве замены, само по себе подвергает его трансформации. Как только реальный объект становится знаком в требовании любви, то есть в символическом запросе, это немедленно влечёт за собой его трансформацию. Какую? Как я вам сказал, реальный объект обретает в этом случае символическое значение, я бы даже мог сказать, что он становится или почти становится символом, но это было бы слишком просто. То, что оказывается в центре внимания и обретает символическое значение - это та активность, тот способ усвоения, с помощью которого ребёнок овладевает объектом.
Именно таким образом оральность превращается в то, чем она является. Будучи изначально связанной с инстинктивным голодом, она несёт в себе либидо самосохранения, но не только. Фрейд задаётся вопросом: это либидо самосохранения или либидо сексуальное? Конечно, оно направлено на самосохранение индивида и при этом включает в себя и деструдо (destrudo), но, вступая в диалектику, где удовлетворение замещает собой требование любви, оно становится активностью отчётливо эротизированной. Оно и есть либидо в его непосредственном значении, либидо сексуальное.
Всё это отнюдь не пустая риторика, но прямой ответ на возражения, которые позволяют себе сделать люди не самого далёкого ума. Так, например, Месье Шарль Блондель в последнем номере Etudes philosophiques, посвящённом столетию Фрейда, делает несколько аналитических замечаний на тему эротизации груди. Мадам Фаве-Бутонье напоминает нам, что в одной из своих статей этот автор говорит: «Я, конечно, всё понимаю, но как насчет случая, когда мать кормит не грудью, а из бутылочки?». Именно на такого рода возражения отвечают вещи, которые я вам только что изложил. С тех пор как реальный объект входит в диалектику фрустрации, он хоть и не безразличен сам по себе, но не должен носить какого-то специфического характера. Даже если это не грудь матери, это никак не отражается на положении объекта в сексуальной диалектике, в которой появляется эротизация оральной зоны. Принципиальную роль играет не объект сам по себе, а то обстоятельство, что активность взяла на себя эротическую функцию в измерении желания, которое организуется в символическом порядке.
Попутно замечу, что это заходит настолько далеко, что для получения того же эффекта реальный объект бывает не нужен вовсе. Речь идет только о том, чтобы создать возможность заместительного удовлетворения в форме символического насыщения. Только так можно объяснить действительное значение таких симптомов, как психическая анорексия. Я уже говорил, что психическая анорексия заключается не в том, чтобы ничего не есть, но в том, чтобы есть «ничто». Я настаиваю, это означает есть «ничто». «Ничто» - это именно та вещь, которая обретает своё существование в плане символического. Это не nicht essen, это nichts essen. Это основополагающий для понимания феноменологии психической анорексии пункт. Говорить, что ребёнок ест ничто, не значит отрицать его активность. Он пользуется смакованием отсутствия как такового перед лицом того, что перед ним находится - своей матери, от которой он зависит. При отсутствии вкушения как такового он использует то, чем располагает прямо перед собой, а именно свою мать, от которой он зависит. Благодаря этому «ничто», он делает её зависимой от него. Если вы этого не усвоили, то не сможете ничего понять в психической анорексии, а в работе с другими симптомами наделаете ещё более серьёзных ошибок.
Таким образом, я обозначил поворотный момент, который вводит нас в символическую диалектику оральной активности. Вся последующая активность также производится в условиях либидинальной диалектики. Но происходит кое-что ещё. Обратным образом, в момент, когда в реальном происходит символический переворот замещающей активности, мать, которая до сих пор была только субъектом символического требования, лишь местом проявления присутствия или отсутствия - что
символическое значение - это та активность, тот способ усвоения, с помощью которого ребёнок овладевает объектом.
Именно таким образом оральность превращается в то, чем она является. Будучи изначально связанной с инстинктивным голодом, она несёт в себе либидо самосохранения, но не только. Фрейд задаётся вопросом: это либидо самосохранения или либидо сексуальное? Конечно, оно направлено на самосохранение индивида и при этом включает в себя и деструдо (destrudo), но, вступая в диалектику, где удовлетворение замещает собой требование любви, оно становится активностью отчётливо эротизированной. Оно и есть либидо в его непосредственном значении, либидо сексуальное.
Всё это отнюдь не пустая риторика, но прямой ответ на возражения, которые позволяют себе сделать люди не самого далёкого ума. Так, например, Месье Шарль Блондель в последнем номере Etudes philosophiques, посвящённом столетию Фрейда, делает несколько аналитических замечаний на тему эротизации груди. Мадам Фаве-Бутонье напоминает нам, что в одной из своих статей этот автор говорит: «Я, конечно, всё понимаю, но как насчет случая, когда мать кормит не грудью, а из бутылочки?». Именно на такого рода возражения отвечают вещи, которые я вам только что изложил. С тех пор как реальный объект входит в диалектику фрустрации, он хоть и не безразличен сам по себе, но не должен носить какого-то специфического характера. Даже если это не грудь матери, это никак не отражается на положении объекта в сексуальной диалектике, в которой появляется эротизация оральной зоны. Принципиальную роль играет не объект сам по себе, а то обстоятельство, что активность взяла на себя эротическую функцию в измерении желания, которое организуется в символическом порядке.
Попутно замечу, что это заходит настолько далеко, что для получения того же эффекта реальный объект бывает не нужен вовсе. Речь идет только о том, чтобы создать возможность заместительного удовлетворения в форме символического насыщения. Только так можно объяснить действительное значение таких симптомов, как психическая анорексия. Я уже говорил, что психическая анорексия заключается не в том, чтобы ничего не есть, но в том, чтобы есть «ничто». Я настаиваю, это означает есть «ничто». «Ничто» - это именно та вещь, которая обретает своё существование в плане символического. Это не nicht essen, это nichts essen. Это основополагающий для понимания феноменологии психической анорексии пункт. Говорить, что ребёнок ест ничто, не значит отрицать его активность. Он пользуется смакованием отсутствия как такового перед лицом того, что перед ним находится - своей матери, от которой он зависит. При отсутствии вкушения как такового он использует то, чем располагает прямо перед собой, а именно свою мать, от которой он зависит. Благодаря этому «ничто», он делает её зависимой от него. Если вы этого не усвоили, то не сможете ничего понять в психической анорексии, а в работе с другими симптомами наделаете ещё более серьёзных ошибок.
Таким образом, я обозначил поворотный момент, который вводит нас в символическую диалектику оральной активности. Вся последующая активность также производится в условиях либидинальной диалектики. Но происходит кое-что ещё. Обратным образом, в момент, когда в реальном происходит символический переворот замещающей активности, мать, которая до сих пор была только субъектом символического требования, лишь местом проявления присутствия или отсутствия - что наводит на мысль об ирреальности первичных отношений с матерью - становится реальным существом. Будучи способной бесповоротно отказать, она буквально становится всем. Как я вам говорил, именно на этом уровне - а не на уровне невнятной гипотезы о некой мегаломании, приписывающей ребёнку то, что является только домыслом аналитика - впервые обнаруживает себя измерение всемогущества Wirklichkeit, что по-немецки означает вместе и эффективность, и действенность. По сути, эффективность заключается во всемогуществе реального существа, от которого абсолютно и безоговорочно зависит, будет получен дар или нет.
Сейчас я говорю вам о том, что мать является изначально всемогущей, что мы не можем исключить эту диалектику, что это исходное условие для того, чтобы понять хоть что-то, заслуживающее внимания. Я не говорю вам, как Мелани Кляйн, что мать содержит в себе всё, не говорю, что в огромном контейнере материнского тела находятся все примитивные фантазматические объекты. Теперь мы можем предположить, как такое возможно, но это другой вопрос, и я затрагиваю его лишь мимоходом. То, что такое возможно, Мелани Кляйн нам гениально продемонстрировала, но она постоянно теряется, когда нужно объяснить причины такого положения дел, и её оппоненты не упускают случая заключить из этого, что она бредила. Конечно, бредила, и у неё были на то основания, потому что этот факт возможен только посредством ретроактивной проекции всего сонма воображаемых объектов в укрытие материнского тела. Они там действительно существуют, поскольку мать образует виртуальное поле символического ничтожения, из которого все объекты, каждый в своё время, извлекут свое символическое значение. Тогда совершенно не удивительно, что можно обнаружить ретроактивно спроецированные объекты у субъекта чуть более развитого, например, ребёнка в возрасте около двух лет. И можно сказать, что, как и всё остальное, они были готовы появиться, поскольку уже были там предварительно сформированы. Вот положение, в котором находится ребёнок в присутствии всемогущей матери.
Поскольку я только что кратко упомянул параноидную позицию, как Мелани Кляйн её называет, добавлю, что и депрессивная позиция, согласно тому, как она её намечает, также не обходится без отношения к всемогуществу. Это пространство уничтожения, микромании как противоположности мегаломании. Но не будем слишком торопиться, потому что всё зависит не только от факта того, что мать, представшая однажды в своём всемогуществе, реальна. Для того, чтобы встреча с реальным всемогуществом вызвала у субъекта депрессивный эффект, также необходимо, чтобы он был способен помыслить себя и, по контрасту, свою беспомощность. Клинический опыт показывает, что происходит это в отмеченном Фрейдом шестимесячном возрасте, когда возникает феномен стадии зеркала.
Вы мне можете возразить, ведь я учил вас, что в момент, когда субъект в зеркальном отражении усваивает целостность своего собственного тела, когда он достигает своего рода завершённости в этом целостном другом и предстаёт перед самим собой, то он испытывает скорее чувство триумфа. Эта реконструкция подтверждается на опыте, и эффект ликования при этой встрече не вызывает сомнений. Но здесь не следует путать две разные вещи.
С одной стороны, для возможности различения самого себя этот опыт владения собой навсегда обеспечивает отношения ребёнка со своим собственным Я принципиально важным элементом расщеплённости. С другой стороны, это встреча с
наводит на мысль об ирреальности первичных отношений с матерью - становится реальным существом. Будучи способной бесповоротно отказать, она буквально становится всем. Как я вам говорил, именно на этом уровне - а не на уровне невнятной гипотезы о некой мегаломании, приписывающей ребёнку то, что является только домыслом аналитика - впервые обнаруживает себя измерение всемогущества Wirklichkeit, что по-немецки означает вместе и эффективность, и действенность. По сути, эффективность заключается во всемогуществе реального существа, от которого абсолютно и безоговорочно зависит, будет получен дар или нет.
Сейчас я говорю вам о том, что мать является изначально всемогущей, что мы не можем исключить эту диалектику, что это исходное условие для того, чтобы понять хоть что-то, заслуживающее внимания. Я не говорю вам, как Мелани Кляйн, что мать содержит в себе всё, не говорю, что в огромном контейнере материнского тела находятся все примитивные фантазматические объекты. Теперь мы можем предположить, как такое возможно, но это другой вопрос, и я затрагиваю его лишь мимоходом. То, что такое возможно, Мелани Кляйн нам гениально продемонстрировала, но она постоянно теряется, когда нужно объяснить причины такого положения дел, и её оппоненты не упускают случая заключить из этого, что она бредила. Конечно, бредила, и у неё были на то основания, потому что этот факт возможен только посредством ретроактивной проекции всего сонма воображаемых объектов в укрытие материнского тела. Они там действительно существуют, поскольку мать образует виртуальное поле символического ничтожения, из которого все объекты, каждый в своё время, извлекут свое символическое значение. Тогда совершенно не удивительно, что можно обнаружить ретроактивно спроецированные объекты у субъекта чуть более развитого, например, ребёнка в возрасте около двух лет. И можно сказать, что, как и всё остальное, они были готовы появиться, поскольку уже были там предварительно сформированы. Вот положение, в котором находится ребёнок в присутствии всемогущей матери.
Поскольку я только что кратко упомянул параноидную позицию, как Мелани Кляйн её называет, добавлю, что и депрессивная позиция, согласно тому, как она её намечает, также не обходится без отношения к всемогуществу. Это пространство уничтожения, микромании как противоположности мегаломании. Но не будем слишком торопиться, потому что всё зависит не только от факта того, что мать, представшая однажды в своём всемогуществе, реальна. Для того, чтобы встреча с реальным всемогуществом вызвала у субъекта депрессивный эффект, также необходимо, чтобы он был способен помыслить себя и, по контрасту, свою беспомощность. Клинический опыт показывает, что происходит это в отмеченном Фрейдом шестимесячном возрасте, когда возникает феномен стадии зеркала.
Вы мне можете возразить, ведь я учил вас, что в момент, когда субъект в зеркальном отражении усваивает целостность своего собственного тела, когда он достигает своего рода завершённости в этом целостном другом и предстаёт перед самим собой, то он испытывает скорее чувство триумфа. Эта реконструкция подтверждается на опыте, и эффект ликования при этой встрече не вызывает сомнений. Но здесь не следует путать две разные вещи.
С одной стороны, для возможности различения самого себя этот опыт владения собой навсегда обеспечивает отношения ребёнка со своим собственным Я принципиально важным элементом расщеплённости. С другой стороны, это встреча с реальностью господина. Поскольку форма владения дана субъекту в образе единства, который сам по себе от него отчуждён, но тесно с ним связан и зависим от него, он ликует, но дело принимает другой оборот, когда в предоставленной ему форме единства он встречается с реальностью господина. Таким образом, это настолько же момент его триумфа, как и поражения. Покуда он находится в присутствии единства формы материнского тела, он вынужден признать, что она ему не подчиняется. Когда же на стадии зеркала отражающая структура осознания себя вступает в игру, материнское всемогущество отражается только в отчётливо депрессивной позиции, то есть в чувстве несостоятельности у ребёнка.
Сюда можно отнести и то, что я говорил о психической анорексии. Мы могли бы продвинуться ещё дальше и сказать, что единственная возможность, которую субъект способен использовать против всемогущества, это сказать «нет» на уровне действия и ввести таким образом измерение отказа, что соответствует тому пункту, к которому я веду. Однако я хотел бы отметить, что опыт показывает нам, и не без оснований, что сопротивление всемогуществу в отношениях зависимости вырабатывается не на уровне действия в форме отказа, но на уровне объекта, который мы обнаружили под знаком «ничто». Именно на уровне аннулированного объекта в качестве объекта символического ребёнок опровергает свою зависимость тем, что питает себя ничем. Переворачивая отношения зависимости, он таким способом превращает себя в господина всемогущей силы, от которой зависит - силы, стремящейся, чтобы он жил. Теперь она оказывается в зависимости от его желания, она зависит от его милости, от милости его каприза, от милости его всемогущества.
Поэтому мы должны очень хорошо отдавать себе отчёт в том, что уже для самых первых воображаемых отношений символический порядок изначально является необходимой подкладкой, на которой могут быть разыграны проекции любых противоположностей.
Для иллюстрации этого в психологических терминах - но учтите, что это будет упрощением по сравнению с первым положением, которое я только что представил, -интенциональность (intentionnalité) любви учреждается очень рано и прежде всего по ту сторону объекта. Основополагающую символическую структуризацию невозможно представить иначе, чем посредством принятия того факта, что символический порядок уже установлен и как таковой уже в наличии. Опыт нам это подтверждает. Мадам Сюзан Исаак давно показала, что с самого раннего возраста ребёнок отличает наказание от случайной грубости. Ещё до появления речи ребёнок по-разному реагирует на толчок и пощёчину.
Я предложу вам поразмышлять над тем, что это значит. Вы скажете мне: это любопытно, у животных ведь то же самое, по крайней мере, у домашних животных. Это возражение легко опровергнуть. Это доказывает только то, что у животного могут возникнуть зачаточные представления о чём-то, в отношении объекта потустороннем, которые поставят его в очень специфические отношения идентификации с тем, кто является его хозяином. Но именно потому, что, в отличие от человека, животное не включено всем своим существом в порядок языка, ему это, кроме хозяйской похвалы, ровно ничего не дает. В лучшем случае собачка научается отличать шлепок по спине от трёпки.
Раз речь зашла о том, чтобы прояснить основные положения, возможно, вы видели вышедший в свет в декабре 1956 года четвёртый выпуск ежегодного International Journal
реальностью господина. Поскольку форма владения дана субъекту в образе единства, который сам по себе от него отчуждён, но тесно с ним связан и зависим от него, он ликует, но дело принимает другой оборот, когда в предоставленной ему форме единства он встречается с реальностью господина. Таким образом, это настолько же момент его триумфа, как и поражения. Покуда он находится в присутствии единства формы материнского тела, он вынужден признать, что она ему не подчиняется. Когда же на стадии зеркала отражающая структура осознания себя вступает в игру, материнское всемогущество отражается только в отчётливо депрессивной позиции, то есть в чувстве несостоятельности у ребёнка.
Сюда можно отнести и то, что я говорил о психической анорексии. Мы могли бы продвинуться ещё дальше и сказать, что единственная возможность, которую субъект способен использовать против всемогущества, это сказать «нет» на уровне действия и ввести таким образом измерение отказа, что соответствует тому пункту, к которому я веду. Однако я хотел бы отметить, что опыт показывает нам, и не без оснований, что сопротивление всемогуществу в отношениях зависимости вырабатывается не на уровне действия в форме отказа, но на уровне объекта, который мы обнаружили под знаком «ничто». Именно на уровне аннулированного объекта в качестве объекта символического ребёнок опровергает свою зависимость тем, что питает себя ничем. Переворачивая отношения зависимости, он таким способом превращает себя в господина всемогущей силы, от которой зависит - силы, стремящейся, чтобы он жил. Теперь она оказывается в зависимости от его желания, она зависит от его милости, от милости его каприза, от милости его всемогущества.
Поэтому мы должны очень хорошо отдавать себе отчёт в том, что уже для самых первых воображаемых отношений символический порядок изначально является необходимой подкладкой, на которой могут быть разыграны проекции любых противоположностей.
Для иллюстрации этого в психологических терминах - но учтите, что это будет упрощением по сравнению с первым положением, которое я только что представил, -интенциональность (intentionnalité) любви учреждается очень рано и прежде всего по ту сторону объекта. Основополагающую символическую структуризацию невозможно представить иначе, чем посредством принятия того факта, что символический порядок уже установлен и как таковой уже в наличии. Опыт нам это подтверждает. Мадам Сюзан Исаак давно показала, что с самого раннего возраста ребёнок отличает наказание от случайной грубости. Ещё до появления речи ребёнок по-разному реагирует на толчок и пощёчину.
Я предложу вам поразмышлять над тем, что это значит. Вы скажете мне: это любопытно, у животных ведь то же самое, по крайней мере, у домашних животных. Это возражение легко опровергнуть. Это доказывает только то, что у животного могут возникнуть зачаточные представления о чём-то, в отношении объекта потустороннем, которые поставят его в очень специфические отношения идентификации с тем, кто является его хозяином. Но именно потому, что, в отличие от человека, животное не включено всем своим существом в порядок языка, ему это, кроме хозяйской похвалы, ровно ничего не дает. В лучшем случае собачка научается отличать шлепок по спине от трёпки.
Раз речь зашла о том, чтобы прояснить основные положения, возможно, вы видели вышедший в свет в декабре 1956 года четвёртый выпуск ежегодного International Journal of Psycho-Analysis. Пожалуй, мы могли бы сказать, что в нём есть интерес к языку. Показалось, что некоторые люди откликнулись на призыв. Месье Лёвенштайн в своей статье, написанной с почтительным отношением и не без мастерства, после цитирования некоторых второстепенных персонажей Гамлета ссылается на открытие Месье де Соссюра о различии между означающим и означаемым. В общем, выглядит так, что как бы мы немного в курсе, но с нашим психоаналитическим опытом это остаётся абсолютно не связанным, разве что подчёркивает лишний раз, что мы должны думать о том, что нам говорят. Так что на уровне такого подхода я с пониманием отношусь к тому, что автор не цитирует моих работ, - мы в этом направлении продвинулись гораздо дальше.
Но есть также Месье Чарльз Рикрофт, который как представитель лондонской школы пытается внести свою лепту и разработать, в общем-то, как и мы, аналитическую теорию внутрипсихических инстанций и возникающих между ними связей. Возможно, следует вспомнить, говорит автор, о существовании теории коммуникации. Так, напоминает он нам, когда ребёнок кричит, мы имеем замкнутый контур ситуации, в которой предполагается участие матери, крика и ребёнка. Следовательно, речь идёт о полноценном акте коммуникации - ребёнок кричит, мать воспринимает его крик как сигнал, сигнал потребности. Опираясь на это, мы, возможно, могли бы реорганизовать наш опыт, полагает автор.
В том, что говорю я, речь идёт совершенно о другом. Судя по тому смыслу, который придаёт Фрейд проявлениям ребёнка, крик его не воспринимается в качестве сигнала. Крик следует понимать как воззвание к ответу, если можно так сказать, воззвание с опорой на перспективу отклика. Крик производится при том положении вещей, когда ребёнок не просто знаком с языком, но когда он уже окунулся в среду языка и с помощью парного чередования он уже способен на первые попытки кое-что уловить и сформулировать.
Суть этого выражает Fort-Da. Крик, который мы принимаем в расчёт, когда говорим о фрустрации, вписан в синхронный мир криков, организованных системой символического. Крики прямо и непосредственно организованы системой символического. Человеческий субъект прекрасно осведомлён, что крик не является чем-то таким, что каждый раз сигнализирует об объекте. Абсолютно некорректно, ошибочно и бестолково ставить вопрос о знаке, когда речь идёт о символической системе. С самого начала крик производится для того, чтобы его приняли к сведению, даже скорее для того, чтобы там, на другой стороне, его принял к сведению другой. Достаточно обратить внимание на то, насколько принципиальна для ребёнка необходимость овладеть модуляциями и артикуляциями крика, тем, что мы именуем словами, на его интерес к системе языка. Типичным даром является именно дар слова, поскольку в этом случае дар соответствует своему принципу. С рождения ребёнок питается словами, словно хлебом, и гибнет от слов. Ибо, как говорится в Евангелии, не только то, что входит в уста, губит человека, но и то, что выходит из них.
Как вы заметили - вернее, не заметили, но я уточню этот момент, чтобы закрыть тему - термин регрессия предстаёт здесь в непривычном свете.
Термин регрессия применим к тому, что происходит, когда реальный объект и в то же время действие, которое осуществляется, чтобы им овладеть, становятся заменой символическому требованию. Когда ребёнок подавляет разочарование, насыщаясь и напитываясь в контакте с грудью или с каким-либо другим объектом, это позволяет ему
of Psycho-Analysis. Пожалуй, мы могли бы сказать, что в нём есть интерес к языку. Показалось, что некоторые люди откликнулись на призыв. Месье Лёвенштайн в своей статье, написанной с почтительным отношением и не без мастерства, после цитирования некоторых второстепенных персонажей Гамлета ссылается на открытие Месье де Соссюра о различии между означающим и означаемым. В общем, выглядит так, что как бы мы немного в курсе, но с нашим психоаналитическим опытом это остаётся абсолютно не связанным, разве что подчёркивает лишний раз, что мы должны думать о том, что нам говорят. Так что на уровне такого подхода я с пониманием отношусь к тому, что автор не цитирует моих работ, - мы в этом направлении продвинулись гораздо дальше.
Но есть также Месье Чарльз Рикрофт, который как представитель лондонской школы пытается внести свою лепту и разработать, в общем-то, как и мы, аналитическую теорию внутрипсихических инстанций и возникающих между ними связей. Возможно, следует вспомнить, говорит автор, о существовании теории коммуникации. Так, напоминает он нам, когда ребёнок кричит, мы имеем замкнутый контур ситуации, в которой предполагается участие матери, крика и ребёнка. Следовательно, речь идёт о полноценном акте коммуникации - ребёнок кричит, мать воспринимает его крик как сигнал, сигнал потребности. Опираясь на это, мы, возможно, могли бы реорганизовать наш опыт, полагает автор.
В том, что говорю я, речь идёт совершенно о другом. Судя по тому смыслу, который придаёт Фрейд проявлениям ребёнка, крик его не воспринимается в качестве сигнала. Крик следует понимать как воззвание к ответу, если можно так сказать, воззвание с опорой на перспективу отклика. Крик производится при том положении вещей, когда ребёнок не просто знаком с языком, но когда он уже окунулся в среду языка и с помощью парного чередования он уже способен на первые попытки кое-что уловить и сформулировать.
Суть этого выражает Fort-Da. Крик, который мы принимаем в расчёт, когда говорим о фрустрации, вписан в синхронный мир криков, организованных системой символического. Крики прямо и непосредственно организованы системой символического. Человеческий субъект прекрасно осведомлён, что крик не является чем-то таким, что каждый раз сигнализирует об объекте. Абсолютно некорректно, ошибочно и бестолково ставить вопрос о знаке, когда речь идёт о символической системе. С самого начала крик производится для того, чтобы его приняли к сведению, даже скорее для того, чтобы там, на другой стороне, его принял к сведению другой. Достаточно обратить внимание на то, насколько принципиальна для ребёнка необходимость овладеть модуляциями и артикуляциями крика, тем, что мы именуем словами, на его интерес к системе языка. Типичным даром является именно дар слова, поскольку в этом случае дар соответствует своему принципу. С рождения ребёнок питается словами, словно хлебом, и гибнет от слов. Ибо, как говорится в Евангелии, не только то, что входит в уста, губит человека, но и то, что выходит из них.
Как вы заметили - вернее, не заметили, но я уточню этот момент, чтобы закрыть тему - термин регрессия предстаёт здесь в непривычном свете.
Термин регрессия применим к тому, что происходит, когда реальный объект и в то же время действие, которое осуществляется, чтобы им овладеть, становятся заменой символическому требованию. Когда ребёнок подавляет разочарование, насыщаясь и напитываясь в контакте с грудью или с каким-либо другим объектом, это позволяет ему освоить механизм, с помощью которого символическая фрустрация всегда может подтолкнуть к регрессии. Одно открывает дверь другому.
3
Теперь, чтобы перейти к следующему этапу, нам нужно совершить jump.
Если бы мы удовлетворились замечанием, что с доступом означающего через врата воображаемого всё становится на свои места и идёт дальше само собой, то мы бы слишком поторопились. На самом деле все отношения с собственным телом, которые устанавливаются при посредничестве зеркального отношения, любые телесные проявления вступают в игру и трансформируются в результате своего выражения в означающих. Нас, безусловно, не удивляет, что экскременты избираются в качестве объекта дара, поскольку совершенно очевидно, что именно в материале, который обнаруживается в отношениях с собственном телом, ребёнок оказывается способным найти реальную возможность подпитывать символическое. Нас абсолютно не может удивить, что именно в этом случае удержание может стать отказом. В общем, каковы бы ни были тонкости и богатство явлений, которые аналитический эксперимент обнаружил на уровне анального символизма, это не повод задерживаться здесь на долгое время.
Я сказал вам о jump, потому что теперь речь идёт о том, чтобы рассмотреть, как в диалектику фрустрации включается фаллос.
Опять же, избавьте себя от пустых хлопот по поводу естественного генезиса. С опорой на природную конституцию половых органов у вас никогда не получится обосновать главенствующую роль фаллоса в любого рода генитальном символизме. Я собираюсь продемонстрировать вам в подробностях, что в таком случае вы лишь впадёте в заблуждения, как Месье Джонс, когда он пытается удовлетворительно прокомментировать фаллическую фазу, которуюбезапелляционно постулировал Фрейд. Месье Джонс старается объяснить нам, как случилось, что для женщины, которая фаллосом не обладает, он вдруг становится таким важным. Это действительно весьма забавно.
На самом деле вопрос совершенно не в этом. Вопрос касается факта. Прежде всего, это факт. Если бы мы не обнаруживали в наблюдаемых феноменах этого преобладания, превосходства фаллоса во всей воображаемой диалектике, которая отвечает за все приключения, злоключения, проявления, а также провалы, сбои и неудачи генитального развития, тогда бы действительно не было бы никаких проблем.
Некоторые стараются изо всех сил придать должное значение тому факту, что у девочек должны быть свои особые ощущения в животе и что этот опыт без сомнения и, по-видимому, с самого начала отличается от опыта мальчика. Это само собой, но вопрос стоит абсолютно иначе, как это и отмечает Фрейд. По его словам, если женщине действительно гораздо сложнее, чем мальчику, ввести реальность того, что происходит в матке или влагалище, в диалектику желания, которая её удовлетворила бы, то происходит это по той причине, что ей приходится столкнуться лицом к лицу с тем, к чему мужчина имеет совершенно другое отношение, а именно обнаружить свою нехватку, то есть фаллос. Но причина, которая объясняет, почему это так, безусловно, не имеет никакого отношения к каким бы то ни было факторам физиологической предрасположенности. Необходимо исходить из существования воображаемого фаллоса.
освоить механизм, с помощью которого символическая фрустрация всегда может подтолкнуть к регрессии. Одно открывает дверь другому.
3
Теперь, чтобы перейти к следующему этапу, нам нужно совершить jump.
Если бы мы удовлетворились замечанием, что с доступом означающего через врата воображаемого всё становится на свои места и идёт дальше само собой, то мы бы слишком поторопились. На самом деле все отношения с собственным телом, которые устанавливаются при посредничестве зеркального отношения, любые телесные проявления вступают в игру и трансформируются в результате своего выражения в означающих. Нас, безусловно, не удивляет, что экскременты избираются в качестве объекта дара, поскольку совершенно очевидно, что именно в материале, который обнаруживается в отношениях с собственном телом, ребёнок оказывается способным найти реальную возможность подпитывать символическое. Нас абсолютно не может удивить, что именно в этом случае удержание может стать отказом. В общем, каковы бы ни были тонкости и богатство явлений, которые аналитический эксперимент обнаружил на уровне анального символизма, это не повод задерживаться здесь на долгое время.
Я сказал вам о jump, потому что теперь речь идёт о том, чтобы рассмотреть, как в диалектику фрустрации включается фаллос.
Опять же, избавьте себя от пустых хлопот по поводу естественного генезиса. С опорой на природную конституцию половых органов у вас никогда не получится обосновать главенствующую роль фаллоса в любого рода генитальном символизме. Я собираюсь продемонстрировать вам в подробностях, что в таком случае вы лишь впадёте в заблуждения, как Месье Джонс, когда он пытается удовлетворительно прокомментировать фаллическую фазу, которуюбезапелляционно постулировал Фрейд. Месье Джонс старается объяснить нам, как случилось, что для женщины, которая фаллосом не обладает, он вдруг становится таким важным. Это действительно весьма забавно.
На самом деле вопрос совершенно не в этом. Вопрос касается факта. Прежде всего, это факт. Если бы мы не обнаруживали в наблюдаемых феноменах этого преобладания, превосходства фаллоса во всей воображаемой диалектике, которая отвечает за все приключения, злоключения, проявления, а также провалы, сбои и неудачи генитального развития, тогда бы действительно не было бы никаких проблем.
Некоторые стараются изо всех сил придать должное значение тому факту, что у девочек должны быть свои особые ощущения в животе и что этот опыт без сомнения и, по-видимому, с самого начала отличается от опыта мальчика. Это само собой, но вопрос стоит абсолютно иначе, как это и отмечает Фрейд. По его словам, если женщине действительно гораздо сложнее, чем мальчику, ввести реальность того, что происходит в матке или влагалище, в диалектику желания, которая её удовлетворила бы, то происходит это по той причине, что ей приходится столкнуться лицом к лицу с тем, к чему мужчина имеет совершенно другое отношение, а именно обнаружить свою нехватку, то есть фаллос. Но причина, которая объясняет, почему это так, безусловно, не имеет никакого отношения к каким бы то ни было факторам физиологической предрасположенности. Необходимо исходить из существования воображаемого фаллоса. Воображаемый фаллос является опорным стержнем для целого ряда фактов, которые требуют его постулировать. Нужно изучить этот лабиринт, в котором субъект обычно теряется и даже рискует быть пожранным. В роли путеводной нити выступает тот факт, что матери не хватает фаллоса, а поскольку ей его не хватает, она его желает, и только он даёт ей что-то, что может её удовлетворить.
Это может буквально изумить. Что ж, начнём с изумления. Первым достоинством знания является способность взглянуть в лицо тому, что не является само собой разумеющимся. Мы, возможно, готовы будем принять, что именно нехватка является здесь главным желанием, если признаем, что символический порядок тоже характеризуется именно этим.
Другими словами, ситуация такова именно потому, что воображаемый фаллос играет главную означающую роль. Означающее - это не то, что каждый субъект изобретает в зависимости от своего пола и своих врождённых предрасположенностей. Означающее существует. Фаллос как означающее играет глубоко структурную (sous-jacent) роль, в этом нет никаких сомнений, это принципиальный момент, и для того, чтобы понять его, потребовался анализ.
Покинем на мгновение территорию психоанализа, чтобы заново поставить вопрос, который я задал Месье Леви-Строссу, автору Элементарных структур родства. Я сказал ему следующее: «Вы описываете диалектику обмена женщинами между родами. Вы выдвигаете определённый постулат, согласно которому происходит обмен женщинами между поколениями: «Я взял женщину из другого рода, поэтому я должен другую женщину или следующему поколению, или другому роду». Если в брак вступают дети разнополых сиблингов, то ситуация, как правило, замыкается в цикл, у которого нет никаких причин размыкаться или давать сбои, но если в обмен вступают дети однополых сиблингов, могут произойти досадные недоразумения, потому что со временем проявляется тенденция к схождению, и при обмене внутри родов случаются разрывы и сбои». Поэтому я спрашиваю: «А что, если рассмотреть цикл обменов с противоположной точки зрения, а именно предположить, что, наоборот, при смене поколений именно женские линии производят мужчин и обмениваются ими?» Поскольку, в конце концов, мы уже в курсе, что нехватка, о которой мы говорим, у женщины не является нехваткой реальной. Каждый понимает, что женщины могут обладать фаллосом, они имеют фаллосы, более того, они их производят, они делают мальчиков, носителей фаллоса. Следовательно, можно говорить об обмене между поколениями в обратной форме. Тогда закон матриархата можно представить следующим образом: я дала ребёнка, я хочу получить мужчину.
Ответ Леви-Стросса следующий: «Конечно, если подойти к этому чисто формально, можно описать положение дел именно таким образом, воспользовавшись симметричной системой координат, где в основу берутся женщины. Вот только если мы так сделаем, то возникнет целый ворох не поддающихся объяснению вопросов. Так, в каждом случае, в том числе в матриархальных сообществах, политическая власть андроцентрична. Она представлена мужчинами и мужскими родовыми линиями. Очень странные аномалии обменов, преобразований, исключений, парадоксов, которые возникают в рамках законов обмена на уровне элементарных структур родства, возможно объяснить только с помощью факторов, расположенных за пределами условий родства, но определяющихся политическим контекстом, то есть порядком власти, а точнее, порядком означающего, где скипетр совпадает с фаллосом».
Воображаемый фаллос является опорным стержнем для целого ряда фактов, которые требуют его постулировать. Нужно изучить этот лабиринт, в котором субъект обычно теряется и даже рискует быть пожранным. В роли путеводной нити выступает тот факт, что матери не хватает фаллоса, а поскольку ей его не хватает, она его желает, и только он даёт ей что-то, что может её удовлетворить.
Это может буквально изумить. Что ж, начнём с изумления. Первым достоинством знания является способность взглянуть в лицо тому, что не является само собой разумеющимся. Мы, возможно, готовы будем принять, что именно нехватка является здесь главным желанием, если признаем, что символический порядок тоже характеризуется именно этим.
Другими словами, ситуация такова именно потому, что воображаемый фаллос играет главную означающую роль. Означающее - это не то, что каждый субъект изобретает в зависимости от своего пола и своих врождённых предрасположенностей. Означающее существует. Фаллос как означающее играет глубоко структурную (sous-jacent) роль, в этом нет никаких сомнений, это принципиальный момент, и для того, чтобы понять его, потребовался анализ.
Покинем на мгновение территорию психоанализа, чтобы заново поставить вопрос, который я задал Месье Леви-Строссу, автору Элементарных структур родства. Я сказал ему следующее: «Вы описываете диалектику обмена женщинами между родами. Вы выдвигаете определённый постулат, согласно которому происходит обмен женщинами между поколениями: «Я взял женщину из другого рода, поэтому я должен другую женщину или следующему поколению, или другому роду». Если в брак вступают дети разнополых сиблингов, то ситуация, как правило, замыкается в цикл, у которого нет никаких причин размыкаться или давать сбои, но если в обмен вступают дети однополых сиблингов, могут произойти досадные недоразумения, потому что со временем проявляется тенденция к схождению, и при обмене внутри родов случаются разрывы и сбои». Поэтому я спрашиваю: «А что, если рассмотреть цикл обменов с противоположной точки зрения, а именно предположить, что, наоборот, при смене поколений именно женские линии производят мужчин и обмениваются ими?» Поскольку, в конце концов, мы уже в курсе, что нехватка, о которой мы говорим, у женщины не является нехваткой реальной. Каждый понимает, что женщины могут обладать фаллосом, они имеют фаллосы, более того, они их производят, они делают мальчиков, носителей фаллоса. Следовательно, можно говорить об обмене между поколениями в обратной форме. Тогда закон матриархата можно представить следующим образом: я дала ребёнка, я хочу получить мужчину.
Ответ Леви-Стросса следующий: «Конечно, если подойти к этому чисто формально, можно описать положение дел именно таким образом, воспользовавшись симметричной системой координат, где в основу берутся женщины. Вот только если мы так сделаем, то возникнет целый ворох не поддающихся объяснению вопросов. Так, в каждом случае, в том числе в матриархальных сообществах, политическая власть андроцентрична. Она представлена мужчинами и мужскими родовыми линиями. Очень странные аномалии обменов, преобразований, исключений, парадоксов, которые возникают в рамках законов обмена на уровне элементарных структур родства, возможно объяснить только с помощью факторов, расположенных за пределами условий родства, но определяющихся политическим контекстом, то есть порядком власти, а точнее, порядком означающего, где скипетр совпадает с фаллосом». Именно по причинам, вписанным в символический порядок, который выходит за рамки индивидуального развития, факт обладания или не обладания воображаемым и символизированным фаллосом приобретает экономическое значение на уровне Эдипа. Это то, что определяет как важное значение комплекса кастрации, так и приоритетное положение пресловутых фантазмов о фаллической матери, которая, как вы знаете, создала проблему сразу же, как только появилась на аналитическом горизонте.
Прежде чем подойти к тому, как формулируется, завершается и разрешается диалектика фаллоса на уровне Эдипа, я бы хотел показать, что тоже мог бы задержаться на доэдипальных уровнях, но лишь воспользовавшись путеводной нитью основополагающей роли символических отношений.
Какую роль играет фаллос на уровне своей воображаемой функции, на уровне предполагаемого требования фаллической матери? Я хочу ещё раз показать вам, насколько принципиальное значение приобретает понятие нехватки объекта, если читать хороших аналитических авторов, к числу которых я отношу Месье Абрахама.
В замечательной статье 1920 года о комплексе кастрации у женщин он на 341 странице представляет случай маленькой двухлетней девочки. После завтрака она направляется к сигарному шкафу, достаёт одну сигару для Папы, вторую для Мамы, которая не курит, и третью зажимает у себя между ног. Мама собирает весь набор и кладет его обратно в коробку для сигар. Маленькая девочка начинает всё заново, возвращает всё на свои места. К сожалению, более подробных комментариев нет. Месье Абрахам неявным образом, имплицитно признаёт, что третий жест маленькой девочки указывает на символический объект её нехватки. Посредством него она выражает свою нехватку. Но несомненно также, что на этом же самом основании она сначала вручает его тому, кто его не утратил, чтобы чётко отметить, чего она желает, а точнее, как это подтверждает опыт, чтобы удовлетворить ту, которой его не хватает. Если вы прочитаете статью Фрейда о женской сексуальности, вы узнаете, что речь здесь идёт не только о нехватке фаллоса у маленькой девочки, но и о том, чтобы дать его своей матери или дать ей заменитель, как если бы она была маленьким мальчиком.
Я напоминаю эту историю лишь для того, чтобы вы могли себе уяснить, что феноменология перверсий не поддаётся осмыслению в сумерках идентификаций, реидентификаций, проекций и других хитросплетений, которые обычно вам предлагают. Чтобы не заблудится в этих дебрях, следует исходить из гораздо более простой идеи фаллоса. Речь идёт о фаллосе и понимании того, каким образом ребёнок более или менее осознанно обнаруживает тот факт, что его всемогущая мать нечто необратимым образом утратила, и это всегда вопрос выбора пути, по которому он пойдёт в своих попытках восполнения объекта её нехватки, который он и сам тоже всегда утрачивает.
Давайте не будем забывать, что фаллос маленького мальчика ненамного более замечателен, чем фаллос маленькой девочки. Естественно, хорошие авторы это увидели, и Месье Джонс всё же понял, что Мадам Карен Хорни была скорее на стороне того, с кем он спорил, то есть в данном случае на стороне Фрейда. Характер фундаментального несовершенства фаллоса маленького мальчика или даже стыд, который он может испытывать по этому поводу, или глубокая недостаточность, которую он может чувствовать, - она придавала всему этому большое значение не для того, чтобы сгладить разницу между маленьким мальчиком и маленькой девочкой, но для того, чтобы прояснить одно с помощью другого. Чтобы понять точное значение попыток
Именно по причинам, вписанным в символический порядок, который выходит за рамки индивидуального развития, факт обладания или не обладания воображаемым и символизированным фаллосом приобретает экономическое значение на уровне Эдипа. Это то, что определяет как важное значение комплекса кастрации, так и приоритетное положение пресловутых фантазмов о фаллической матери, которая, как вы знаете, создала проблему сразу же, как только появилась на аналитическом горизонте.
Прежде чем подойти к тому, как формулируется, завершается и разрешается диалектика фаллоса на уровне Эдипа, я бы хотел показать, что тоже мог бы задержаться на доэдипальных уровнях, но лишь воспользовавшись путеводной нитью основополагающей роли символических отношений.
Какую роль играет фаллос на уровне своей воображаемой функции, на уровне предполагаемого требования фаллической матери? Я хочу ещё раз показать вам, насколько принципиальное значение приобретает понятие нехватки объекта, если читать хороших аналитических авторов, к числу которых я отношу Месье Абрахама.
В замечательной статье 1920 года о комплексе кастрации у женщин он на 341 странице представляет случай маленькой двухлетней девочки. После завтрака она направляется к сигарному шкафу, достаёт одну сигару для Папы, вторую для Мамы, которая не курит, и третью зажимает у себя между ног. Мама собирает весь набор и кладет его обратно в коробку для сигар. Маленькая девочка начинает всё заново, возвращает всё на свои места. К сожалению, более подробных комментариев нет. Месье Абрахам неявным образом, имплицитно признаёт, что третий жест маленькой девочки указывает на символический объект её нехватки. Посредством него она выражает свою нехватку. Но несомненно также, что на этом же самом основании она сначала вручает его тому, кто его не утратил, чтобы чётко отметить, чего она желает, а точнее, как это подтверждает опыт, чтобы удовлетворить ту, которой его не хватает. Если вы прочитаете статью Фрейда о женской сексуальности, вы узнаете, что речь здесь идёт не только о нехватке фаллоса у маленькой девочки, но и о том, чтобы дать его своей матери или дать ей заменитель, как если бы она была маленьким мальчиком.
Я напоминаю эту историю лишь для того, чтобы вы могли себе уяснить, что феноменология перверсий не поддаётся осмыслению в сумерках идентификаций, реидентификаций, проекций и других хитросплетений, которые обычно вам предлагают. Чтобы не заблудится в этих дебрях, следует исходить из гораздо более простой идеи фаллоса. Речь идёт о фаллосе и понимании того, каким образом ребёнок более или менее осознанно обнаруживает тот факт, что его всемогущая мать нечто необратимым образом утратила, и это всегда вопрос выбора пути, по которому он пойдёт в своих попытках восполнения объекта её нехватки, который он и сам тоже всегда утрачивает.
Давайте не будем забывать, что фаллос маленького мальчика ненамного более замечателен, чем фаллос маленькой девочки. Естественно, хорошие авторы это увидели, и Месье Джонс всё же понял, что Мадам Карен Хорни была скорее на стороне того, с кем он спорил, то есть в данном случае на стороне Фрейда. Характер фундаментального несовершенства фаллоса маленького мальчика или даже стыд, который он может испытывать по этому поводу, или глубокая недостаточность, которую он может чувствовать, - она придавала всему этому большое значение не для того, чтобы сгладить разницу между маленьким мальчиком и маленькой девочкой, но для того, чтобы прояснить одно с помощью другого. Чтобы понять точное значение попыток маленького мальчика соблазнить свою мать, о которых мы постоянно говорим, не нужно забывать о важности того открытия о себе, которое он совершает. Эти попытки глубоко отмечены нарциссическим конфликтом, они всегда становятся первыми случаями нарциссических увечий, которые становятся прелюдиями или даже предпосылками последующих эффектов кастрации. В конце концов, очевидно, что скорее речь идёт не о простом влечении или сексуальной агрессии, а о том, что мальчик пытается убедиться, что он мужчина или обладатель фаллоса, хотя и является таковым лишь наполовину.
Другими словами, на протяжении всего доэдипального периода, где берут своё начало перверсии, речь идёт об игре, которая в дальнейшем продолжается, игре в хорька, или в боннето, или даже в наш чёт-нечет, где фаллос имеет фундаментальное значение в качестве означающего, в качестве основы материнского воображаемого, к которому нужно присоединиться, поскольку собственное Я ребёнка опирается на всемогущество матери. Дело в том, чтобы разобраться, где он есть, а где его нет. В действительности он никогда не там, где он есть, и он никогда полностью не отсутствует там, где его нет. На это должна опираться любая классификация перверсий. Каким бы ни было значение идентификации с матерью или идентификации с объектом и так далее, то, что имеет принципиальное значение, - это отношение к фаллосу.
Возьмем, к примеру, трансвестизм, когда субъект ставит под вопрос свой фаллос. Мы забываем, что трансвестизм это не просто вопрос каким-то образом выраженного гомосексуализма, это не просто какой-то особый случай фетишизма. Дополнительно нужно, чтобы фетиш был предметом одежды субъекта. Фенихель в своей статье Психоанализ трансвестизма во 2-ом номере Международного психоаналитического журнала, 1930, делает чёткий акцент на том факте, что под женской одеждой находится женщина. Субъект идентифицирует себя с женщиной, но с женщиной, обладающей фаллосом, только обладает она им как тем, что скрыто. Фаллос всегда связан с тем, что выступает в качестве покрова. Мы видим здесь принципиально важное значение того, что я назвал покровом. Объект материализуется именно в силу существования одежды. Даже когда там есть реальный объект, нужно, чтобы оставалась возможность предположить, что его там нет, чтобы всегда оставалась возможность подумать, будто он там, где на самом деле его нет.
То же самое актуально для случая мужской гомосексуальности, и ограничимся сегодня только ей, где речь опять идёт о фаллосе субъекта, но вот ведь любопытная вещь: то, что он ищет в другом, является его собственным фаллосом.
Все перверсии каким-то образом задействуют этот означающий объект, который по самой своей природе является подлинным означающим, то есть тем, что ни в коем случае не может быть принято в своём буквальном значении. Когда мы это уловили и определённо усвоили, как в случае перверсии всех перверсий, именуемой фетишизмом - ведь, действительно, именно фетишизм показывает не только где на самом деле это нужно искать, но и что это такое - тогда мы способны чётко определить, что объект это не что иное, как ничто. Это старая поношенная одежда, тряпьё, хлам. То, что мы видим в случае трансвестизма - маленький истоптанный башмак. Когда он появляется, когда он действительно разоблачается, это фетиш.
Решающий этап располагается непосредственно перед Эдипом, то есть между первыми отношениями, с которых я сегодня начал и назвал их первичной фрустрацией, и Эдипом. На этом этапе ребёнок вовлекается в интерсубъективную диалектику приманки. Чтобы удовлетворить то, что не может быть удовлетворено, а именно
маленького мальчика соблазнить свою мать, о которых мы постоянно говорим, не нужно забывать о важности того открытия о себе, которое он совершает. Эти попытки глубоко отмечены нарциссическим конфликтом, они всегда становятся первыми случаями нарциссических увечий, которые становятся прелюдиями или даже предпосылками последующих эффектов кастрации. В конце концов, очевидно, что скорее речь идёт не о простом влечении или сексуальной агрессии, а о том, что мальчик пытается убедиться, что он мужчина или обладатель фаллоса, хотя и является таковым лишь наполовину.
Другими словами, на протяжении всего доэдипального периода, где берут своё начало перверсии, речь идёт об игре, которая в дальнейшем продолжается, игре в хорька, или в боннето, или даже в наш чёт-нечет, где фаллос имеет фундаментальное значение в качестве означающего, в качестве основы материнского воображаемого, к которому нужно присоединиться, поскольку собственное Я ребёнка опирается на всемогущество матери. Дело в том, чтобы разобраться, где он есть, а где его нет. В действительности он никогда не там, где он есть, и он никогда полностью не отсутствует там, где его нет. На это должна опираться любая классификация перверсий. Каким бы ни было значение идентификации с матерью или идентификации с объектом и так далее, то, что имеет принципиальное значение, - это отношение к фаллосу.
Возьмем, к примеру, трансвестизм, когда субъект ставит под вопрос свой фаллос. Мы забываем, что трансвестизм это не просто вопрос каким-то образом выраженного гомосексуализма, это не просто какой-то особый случай фетишизма. Дополнительно нужно, чтобы фетиш был предметом одежды субъекта. Фенихель в своей статье Психоанализ трансвестизма во 2-ом номере Международного психоаналитического журнала, 1930, делает чёткий акцент на том факте, что под женской одеждой находится женщина. Субъект идентифицирует себя с женщиной, но с женщиной, обладающей фаллосом, только обладает она им как тем, что скрыто. Фаллос всегда связан с тем, что выступает в качестве покрова. Мы видим здесь принципиально важное значение того, что я назвал покровом. Объект материализуется именно в силу существования одежды. Даже когда там есть реальный объект, нужно, чтобы оставалась возможность предположить, что его там нет, чтобы всегда оставалась возможность подумать, будто он там, где на самом деле его нет.
То же самое актуально для случая мужской гомосексуальности, и ограничимся сегодня только ей, где речь опять идёт о фаллосе субъекта, но вот ведь любопытная вещь: то, что он ищет в другом, является его собственным фаллосом.
Все перверсии каким-то образом задействуют этот означающий объект, который по самой своей природе является подлинным означающим, то есть тем, что ни в коем случае не может быть принято в своём буквальном значении. Когда мы это уловили и определённо усвоили, как в случае перверсии всех перверсий, именуемой фетишизмом - ведь, действительно, именно фетишизм показывает не только где на самом деле это нужно искать, но и что это такое - тогда мы способны чётко определить, что объект это не что иное, как ничто. Это старая поношенная одежда, тряпьё, хлам. То, что мы видим в случае трансвестизма - маленький истоптанный башмак. Когда он появляется, когда он действительно разоблачается, это фетиш.
Решающий этап располагается непосредственно перед Эдипом, то есть между первыми отношениями, с которых я сегодня начал и назвал их первичной фрустрацией, и Эдипом. На этом этапе ребёнок вовлекается в интерсубъективную диалектику приманки. Чтобы удовлетворить то, что не может быть удовлетворено, а именно желание матери, которое в своей основе ненасытно (inassouvissable), ребёнок любым способом старается превратить себя в объект-обманку. Поскольку это желание невозможно насытить (assouvi), его предстоит обмануть. Отправной точкой пути, на котором собственное Я ребёнка обретает свою устойчивость, является стремление показать своей матери то, чем он не является.
Как показал Фрейд в своей последней статье о splitting, эти наиболее характерные этапы всегда отмечены исконной двойственностью субъекта и объекта. Поскольку ребёнок становится объектом для того, чтобы обмануть, он оказывается по отношению к другому в позиции, где интерсубъективные отношения уже полностью установлены. Это не тот примитивный вид приманки, который применяется в животном мире, где особь выставляет себя напоказ в ярком параде. Наоборот, субъект предполагает желание в другом. Это желание во второй степени, которое должно быть удовлетворено, но поскольку это желание удовлетворено быть не может, остаётся лишь обмануть его.
Мы постоянно забываем о том, что эксгибиционизм человека отличается от эксгибиционизма других существ, например, малиновки. Все дело в том, чтобы штаны в определённый момент расстегнуть, а потом застегнуть опять. Если нет штанов, нет и никакого эксгибиционизма.
Здесь мы обнаруживаем возможность регрессии. Эта ненасытная, неудовлетворённая мать, вокруг которой происходит нарциссическое восхождение ребенка по пути нарциссизма, является чем-то реальным: она налицо и, как и все ненасытные существа, ищет, кого поглотити, quaerens quem devoret. То, что сам ребёнок нашёл некогда как средство подавить свою символическую ненасытность, предстаёт теперь перед ним вновь в форме разверстой пасти. Образ оральной ситуации вновь обнаруживается здесь на уровне воображаемого сексуального удовлетворения. Зияющая дыра головы Медузы-Горгоны - это поглощающая фигура, с которой ребёнок может столкнуться в поиске удовлетворения матери.
Вот опасность, которую открывают нам эти фантазмы, - быть поглощённым. Мы встречаем её в самом начале и снова сталкиваемся с ней на том повороте, где она становится главной формой проявления фобии.
Мы находим всё это в страхах маленького Ганса. Теперь у нас есть возможность представить этот случай в чуть более ясных координатах. С опорой на то, что я изложил вам сегодня, вы сможете лучше увидеть отношения фобии и перверсии. Также вы лучше поймёте сказанное мной в прошлый раз о том, как на основе этого приобретает свои очертания функция Я-Идеала. Я даже скажу, что вы сможете проинтерпретировать случай маленького Ганса лучше, чем смог это сделать Фрейд, потому что в его наблюдении есть колебание по поводу способа, с помощью которого можно идентифицировать то, что ребёнок называет большим жирафом и маленьким жирафом.
Как сказал месье Превер: «Большие жирафы безмолвны, маленькие жирафы редки».
Если даже это плохо истолковано в наблюдении, мы всё равно понимаем, о чём идёт речь. Не достаточно ли нам одного только факта, что несмотря на вопли большого жирафа, который, несомненно, является его матерью, маленький Ганс мнёт пальцами маленького жирафа и садится на него верхом?
27 февраля 1957
желание матери, которое в своей основе ненасытно (inassouvissable), ребёнок любым способом старается превратить себя в объект-обманку. Поскольку это желание невозможно насытить (assouvi), его предстоит обмануть. Отправной точкой пути, на котором собственное Я ребёнка обретает свою устойчивость, является стремление показать своей матери то, чем он не является.
Как показал Фрейд в своей последней статье о splitting, эти наиболее характерные этапы всегда отмечены исконной двойственностью субъекта и объекта. Поскольку ребёнок становится объектом для того, чтобы обмануть, он оказывается по отношению к другому в позиции, где интерсубъективные отношения уже полностью установлены. Это не тот примитивный вид приманки, который применяется в животном мире, где особь выставляет себя напоказ в ярком параде. Наоборот, субъект предполагает желание в другом. Это желание во второй степени, которое должно быть удовлетворено, но поскольку это желание удовлетворено быть не может, остаётся лишь обмануть его.
Мы постоянно забываем о том, что эксгибиционизм человека отличается от эксгибиционизма других существ, например, малиновки. Все дело в том, чтобы штаны в определённый момент расстегнуть, а потом застегнуть опять. Если нет штанов, нет и никакого эксгибиционизма.
Здесь мы обнаруживаем возможность регрессии. Эта ненасытная, неудовлетворённая мать, вокруг которой происходит нарциссическое восхождение ребенка по пути нарциссизма, является чем-то реальным: она налицо и, как и все ненасытные существа, ищет, кого поглотити, quaerens quem devoret. То, что сам ребёнок нашёл некогда как средство подавить свою символическую ненасытность, предстаёт теперь перед ним вновь в форме разверстой пасти. Образ оральной ситуации вновь обнаруживается здесь на уровне воображаемого сексуального удовлетворения. Зияющая дыра головы Медузы-Горгоны - это поглощающая фигура, с которой ребёнок может столкнуться в поиске удовлетворения матери.
Вот опасность, которую открывают нам эти фантазмы, - быть поглощённым. Мы встречаем её в самом начале и снова сталкиваемся с ней на том повороте, где она становится главной формой проявления фобии.
Мы находим всё это в страхах маленького Ганса. Теперь у нас есть возможность представить этот случай в чуть более ясных координатах. С опорой на то, что я изложил вам сегодня, вы сможете лучше увидеть отношения фобии и перверсии. Также вы лучше поймёте сказанное мной в прошлый раз о том, как на основе этого приобретает свои очертания функция Я-Идеала. Я даже скажу, что вы сможете проинтерпретировать случай маленького Ганса лучше, чем смог это сделать Фрейд, потому что в его наблюдении есть колебание по поводу способа, с помощью которого можно идентифицировать то, что ребёнок называет большим жирафом и маленьким жирафом.
Как сказал месье Превер: «Большие жирафы безмолвны, маленькие жирафы редки».
Если даже это плохо истолковано в наблюдении, мы всё равно понимаем, о чём идёт речь. Не достаточно ли нам одного только факта, что несмотря на вопли большого жирафа, который, несомненно, является его матерью, маленький Ганс мнёт пальцами маленького жирафа и садится на него верхом?
27 февраля 1957

 1
О чём мы говорим в конце доэдипальной фазы, в преддверии Эдипа?
Речь идёт о том, что ребёнок усваивает фаллос в качестве означающего и таким образом обращает его в инструмент символического порядка обменов, который определяет преемственность по линии рода. В общем-то, речь идёт о том, что он столкнётся с тем порядком, который превратит функцию отца в основной стержень драмы.
Это не так просто. По крайней мере, я рассказал на эту тему уже достаточно, чтобы, когда я говорю это не так просто, кое-что в вас на это откликалось; действительно, отец - это не так просто. Каким образом отец, его функция, его существование в плане символического, в означающем отец со всем тем глубоко проблематичным, что этот термин в себе несёт, занимает центральное положение в символической организации?
Это заставляет нас задуматься о вопросах, которые возникают по отношению к трём аспектам отцовской функции. В первый же год наших семинаров мы научились различать три измерения отцовского участия в конфликте: как отца символического, отца воображаемого и реального. И на примере случая человека-волка, которым мы занимались во второй половине года, мы обнаружили, что без проведения этого принципиально важного различия сориентироваться в наблюдении невозможно.
Принимая во внимание хронологический порядок, попробуем осмыслить вхождение ребёнка в Эдип из того пункта, к которому мы теперь подошли.
Мы оставили ребёнка в положении, где он старается стать приманкой для своей матери. Как я вам сказал, речь идёт не о простой приманке в этологическом смысле, в роль которой он был бы вовлечён целиком. В игре сексуального парада мы из позиции внешнего наблюдателя можем обнаружить воображаемые элементы как некоторые проявления, которые пленяют партнёра. Мы не знаем, до какой степени субъекты пользуются ими в качестве приманки, хотя знаем, что сами при случае можем ими воспользоваться, предъявляя желанию простого соперника столь же простые гербовые символы. Приманка, о которой идёт здесь речь, проявляет себя в действиях, в тех самых действиях, которые мы наблюдаем у маленького мальчика, например, в его действиях, направленных на соблазнение своей матери. Когда он выставляет себя напоказ, это не чистая и простая демонстрация, это демонстрация его самого им самим своей матери, которая участвует в качестве третьей стороны. К этому присоединяется то, что возникает позади матери, на что при благоприятном стечении обстоятельств мать может, так сказать, пойматься - искренность. Это уже полная троица, даже предварительно намеченная интерсубъективная четверица.
О чём в итоге идёт речь в Эдипе? О том, что субъект может сам пойматься на эту приманку таким образом, что оказывается вовлечённым в существующий порядок, который отличается от того измерения психологической приманки, через которое он прошёл и где мы его оставили.
Если аналитическая теория приписывает Эдипу нормализующую функцию, вспомним и то, чему учит нас опыт: одного приближения субъекта к выбору объекта недостаточно, нужно также, чтобы этот выбор был гетеросексуальным. Наш опыт учит нас также, что и гетеросексуальности недостаточно, чтобы соответствовать правилам, и кроме того, есть многочисленные формы создания видимости гетеросексуальности. Иногда действительно гетеросексуальные отношения могут скрывать позиционную
1
О чём мы говорим в конце доэдипальной фазы, в преддверии Эдипа?
Речь идёт о том, что ребёнок усваивает фаллос в качестве означающего и таким образом обращает его в инструмент символического порядка обменов, который определяет преемственность по линии рода. В общем-то, речь идёт о том, что он столкнётся с тем порядком, который превратит функцию отца в основной стержень драмы.
Это не так просто. По крайней мере, я рассказал на эту тему уже достаточно, чтобы, когда я говорю это не так просто, кое-что в вас на это откликалось; действительно, отец - это не так просто. Каким образом отец, его функция, его существование в плане символического, в означающем отец со всем тем глубоко проблематичным, что этот термин в себе несёт, занимает центральное положение в символической организации?
Это заставляет нас задуматься о вопросах, которые возникают по отношению к трём аспектам отцовской функции. В первый же год наших семинаров мы научились различать три измерения отцовского участия в конфликте: как отца символического, отца воображаемого и реального. И на примере случая человека-волка, которым мы занимались во второй половине года, мы обнаружили, что без проведения этого принципиально важного различия сориентироваться в наблюдении невозможно.
Принимая во внимание хронологический порядок, попробуем осмыслить вхождение ребёнка в Эдип из того пункта, к которому мы теперь подошли.
Мы оставили ребёнка в положении, где он старается стать приманкой для своей матери. Как я вам сказал, речь идёт не о простой приманке в этологическом смысле, в роль которой он был бы вовлечён целиком. В игре сексуального парада мы из позиции внешнего наблюдателя можем обнаружить воображаемые элементы как некоторые проявления, которые пленяют партнёра. Мы не знаем, до какой степени субъекты пользуются ими в качестве приманки, хотя знаем, что сами при случае можем ими воспользоваться, предъявляя желанию простого соперника столь же простые гербовые символы. Приманка, о которой идёт здесь речь, проявляет себя в действиях, в тех самых действиях, которые мы наблюдаем у маленького мальчика, например, в его действиях, направленных на соблазнение своей матери. Когда он выставляет себя напоказ, это не чистая и простая демонстрация, это демонстрация его самого им самим своей матери, которая участвует в качестве третьей стороны. К этому присоединяется то, что возникает позади матери, на что при благоприятном стечении обстоятельств мать может, так сказать, пойматься - искренность. Это уже полная троица, даже предварительно намеченная интерсубъективная четверица.
О чём в итоге идёт речь в Эдипе? О том, что субъект может сам пойматься на эту приманку таким образом, что оказывается вовлечённым в существующий порядок, который отличается от того измерения психологической приманки, через которое он прошёл и где мы его оставили.
Если аналитическая теория приписывает Эдипу нормализующую функцию, вспомним и то, чему учит нас опыт: одного приближения субъекта к выбору объекта недостаточно, нужно также, чтобы этот выбор был гетеросексуальным. Наш опыт учит нас также, что и гетеросексуальности недостаточно, чтобы соответствовать правилам, и кроме того, есть многочисленные формы создания видимости гетеросексуальности. Иногда действительно гетеросексуальные отношения могут скрывать позиционную атипичность, которую аналитическое исследование покажет происходящей из (на самом деле) гомосексуальной позиции. Поэтому субъекту для достижения гетеросексуальности ещё недостаточно пройти Эдип: субъект, девочка или мальчик, достигает гетеросексульности, если занимает надлежащее положение по отношению к функции отца. Вот центр всей проблематики Эдипа.
Мы уже указали на это с помощью особого подхода к объектным отношениям, который мы используем в этом году, и Фрейд отчётливо формулирует это в статье 1931 года о женской сексуальности - под углом доэдипальности женская проблематика выглядит гораздо проще. Тогда как гораздо более сложной она предстаёт у Фрейда лишь в связи с тем порядком, в котором он эту проблему исследовал. Фрейд действительно открывает Эдип раньше доэдипальности, могло ли быть иначе? Если мы говорим, что на уровне развития, определяемом как доэдипальный, женская позиция проще, то лишь постольку, поскольку заранее знаем, что должны в итоге прийти к сложной структуре комплекса Эдипа.
Мы могли бы сказать, что девочка более-менее расположила или приблизила к себе фаллос в воображаемом, где он и находится, по другую сторону матери, при постепенном обнаружении фундаментальной неудовлетворённости, которую испытывает мать в отношениях с ребенком. Таким образом, речь для неё идёт о скольжении фаллоса от воображаемого к реальному. Именно об этом толкует Фрейд, описывая тоску по подлинному фаллосу, которая начинается у маленькой девочки на уровне воображаемого, в зеркальном обращении к подобию, другой маленькой девочке или маленькому мальчику, и говоря нам, что ребёнок будет для неё заменителем фаллоса.
На самом деле это несколько усечённая форма того, что происходит в наблюдаемом явлении. Посмотрите на мой рисунок: здесь воображаемое, то есть материнское желание фаллоса, а вот ребёнок, наш центр, которому предстоит открыть лежащее по ту сторону - нехватку в материнском объекте. По крайней мере это один из возможных исходов: начиная с того момента, когда ребёнок входит в ситуацию и выходит из неё, усвоив её как возможную, всё вращается вокруг него.
НОСТАЛЬГИЯ ПО ФАЛЛОСУ
атипичность, которую аналитическое исследование покажет происходящей из (на самом деле) гомосексуальной позиции. Поэтому субъекту для достижения гетеросексуальности ещё недостаточно пройти Эдип: субъект, девочка или мальчик, достигает гетеросексульности, если занимает надлежащее положение по отношению к функции отца. Вот центр всей проблематики Эдипа.
Мы уже указали на это с помощью особого подхода к объектным отношениям, который мы используем в этом году, и Фрейд отчётливо формулирует это в статье 1931 года о женской сексуальности - под углом доэдипальности женская проблематика выглядит гораздо проще. Тогда как гораздо более сложной она предстаёт у Фрейда лишь в связи с тем порядком, в котором он эту проблему исследовал. Фрейд действительно открывает Эдип раньше доэдипальности, могло ли быть иначе? Если мы говорим, что на уровне развития, определяемом как доэдипальный, женская позиция проще, то лишь постольку, поскольку заранее знаем, что должны в итоге прийти к сложной структуре комплекса Эдипа.
Мы могли бы сказать, что девочка более-менее расположила или приблизила к себе фаллос в воображаемом, где он и находится, по другую сторону матери, при постепенном обнаружении фундаментальной неудовлетворённости, которую испытывает мать в отношениях с ребенком. Таким образом, речь для неё идёт о скольжении фаллоса от воображаемого к реальному. Именно об этом толкует Фрейд, описывая тоску по подлинному фаллосу, которая начинается у маленькой девочки на уровне воображаемого, в зеркальном обращении к подобию, другой маленькой девочке или маленькому мальчику, и говоря нам, что ребёнок будет для неё заменителем фаллоса.
На самом деле это несколько усечённая форма того, что происходит в наблюдаемом явлении. Посмотрите на мой рисунок: здесь воображаемое, то есть материнское желание фаллоса, а вот ребёнок, наш центр, которому предстоит открыть лежащее по ту сторону - нехватку в материнском объекте. По крайней мере это один из возможных исходов: начиная с того момента, когда ребёнок входит в ситуацию и выходит из неё, усвоив её как возможную, всё вращается вокруг него.
НОСТАЛЬГИЯ ПО ФАЛЛОСУ Но что на самом деле мы обнаруживаем в фантазме и маленькой девочки, и маленького мальчика? Поскольку ситуация вращается вокруг ребёнка, маленькая девочка находит реальный пенис там, где он и есть, по другую сторону, у того, кто может подарить ей ребёнка, а именно, говорит нам Фрейд, у отца. И лишь поскольку она не имеет его в наличии, поскольку она от него в этом плане определённо отказывается,
Но что на самом деле мы обнаруживаем в фантазме и маленькой девочки, и маленького мальчика? Поскольку ситуация вращается вокруг ребёнка, маленькая девочка находит реальный пенис там, где он и есть, по другую сторону, у того, кто может подарить ей ребёнка, а именно, говорит нам Фрейд, у отца. И лишь поскольку она не имеет его в наличии, поскольку она от него в этом плане определённо отказывается, сможет она получить его как дар от отца. Вот почему, говорит нам Фрейд, именно посредством отношений с фаллосом маленькая девочка входит в Эдип и делает это, как вы видите, простым способом. В дальнейшем фаллосу только и останется, что скользить от воображаемого к реальному как некоему эквиваленту - этот же термин Фрейд использует в статье 1925 года об анатомическом различии полов - Nun aber gleitet die Libido des Mädchens - man kann nur sagen: längs der vorgezeichneten symbolischen Gleichung Penis = Kind. Таким образом, маленькая девочка уже в достаточной мере вступает в Эдип.
Я не говорю, что не может произойти многое другое, способное обусловить аномалии развития женской сексуальности, но то, что есть точно, так это фиксация на реальном отце как обладателе реального пениса, как на том, кто реально может подарить ребёнка. Этого уже вполне достаточно, чтобы в конечном счете можно было сказать, что пройти путём интеграции в нормальное гетеросексуальное положение Эдипа женщине гораздо проще, даже если этот самый Эдип и влечёт за собой всевозможные осложнения и тупики в развитии женской сексуальности.
Такая большая простота, очевидно, не должна нас удивлять, поскольку Эдип, в сущности, андроцентричен или патроцентричен. Подобная асимметрия вызывает всевозможные квазиисторические умозаключения, которые подталкивают нас искать причину неравенства на социологическом или этнографическом уровне. Фрейдовское открытие, позволив проанализировать субъективный опыт, обнаруживает женщину в позиции, которая, поскольку я говорил о символическом распорядке или упорядоченности, этому порядку подчинена. Отец для неё является прежде всего объектом любви, то есть объектом чувства, которое направлено к элементу нехватки в объекте, поскольку именно эта нехватка указала на путь, который привёл её к этому объекту, к отцу. Этот объект любви становится впоследствии тем, кто даёт объект удовлетворения, объект, появляющийся в процессе естественного деторождения. В дальнейшем ей потребуется лишь немного терпения, пока на место отца не придёт другой, кто его заменит, исполняя ту же самую роль, роль отца, действительно дающего ей ребёнка.
Мы ещё вернёмся к этой особенности, которая задаёт специфику развития женского Сверх-Я. Существует некоторый баланс, прекрасно отмеченный Гансом Заксом, между отказом от фаллоса и преобладанием нарциссического отношения в развитии женщины. На самом деле единожды отказавшись от фаллоса, она отрекается от возможности обладания им как принадлежностью, и он становится принадлежностью того, на кого с этого момента обращена её любовь, то есть отца, от которого теперь ожидается ребёнок. Ожидание подарка ставит девочку в положение особой зависимости, которая, как замечают многие авторы, парадоксальным образом заставляет проявиться в этот момент фиксации, чётко определяемые как нарциссические. Она становится существом наиболее нетерпимым к определённого рода фрустрации. Мы, возможно, вернёмся к этому попозже в процессе обсуждения идеала женской моногамии.
Упрощённое сведение всей ситуации к идентификации с объектом любви и к объекту удовлетворения потребности объясняет также сторону развития женщины, застывшую, преждевременно остановленную по отношению к ходу развития, который можно характеризовать как нормальный. В некоторых местах своих сочинений Фрейд переходит на особый женоненавистнический тон, горько сетуя на большие трудности,
сможет она получить его как дар от отца. Вот почему, говорит нам Фрейд, именно посредством отношений с фаллосом маленькая девочка входит в Эдип и делает это, как вы видите, простым способом. В дальнейшем фаллосу только и останется, что скользить от воображаемого к реальному как некоему эквиваленту - этот же термин Фрейд использует в статье 1925 года об анатомическом различии полов - Nun aber gleitet die Libido des Mädchens - man kann nur sagen: längs der vorgezeichneten symbolischen Gleichung Penis = Kind. Таким образом, маленькая девочка уже в достаточной мере вступает в Эдип.
Я не говорю, что не может произойти многое другое, способное обусловить аномалии развития женской сексуальности, но то, что есть точно, так это фиксация на реальном отце как обладателе реального пениса, как на том, кто реально может подарить ребёнка. Этого уже вполне достаточно, чтобы в конечном счете можно было сказать, что пройти путём интеграции в нормальное гетеросексуальное положение Эдипа женщине гораздо проще, даже если этот самый Эдип и влечёт за собой всевозможные осложнения и тупики в развитии женской сексуальности.
Такая большая простота, очевидно, не должна нас удивлять, поскольку Эдип, в сущности, андроцентричен или патроцентричен. Подобная асимметрия вызывает всевозможные квазиисторические умозаключения, которые подталкивают нас искать причину неравенства на социологическом или этнографическом уровне. Фрейдовское открытие, позволив проанализировать субъективный опыт, обнаруживает женщину в позиции, которая, поскольку я говорил о символическом распорядке или упорядоченности, этому порядку подчинена. Отец для неё является прежде всего объектом любви, то есть объектом чувства, которое направлено к элементу нехватки в объекте, поскольку именно эта нехватка указала на путь, который привёл её к этому объекту, к отцу. Этот объект любви становится впоследствии тем, кто даёт объект удовлетворения, объект, появляющийся в процессе естественного деторождения. В дальнейшем ей потребуется лишь немного терпения, пока на место отца не придёт другой, кто его заменит, исполняя ту же самую роль, роль отца, действительно дающего ей ребёнка.
Мы ещё вернёмся к этой особенности, которая задаёт специфику развития женского Сверх-Я. Существует некоторый баланс, прекрасно отмеченный Гансом Заксом, между отказом от фаллоса и преобладанием нарциссического отношения в развитии женщины. На самом деле единожды отказавшись от фаллоса, она отрекается от возможности обладания им как принадлежностью, и он становится принадлежностью того, на кого с этого момента обращена её любовь, то есть отца, от которого теперь ожидается ребёнок. Ожидание подарка ставит девочку в положение особой зависимости, которая, как замечают многие авторы, парадоксальным образом заставляет проявиться в этот момент фиксации, чётко определяемые как нарциссические. Она становится существом наиболее нетерпимым к определённого рода фрустрации. Мы, возможно, вернёмся к этому попозже в процессе обсуждения идеала женской моногамии.
Упрощённое сведение всей ситуации к идентификации с объектом любви и к объекту удовлетворения потребности объясняет также сторону развития женщины, застывшую, преждевременно остановленную по отношению к ходу развития, который можно характеризовать как нормальный. В некоторых местах своих сочинений Фрейд переходит на особый женоненавистнический тон, горько сетуя на большие трудности, которые необходимо преодолеть, по крайней мере в случае некоторых субъектов женского пола, чтобы хоть как-то их мобилизовать и заставить продвинуться дальше морали, как он говорит, супа и фрикаделек, где они чрезвычайно властно требуют, например, удовлетворения от самого анализа.
Я всего лишь указываю на некоторые предпосылки, и мы ещё вернёмся к тому, как Фрейд представил развитие в разговоре о женской сексуальности, сегодня же мы обратимся к ситуации мальчика.
В случае мальчика работа Эдипа выглядит гораздо более чётко ориентированной на то, чтобы обеспечить субъекту идентификацию со своим собственным полом, что в целом происходит в идеальных, воображаемых отношениях с отцом. Но это не является истинной целью Эдипа, которая заключается в том, чтобы точно сориентировать субъекта относительно функции отца, то есть в том, чтобы однажды он смог допустить для себя самого эту столь парадоксальную и проблематичную позицию - быть отцом, доступ к которой, наоборот, преподносит целую гору трудностей.
Мы всё меньше и меньше интересуемся Эдипом не потому, что не замечаем этой горы трудностей, мы отворачиваемся от него именно потому, что видим её.
Всё фрейдовское вопрошание - не только в его учении, но и в его собственном субъективном, Фрейда, опыте, - которое может быть прослежено нами благодаря тому доверию, которое он нам оказывает, открывая свои сновидения, показывая развитие своей мысли, и также благодаря тому, что мы знаем на данный момент о его жизни, о его привычках и даже отношениях в его семье, о которых Месье Джонс в специфической, но доходчивой манере нам более-менее полно поведал, - всё фрейдовское вопрошание сводится к следующему: «Каково это, быть отцом?»
Это было для него центральной проблемой, плодотворным пунктом, который по-настоящему сориентировал всё его исследование.
Обратите внимание, что эта проблема, актуальная для каждого невротика, также наблюдается и в детском опыте каждого не невротика. Кто такой отец? С этим вопросом можно приблизиться к проблеме означающего отца, но не будем забывать, что субъекты всё-таки им становятся, превращаясь в отцов. Поставить вопрос Кто такой отец? это нечто иное, нежели им быть и получить доступ к отцовской позиции. Присмотримся к этому повнимательнее. Если для каждого мужчины это достижение отцовской позиции является таким испытанием, не так уж немыслимо утверждать, что в итоге никто и никогда полностью в неё не попадал.
В предполагаемой нами диалектике нужно исходить из того, что где-то есть тот, кто уверенно претендует на позицию отца, что кто-то может сказать: «Я отец, я им являюсь». Такое предположение является сутью всей эдипальной диалектики, но это никоим образом не проясняет вопроса особой интерсубъективной позиции того, кто для других, и особенно для ребёнка, эту роль исполняет.
Так вот, давайте вернёмся к маленькому Гансу.
2
В этом случае - целый мир. Неспроста из пяти психоанализов я оставил комментарии к нему напоследок.
Первые страницы наблюдения точно описывают уровень, который мы обсуждали в прошлый раз, и Фрейд излагает вещи в таком порядке не без причины. Первый вопрос
которые необходимо преодолеть, по крайней мере в случае некоторых субъектов женского пола, чтобы хоть как-то их мобилизовать и заставить продвинуться дальше морали, как он говорит, супа и фрикаделек, где они чрезвычайно властно требуют, например, удовлетворения от самого анализа.
Я всего лишь указываю на некоторые предпосылки, и мы ещё вернёмся к тому, как Фрейд представил развитие в разговоре о женской сексуальности, сегодня же мы обратимся к ситуации мальчика.
В случае мальчика работа Эдипа выглядит гораздо более чётко ориентированной на то, чтобы обеспечить субъекту идентификацию со своим собственным полом, что в целом происходит в идеальных, воображаемых отношениях с отцом. Но это не является истинной целью Эдипа, которая заключается в том, чтобы точно сориентировать субъекта относительно функции отца, то есть в том, чтобы однажды он смог допустить для себя самого эту столь парадоксальную и проблематичную позицию - быть отцом, доступ к которой, наоборот, преподносит целую гору трудностей.
Мы всё меньше и меньше интересуемся Эдипом не потому, что не замечаем этой горы трудностей, мы отворачиваемся от него именно потому, что видим её.
Всё фрейдовское вопрошание - не только в его учении, но и в его собственном субъективном, Фрейда, опыте, - которое может быть прослежено нами благодаря тому доверию, которое он нам оказывает, открывая свои сновидения, показывая развитие своей мысли, и также благодаря тому, что мы знаем на данный момент о его жизни, о его привычках и даже отношениях в его семье, о которых Месье Джонс в специфической, но доходчивой манере нам более-менее полно поведал, - всё фрейдовское вопрошание сводится к следующему: «Каково это, быть отцом?»
Это было для него центральной проблемой, плодотворным пунктом, который по-настоящему сориентировал всё его исследование.
Обратите внимание, что эта проблема, актуальная для каждого невротика, также наблюдается и в детском опыте каждого не невротика. Кто такой отец? С этим вопросом можно приблизиться к проблеме означающего отца, но не будем забывать, что субъекты всё-таки им становятся, превращаясь в отцов. Поставить вопрос Кто такой отец? это нечто иное, нежели им быть и получить доступ к отцовской позиции. Присмотримся к этому повнимательнее. Если для каждого мужчины это достижение отцовской позиции является таким испытанием, не так уж немыслимо утверждать, что в итоге никто и никогда полностью в неё не попадал.
В предполагаемой нами диалектике нужно исходить из того, что где-то есть тот, кто уверенно претендует на позицию отца, что кто-то может сказать: «Я отец, я им являюсь». Такое предположение является сутью всей эдипальной диалектики, но это никоим образом не проясняет вопроса особой интерсубъективной позиции того, кто для других, и особенно для ребёнка, эту роль исполняет.
Так вот, давайте вернёмся к маленькому Гансу.
2
В этом случае - целый мир. Неспроста из пяти психоанализов я оставил комментарии к нему напоследок.
Первые страницы наблюдения точно описывают уровень, который мы обсуждали в прошлый раз, и Фрейд излагает вещи в таком порядке не без причины. Первый вопрос касается вивимахера, Wiwimacher, что на французский переведено как делатель пипи (fait-pipi ). Если следовать за Фрейдом побуквенно, то маленький Ганс занят не просто вопросом своего вивимахера, он интересуется вивимахерами и других живых существ, в особенности тех, которые старше и больше, чем он.
Вы уже видели соответствующие замечания о последовательности, в которой ребёнок задаёт вопросы. Сначала он спрашивает у матери: «У тебя тоже есть вивимахер?» Мы ещё поговорим о том, что отвечает ему мать. Тогда Ганс выдаёт: «Да, я так и думал...», - то есть он уже неплохо соображает. Затем он задаёт вопрос отцу, потом забавляется, увидев вивимахер льва, и это отнюдь не случайность. Тогда, то есть до появления фобии, он чётко отмечает, что если у матери, как она без зазрения совести утверждает, есть вивимахер, то, по его мнению, это должно быть заметно. И действительно, как-то вечером, вскоре после этих расспросов, он застаёт её раздевающейся и высказывает мнение, что если бы у неё был вивимахер, то он должен был бы быть такой же большой, как у лошади.
Слово Vergleichung переведено на французский как сравнение (comparaison). Тогда как слово уравнивание (péréquation), кажется, подходит лучше, если не в строгом его смысле, то по крайней мере в экономическом. В перспективе воображаемого фаллицизма, где мы оставили субъекта в прошлый раз, речь действительно идёт об усилии, направленном на уравнивание некоего абсолютного объекта и фаллоса, и о проверке реальности его существования. Это уже не ставка пан или пропал. До сего момента субъект играл в боннето, в прятки (cache-cache), фаллос никогда не оказывался там, где его ищут, и никогда там, где его находят. Теперь речь идёт о том, чтобы выяснить, где он на самом деле.
Ребёнок до этого момента был тем, кто притворяется или разыгрывает притворство. Не случайно, что чуть позже в случае маленького Ганса, как это замечают и Фрейд, и родители, в первом сновидении с элементом деформации и смещения фигурирует игра в фанты. Если вы вспомните представленную мной на прошлой нашей встрече диалектику воображаемого, вас поразит, насколько она здесь на поверхности, на этапе развития маленького Ганса, который предшествовал появлению фобии. Всё в наличии, включая фантазматических детей. Внезапно после рождения младшей сестры появляется множество маленьких воображаемых девочек, о которых он заботится совершенно как о своих детях. Почти непреднамеренно складывается полная картина воображаемой игры. Речь идёт о нуждающейся в преодолении дистанции, которая отделяет того, кто притворяется, от того, кто знает, что обладает могуществом.
Что для нас открывает это первое приближение Ганса к эдипальным отношениям? То, что обыгрывается в акте уравнивания, не позволяет нам покинуть план воображаемого. Игра продолжается в плане приманки. Ребёнок лишь прибавил к этим измерениям материнскую модель: образ больших масштабов, но по сути своей однородный (homogène). Если эдипальная диалектика останется для него ограниченной этими пределами, то он никогда не будет иметь дело ни с кем, кроме своего двойника, двойника больших масштабов. Введение, вполне мыслимое, материнского образа в идеальной форме собственного Я (la forme idéale du moi) погружает нас в воображаемую диалектику зеркальных отношений субъекта с маленьким другим, где мы остаёмся в пределах действия логики или-или - или я, или он, - связанной с первой символической диалектикой присутствия-отсутствия. Мы не выходим из игры чёт-нечет, мы не покидаем плана приманки. Что из этого следует?
касается вивимахера, Wiwimacher, что на французский переведено как делатель пипи (fait-pipi ). Если следовать за Фрейдом побуквенно, то маленький Ганс занят не просто вопросом своего вивимахера, он интересуется вивимахерами и других живых существ, в особенности тех, которые старше и больше, чем он.
Вы уже видели соответствующие замечания о последовательности, в которой ребёнок задаёт вопросы. Сначала он спрашивает у матери: «У тебя тоже есть вивимахер?» Мы ещё поговорим о том, что отвечает ему мать. Тогда Ганс выдаёт: «Да, я так и думал...», - то есть он уже неплохо соображает. Затем он задаёт вопрос отцу, потом забавляется, увидев вивимахер льва, и это отнюдь не случайность. Тогда, то есть до появления фобии, он чётко отмечает, что если у матери, как она без зазрения совести утверждает, есть вивимахер, то, по его мнению, это должно быть заметно. И действительно, как-то вечером, вскоре после этих расспросов, он застаёт её раздевающейся и высказывает мнение, что если бы у неё был вивимахер, то он должен был бы быть такой же большой, как у лошади.
Слово Vergleichung переведено на французский как сравнение (comparaison). Тогда как слово уравнивание (péréquation), кажется, подходит лучше, если не в строгом его смысле, то по крайней мере в экономическом. В перспективе воображаемого фаллицизма, где мы оставили субъекта в прошлый раз, речь действительно идёт об усилии, направленном на уравнивание некоего абсолютного объекта и фаллоса, и о проверке реальности его существования. Это уже не ставка пан или пропал. До сего момента субъект играл в боннето, в прятки (cache-cache), фаллос никогда не оказывался там, где его ищут, и никогда там, где его находят. Теперь речь идёт о том, чтобы выяснить, где он на самом деле.
Ребёнок до этого момента был тем, кто притворяется или разыгрывает притворство. Не случайно, что чуть позже в случае маленького Ганса, как это замечают и Фрейд, и родители, в первом сновидении с элементом деформации и смещения фигурирует игра в фанты. Если вы вспомните представленную мной на прошлой нашей встрече диалектику воображаемого, вас поразит, насколько она здесь на поверхности, на этапе развития маленького Ганса, который предшествовал появлению фобии. Всё в наличии, включая фантазматических детей. Внезапно после рождения младшей сестры появляется множество маленьких воображаемых девочек, о которых он заботится совершенно как о своих детях. Почти непреднамеренно складывается полная картина воображаемой игры. Речь идёт о нуждающейся в преодолении дистанции, которая отделяет того, кто притворяется, от того, кто знает, что обладает могуществом.
Что для нас открывает это первое приближение Ганса к эдипальным отношениям? То, что обыгрывается в акте уравнивания, не позволяет нам покинуть план воображаемого. Игра продолжается в плане приманки. Ребёнок лишь прибавил к этим измерениям материнскую модель: образ больших масштабов, но по сути своей однородный (homogène). Если эдипальная диалектика останется для него ограниченной этими пределами, то он никогда не будет иметь дело ни с кем, кроме своего двойника, двойника больших масштабов. Введение, вполне мыслимое, материнского образа в идеальной форме собственного Я (la forme idéale du moi) погружает нас в воображаемую диалектику зеркальных отношений субъекта с маленьким другим, где мы остаёмся в пределах действия логики или-или - или я, или он, - связанной с первой символической диалектикой присутствия-отсутствия. Мы не выходим из игры чёт-нечет, мы не покидаем плана приманки. Что из этого следует? Мы понимаем это благодаря теоретической и в то же время показательной модели - в этой уникальной ситуации мы видим, как возникает симптом, появляется тревога, говорит нам Фрейд.
Он с самого начала наблюдения чётко различает тревогу и фобию. Не случайно далее следуют друг за другом две вещи - и, без всякого сомнения, одна приходит на смену другой - фобический объект начинает исполнять свою функцию на почве тревоги. Но на воображаемом уровне ничто не располагает к прыжку, в результате которого ребёнок способен выскочить из этой игры в приманку для своей матери, где он играет роль того, кто является всем или ничем, удовлетворяющим или неудовлетворяющим -и где, конечно же, сам факт поставленного таким образом вопроса обнажает план принципиальной неудовлетворимости.
Это и есть первая упрощённая схема вхождения в Эдип - едва ли не братское соперничество с отцом. Мы же видим здесь гораздо большее количество нюансов, нежели обычно принято полагать. На самом деле агрессивность, о которой идёт здесь речь, происходит из игры в поле зеркальных отношений, для которой главной пружиной всегда является логика или я, или другой. С другой стороны, остаётся неизменной фиксация на матери, ставшей после первых фрустраций реальным объектом. Именно потому, что такая стадия существует, а точнее в силу того, что центральный опыт Эдипа располагается на уровне воображаемого, этот комплекс в дальнейшем простирается во всех своих невротических последствиях на тысячи аспектов аналитической реальности.
Именно здесь мы видим включение такого важного термина фрейдовского опыта, как унижение в любовной жизни, которому Фрейд посвятил специальное исследование. Из-за постоянной привязанности субъекта к этому первичному реальному фрустрирующему объекту, матери, любой другой женский объект будет для него не более, чем объект обесцененный, суррогатный, нарушенный, всегда недостаточно полный по сравнению с первым материнским объектом. Чуть позже мы увидим, как это можно осмыслить.
Однако давайте не будем забывать, что долгосрочные последствия, связанные с воображаемой пружиной, которую Эдипов комплекс приводит в действие, - это ещё не всё. Как правило, и это сформулировано во фрейдовском учении с самого начала, в природу комплекса Эдипа включено его разрешение. Когда Фрейд сообщает нам это, он говорит, что отодвигание враждебности к отцу на задний план мы можем обоснованно связать с вытеснением. Но в том же предложении он подчёркивает, что понятие вытеснения применяется обычно к конкретной исторически артикулированной ситуации, а не к постоянному отношению. В дальнейшем он признаёт возможность применить здесь термин вытеснение в расширенном смысле, но имейте в виду, что угасание эдипова комплекса, его уничтожение и разрушение, происходящее, как правило, в промежутке с пяти до пяти с половиной лет, представляет из себя нечто иное, нежели мы полагали до сих пор, нечто иное, нежели воображаемое стирание или ослабление исконных и постоянных по своей природе отношений. Здесь есть кризис и есть его разрешение. В результате этого события появляется и регистрируется в бессознательном особого рода образование, а именно Сверх-Я.
Короче говоря, мы здесь сталкиваемся с необходимостью обнаружить нечто новое и оригинальное, что находило бы в эдипальных отношениях свое разрешение. Чтобы его увидеть, достаточно обратиться к привычной нам схеме.
Мы понимаем это благодаря теоретической и в то же время показательной модели - в этой уникальной ситуации мы видим, как возникает симптом, появляется тревога, говорит нам Фрейд.
Он с самого начала наблюдения чётко различает тревогу и фобию. Не случайно далее следуют друг за другом две вещи - и, без всякого сомнения, одна приходит на смену другой - фобический объект начинает исполнять свою функцию на почве тревоги. Но на воображаемом уровне ничто не располагает к прыжку, в результате которого ребёнок способен выскочить из этой игры в приманку для своей матери, где он играет роль того, кто является всем или ничем, удовлетворяющим или неудовлетворяющим -и где, конечно же, сам факт поставленного таким образом вопроса обнажает план принципиальной неудовлетворимости.
Это и есть первая упрощённая схема вхождения в Эдип - едва ли не братское соперничество с отцом. Мы же видим здесь гораздо большее количество нюансов, нежели обычно принято полагать. На самом деле агрессивность, о которой идёт здесь речь, происходит из игры в поле зеркальных отношений, для которой главной пружиной всегда является логика или я, или другой. С другой стороны, остаётся неизменной фиксация на матери, ставшей после первых фрустраций реальным объектом. Именно потому, что такая стадия существует, а точнее в силу того, что центральный опыт Эдипа располагается на уровне воображаемого, этот комплекс в дальнейшем простирается во всех своих невротических последствиях на тысячи аспектов аналитической реальности.
Именно здесь мы видим включение такого важного термина фрейдовского опыта, как унижение в любовной жизни, которому Фрейд посвятил специальное исследование. Из-за постоянной привязанности субъекта к этому первичному реальному фрустрирующему объекту, матери, любой другой женский объект будет для него не более, чем объект обесцененный, суррогатный, нарушенный, всегда недостаточно полный по сравнению с первым материнским объектом. Чуть позже мы увидим, как это можно осмыслить.
Однако давайте не будем забывать, что долгосрочные последствия, связанные с воображаемой пружиной, которую Эдипов комплекс приводит в действие, - это ещё не всё. Как правило, и это сформулировано во фрейдовском учении с самого начала, в природу комплекса Эдипа включено его разрешение. Когда Фрейд сообщает нам это, он говорит, что отодвигание враждебности к отцу на задний план мы можем обоснованно связать с вытеснением. Но в том же предложении он подчёркивает, что понятие вытеснения применяется обычно к конкретной исторически артикулированной ситуации, а не к постоянному отношению. В дальнейшем он признаёт возможность применить здесь термин вытеснение в расширенном смысле, но имейте в виду, что угасание эдипова комплекса, его уничтожение и разрушение, происходящее, как правило, в промежутке с пяти до пяти с половиной лет, представляет из себя нечто иное, нежели мы полагали до сих пор, нечто иное, нежели воображаемое стирание или ослабление исконных и постоянных по своей природе отношений. Здесь есть кризис и есть его разрешение. В результате этого события появляется и регистрируется в бессознательном особого рода образование, а именно Сверх-Я.
Короче говоря, мы здесь сталкиваемся с необходимостью обнаружить нечто новое и оригинальное, что находило бы в эдипальных отношениях свое разрешение. Чтобы его увидеть, достаточно обратиться к привычной нам схеме. В пункте, на котором мы остановились в прошлый раз, ребёнок предлагает матери фаллический воображаемый объект, чтобы обеспечить её полное удовлетворение, и делает это в форме приманки. Тем не менее эксгибиционизм маленького мальчика перед матерью имеет смысл только при участии, наряду с матерью, большого Другого, который выступает своего рода свидетелем, тем, кто видит ситуацию целиком. Его присутствие подразумевается уже в самом факте презентации или даже подношения (offrande) маленького мальчика своей матери. Поэтому, чтобы Эдип имел место, именно на уровне большого Другого должен появиться термин, который до сих пор не вступал в игру, кто-то, кто всегда и при любых обстоятельствах готов вступить в игру и одержать верх.
ПРИСУТСТВИЕ ДРУГОГО
В пункте, на котором мы остановились в прошлый раз, ребёнок предлагает матери фаллический воображаемый объект, чтобы обеспечить её полное удовлетворение, и делает это в форме приманки. Тем не менее эксгибиционизм маленького мальчика перед матерью имеет смысл только при участии, наряду с матерью, большого Другого, который выступает своего рода свидетелем, тем, кто видит ситуацию целиком. Его присутствие подразумевается уже в самом факте презентации или даже подношения (offrande) маленького мальчика своей матери. Поэтому, чтобы Эдип имел место, именно на уровне большого Другого должен появиться термин, который до сих пор не вступал в игру, кто-то, кто всегда и при любых обстоятельствах готов вступить в игру и одержать верх.
ПРИСУТСТВИЕ ДРУГОГО Модель игры в фанты можно обнаружить в тысячах наблюдений за детской активностью, и мы постоянно встречаем её черты в случае маленького Ганса. Когда, например, он вдруг закрывается в темной маленькой кладовке, которая тотчас превращается в его собственный туалет, хотя до этого он уже сходил в общий. Есть момент, когда всё приходит в неустойчивое положение и осуществляется переход в дополнительное, ожидаемое нами, измерение игры - в план символических отношений. То, что до этого было только воззванием и призывом (appel et rappel), характерным для отношений с символической матерью, о чём я говорил вам в прошлый раз, становится представлением о существовании на уровне большого Другого того, кто всегда способен ответить и кто отвечает, что фаллосом, истинным, реальным пенисом при любом положении дел обладает он. Он тот, у кого главный козырь, и он это знает. Он вступает в символический порядок как реальный элемент, обратный начальной позиции матери, символизированной в реальном своим присутствием и отсутствием.
До этого момента объект одновременно был там и его там не было. Исходным пунктом отношений с любым объектом является одновременное присутствие и отсутствие, у субъекта была возможность играть в присутствие и отсутствие объекта. Начиная с этого поворотного момента, объект больше не тот воображаемый объект, при помощи которого субъект может заманивать (leurrer), но это уже объект, на который навсегда распространяется власть большого Другого показать, что субъект им не обладает или обладает им в недостаточной степени. Если кастрация играет принципиальную для всего последующего развития роль, то происходит это из необходимости допустить наличие материнского фаллоса в качестве символического объекта. Только исходя из этого принципиального для эдипального опыта факта лишения объекта кем-то, кто этим объектом обладает и знает о том, что им обладает, и обладает им при любом положении дел, ребёнок способен предположить, что когда-то этот символический объект будет ему подарен.
Модель игры в фанты можно обнаружить в тысячах наблюдений за детской активностью, и мы постоянно встречаем её черты в случае маленького Ганса. Когда, например, он вдруг закрывается в темной маленькой кладовке, которая тотчас превращается в его собственный туалет, хотя до этого он уже сходил в общий. Есть момент, когда всё приходит в неустойчивое положение и осуществляется переход в дополнительное, ожидаемое нами, измерение игры - в план символических отношений. То, что до этого было только воззванием и призывом (appel et rappel), характерным для отношений с символической матерью, о чём я говорил вам в прошлый раз, становится представлением о существовании на уровне большого Другого того, кто всегда способен ответить и кто отвечает, что фаллосом, истинным, реальным пенисом при любом положении дел обладает он. Он тот, у кого главный козырь, и он это знает. Он вступает в символический порядок как реальный элемент, обратный начальной позиции матери, символизированной в реальном своим присутствием и отсутствием.
До этого момента объект одновременно был там и его там не было. Исходным пунктом отношений с любым объектом является одновременное присутствие и отсутствие, у субъекта была возможность играть в присутствие и отсутствие объекта. Начиная с этого поворотного момента, объект больше не тот воображаемый объект, при помощи которого субъект может заманивать (leurrer), но это уже объект, на который навсегда распространяется власть большого Другого показать, что субъект им не обладает или обладает им в недостаточной степени. Если кастрация играет принципиальную для всего последующего развития роль, то происходит это из необходимости допустить наличие материнского фаллоса в качестве символического объекта. Только исходя из этого принципиального для эдипального опыта факта лишения объекта кем-то, кто этим объектом обладает и знает о том, что им обладает, и обладает им при любом положении дел, ребёнок способен предположить, что когда-то этот символический объект будет ему подарен. Другими словами, формирование самого символа мужественной позиции, гетеросексуальной маскулинности, изначально подразумевает кастрацию. Этому нас учит фрейдовское понятие Эдипа. Именно потому, что мужчина, в отличие от женщины, действительно располагает естественным довеском, что пенис принадлежит ему, необходимо, чтобы он получил его от кого-то другого, кто является реальным в символическом, то есть от настоящего отца. Вот почему никто не может ничего сказать о том, что в действительности значит быть отцом - ясно одно: это нечто такое, что находится в игре заранее. Только игра с отцом, игра проигравшего победителя, если можно так сказать, позволяет ребёнку найти тот путь, на котором возникнет в нём первая запись закона.
3
Кем становится субъект этой драмы?
Как это описано в диалектике Фрейда, он - маленький преступник. Именно по дороге воображаемого преступления вступает он в порядок закона. Но он может попасть в этот порядок закона, только если хотя бы на одно мгновение встретит реального партнёра, который действительно привнесёт нечто на уровне большого Другого, нечто такое, что не является простым воззванием и призывом, парой присутствия и отсутствия, элементом, кардинально ничтожащим символическое - если он встретит того, кто ему ответит.
Но если мы получаем здесь сюжет в плане воображаемой драмы, то этот опыт должен быть устроен именно на уровне воображаемой игры. Недаром требуемое измерение абсолютной инаковости того, кто просто обладает могуществом и соответствует ему, ни в каком конкретном диалоге не возникает. Оно воплощено в реальных персонажах, но эти реальные персонажи сами по себе всегда зависят от чего-то, представляющего из себя в конечном счёте вечное алиби. Единственный, кто может абсолютно соответствовать позиции символического отца, - это тот, кто может сказать, как Бог монотеизма: «Я есмь тот, кто я есмь». Но эту фразу, которую мы находим в священном тексте, больше никто не может произнести.
Тогда вы мне скажете: «Вы научили нас, что мы получаем своё собственное послание в обращённой форме, и это всё объясняет». Ты еси тот, кто есть. Не обманывайтесь: кто я, чтобы сказать такое кому-либо другому?Иными словами, здесь я хочу вам указать на то, что символический отец, собственно говоря, немыслим.
Символического отца нет нигде, и он никуда не вмешивается.
Доказательства этому можно найти в той же книге Фрейда. Нужен был весь свойственный Фрейду дух научного и позитивистского мышления, чтобы создать эту конструкцию, которую, по заверению Джонса, Фрейд ценил в своем творчестве больше всего. Он не выдвигал её на первый план, потому что его главное произведение одно, -он его написал, утвердил и никогда не отступал от него - это Толкование сновидений; но самой дорогой для него была работа Тотем и табу, которую он считал высшей своей удачей и достижением, работа, которая является не чем иным как современным мифом, призванным объяснить то, что оставалось в его учении явным пробелом - вопрос Где отец?
Достаточно открыть глаза и прочитать Тотем и табу, чтобы понять - если это не является тем, о чём я говорю, то есть мифом, то это совершенный абсурд. Работа Тотем
Другими словами, формирование самого символа мужественной позиции, гетеросексуальной маскулинности, изначально подразумевает кастрацию. Этому нас учит фрейдовское понятие Эдипа. Именно потому, что мужчина, в отличие от женщины, действительно располагает естественным довеском, что пенис принадлежит ему, необходимо, чтобы он получил его от кого-то другого, кто является реальным в символическом, то есть от настоящего отца. Вот почему никто не может ничего сказать о том, что в действительности значит быть отцом - ясно одно: это нечто такое, что находится в игре заранее. Только игра с отцом, игра проигравшего победителя, если можно так сказать, позволяет ребёнку найти тот путь, на котором возникнет в нём первая запись закона.
3
Кем становится субъект этой драмы?
Как это описано в диалектике Фрейда, он - маленький преступник. Именно по дороге воображаемого преступления вступает он в порядок закона. Но он может попасть в этот порядок закона, только если хотя бы на одно мгновение встретит реального партнёра, который действительно привнесёт нечто на уровне большого Другого, нечто такое, что не является простым воззванием и призывом, парой присутствия и отсутствия, элементом, кардинально ничтожащим символическое - если он встретит того, кто ему ответит.
Но если мы получаем здесь сюжет в плане воображаемой драмы, то этот опыт должен быть устроен именно на уровне воображаемой игры. Недаром требуемое измерение абсолютной инаковости того, кто просто обладает могуществом и соответствует ему, ни в каком конкретном диалоге не возникает. Оно воплощено в реальных персонажах, но эти реальные персонажи сами по себе всегда зависят от чего-то, представляющего из себя в конечном счёте вечное алиби. Единственный, кто может абсолютно соответствовать позиции символического отца, - это тот, кто может сказать, как Бог монотеизма: «Я есмь тот, кто я есмь». Но эту фразу, которую мы находим в священном тексте, больше никто не может произнести.
Тогда вы мне скажете: «Вы научили нас, что мы получаем своё собственное послание в обращённой форме, и это всё объясняет». Ты еси тот, кто есть. Не обманывайтесь: кто я, чтобы сказать такое кому-либо другому?Иными словами, здесь я хочу вам указать на то, что символический отец, собственно говоря, немыслим.
Символического отца нет нигде, и он никуда не вмешивается.
Доказательства этому можно найти в той же книге Фрейда. Нужен был весь свойственный Фрейду дух научного и позитивистского мышления, чтобы создать эту конструкцию, которую, по заверению Джонса, Фрейд ценил в своем творчестве больше всего. Он не выдвигал её на первый план, потому что его главное произведение одно, -он его написал, утвердил и никогда не отступал от него - это Толкование сновидений; но самой дорогой для него была работа Тотем и табу, которую он считал высшей своей удачей и достижением, работа, которая является не чем иным как современным мифом, призванным объяснить то, что оставалось в его учении явным пробелом - вопрос Где отец?
Достаточно открыть глаза и прочитать Тотем и табу, чтобы понять - если это не является тем, о чём я говорю, то есть мифом, то это совершенный абсурд. Работа Тотем и табу написана, чтобы донести до нас, что для самой возможности существования отцов необходимо прежде, чтобы настоящий отец, единственный отец, отец уникальный, вошёл в историю как отец мёртвый. Более того, как отец убитый. И тогда, в самом деле, зачем этому придавать какое-то другое значение, кроме мифологического? Насколько мне известно, этот самый отец ни Фрейдом, ни кем-либо ещё не рассматривался как бессмертное существо. Чего ради сыновьям понадобилось ускорить его смерть? Ради того, чтобы в итоге запретить себе то, чем он наслаждался. Его убили, только чтобы доказать, что он неубиваем.
Суть исполненной значения драмы, которую вводит Фрейд, основывается на понятии строго мифическом, поскольку в качестве главной его категории выступает форма невозможного, даже немыслимого, поскольку оно увековечивает единственного изначального отца - отца, обречённого быть убитым. Убитым для чего? Чтобы его сохранить! Мимоходом замечу вам, что во французском и в некоторых других языках, в частности в немецком, убийство происходит от латинского слова tutare, что означает сохранить.
Этот мифический отец показывает нам, с какого рода трудностями имел дело Фрейд, и заодно то, к чему он прямо и непосредственно обращался в понятии отца. Это никак не может быть привнесено в диалектику, кроме как при посредничестве реального отца, который приходит в какой-то момент для исполнения своей роли и функции, позволяет оживить воображаемые отношения и придать им новое измерение. Он выходит из игры зеркальных отношений собственного Я и маленького другого, чтобы воплотить собою эту фразу, о которой мы только что говорили как о непроизносимой: «Ты тот, кто ты есть». Если вы позволите мне показать неоднозначность смысла в игре слов, которую я уже использовал, когда мы занимались изучением параноидальной структуры Председателя суда Шребера, то это не только «Ты тот, кто ты есть» «Tu es celui que tu es», но и «Ты тот, кто убивал» «Tu es celui qui tuais».
Закат эдипова комплекса соответствует установлению закона в качестве вытесненного в бессознательное, но неизбывного. По мере того, как это происходит, и появляется нечто такое, что откликается в символическом. Закон является не просто тем, о чём мы задаёмся вопросом, почему, в конце концов, все человеческое сообщество в него вписано и включено. Он укоренён в реальном в форме ядра, которое оставляет после себя эдипов комплекс - ядра, которое, как показал анализ, и становится раз и навсегда той реальной формой, в которую вписано всё то, что философы до этого момента с большей или меньшей двусмысленностью представляли как некую постоянную, плотную сердцевину нравственного сознания - ядра, которое, как мы знаем, воплощается в каждом человеке в самых разнообразных, несуразных и причудливых очертаниях - ядра, которое мы и называем Сверх-Я.
Эту форму принимает оно потому, что его образование на уровне Es (Оно) как элемента однородного другим либидинальным элементам, всегда связано с тем или иным чрезвычайным происшествием (accident). В действительности мы никогда не знаем ни того, в какой момент воображаемой игры произошёл переход, ни того, кто там был, чтобы откликнуться в ответ.
Это тираническое Сверх-Я, глубоко парадоксальное и непредсказуемое, представляет из себя даже у не невротиков означающее, которое маркирует, пропечатывает, оставляет на человеке клеймо отношений с означающим. У человека есть одно означающее, которое помечает его отношения с означающим, оно называется
и табу написана, чтобы донести до нас, что для самой возможности существования отцов необходимо прежде, чтобы настоящий отец, единственный отец, отец уникальный, вошёл в историю как отец мёртвый. Более того, как отец убитый. И тогда, в самом деле, зачем этому придавать какое-то другое значение, кроме мифологического? Насколько мне известно, этот самый отец ни Фрейдом, ни кем-либо ещё не рассматривался как бессмертное существо. Чего ради сыновьям понадобилось ускорить его смерть? Ради того, чтобы в итоге запретить себе то, чем он наслаждался. Его убили, только чтобы доказать, что он неубиваем.
Суть исполненной значения драмы, которую вводит Фрейд, основывается на понятии строго мифическом, поскольку в качестве главной его категории выступает форма невозможного, даже немыслимого, поскольку оно увековечивает единственного изначального отца - отца, обречённого быть убитым. Убитым для чего? Чтобы его сохранить! Мимоходом замечу вам, что во французском и в некоторых других языках, в частности в немецком, убийство происходит от латинского слова tutare, что означает сохранить.
Этот мифический отец показывает нам, с какого рода трудностями имел дело Фрейд, и заодно то, к чему он прямо и непосредственно обращался в понятии отца. Это никак не может быть привнесено в диалектику, кроме как при посредничестве реального отца, который приходит в какой-то момент для исполнения своей роли и функции, позволяет оживить воображаемые отношения и придать им новое измерение. Он выходит из игры зеркальных отношений собственного Я и маленького другого, чтобы воплотить собою эту фразу, о которой мы только что говорили как о непроизносимой: «Ты тот, кто ты есть». Если вы позволите мне показать неоднозначность смысла в игре слов, которую я уже использовал, когда мы занимались изучением параноидальной структуры Председателя суда Шребера, то это не только «Ты тот, кто ты есть» «Tu es celui que tu es», но и «Ты тот, кто убивал» «Tu es celui qui tuais».
Закат эдипова комплекса соответствует установлению закона в качестве вытесненного в бессознательное, но неизбывного. По мере того, как это происходит, и появляется нечто такое, что откликается в символическом. Закон является не просто тем, о чём мы задаёмся вопросом, почему, в конце концов, все человеческое сообщество в него вписано и включено. Он укоренён в реальном в форме ядра, которое оставляет после себя эдипов комплекс - ядра, которое, как показал анализ, и становится раз и навсегда той реальной формой, в которую вписано всё то, что философы до этого момента с большей или меньшей двусмысленностью представляли как некую постоянную, плотную сердцевину нравственного сознания - ядра, которое, как мы знаем, воплощается в каждом человеке в самых разнообразных, несуразных и причудливых очертаниях - ядра, которое мы и называем Сверх-Я.
Эту форму принимает оно потому, что его образование на уровне Es (Оно) как элемента однородного другим либидинальным элементам, всегда связано с тем или иным чрезвычайным происшествием (accident). В действительности мы никогда не знаем ни того, в какой момент воображаемой игры произошёл переход, ни того, кто там был, чтобы откликнуться в ответ.
Это тираническое Сверх-Я, глубоко парадоксальное и непредсказуемое, представляет из себя даже у не невротиков означающее, которое маркирует, пропечатывает, оставляет на человеке клеймо отношений с означающим. У человека есть одно означающее, которое помечает его отношения с означающим, оно называется Сверх-Я. Вообще-то, таких означающих гораздо больше, чем одно, и называются они симптомы.
Используя этот и только этот ключ, вы сможете понять, что происходит, когда маленький Ганс инициирует свою фобию. Я думаю, что смогу показать вам как характерную черту этого случая тот факт, что, несмотря на всю любовь отца, всю его доброту и всю его интеллигентность, благодаря которой мы располагаем материалом наблюдения, реального отца в этой истории нет.
Всё происходящее в отношениях маленького Ганса с матерью сводится к игре в приманку, которая становится в итоге невыносимой и мучительной, из которой он не может найти выход. Он - либо он, либо она; либо один из них, либо другой, без различения, кто из них есть кто - фаллоносный или фаллоносная, большой или маленький жираф. И несмотря на противоречивые толкования, которые предлагают различные авторы, ясно, что маленький жираф соотносится именно с той материнской принадлежностью, по отношению к которой и возникают вопросы: чья она и кто ей будет обладать. Это своего рода сон наяву маленького Ганса. Несмотря на громкие крики его матери, эта грёза делает его хозяином положения и наглядно демонстрирует нам весь механизм.
Я хотел бы добавить к этому ряд соображений, которые помогут вам усвоить точное обращение с категорией кастрации, которое я вам сейчас предлагаю.
Привносимая мной перспектива позволяет учесть карающее вмешательство кастрации в воображаемую игру Я-Идеала, благодаря чему воображаемые элементы, каждый в своём плане и в своих взаимодополняющих отношениях, стабилизируются в символическом, где фиксируется их констелляция. И кому в такой перспективе может прийти в голову обратиться к понятию объектных отношений, по определению типично полноценных и гармоничных? Как если бы по некоему природному замыслу и закону, в идеале и на постоянной основе каждый должен был бы найти свою каждую для скорейшего и полнейшего удовлетворения в паре без малейшей оглядки на мнение всего остального сообщества.
Если же мы, напротив, научимся отличать порядок закона от гармоничных воображаемых отношений и даже от позиции отношений влюблённости, если мы признаем кастрацию сущностным кризисом, пройдя который любой субъект получает, если так можно выразиться, полное право быть эдипализированным, то мы придём к выводу, что совершенно естественным - даже на уровне сложных структур родства, в том числе в полностью свободных сообществах, подобных тому, в котором живём мы, то есть не только на уровне элементарных структур - будет признать, что любая женщина, доступ к которой не позволен, запрещена законом. В этой формуле можно ясно расслышать ту истину, что каждый брак, и не только у невротиков, несёт в себе кастрацию. Если в нашей цивилизации расцвёл идеал, идеальное сочетание любви и супружества (conjugo), то произошло это благодаря выдвижению на передний план такого продукта символического, как брачный договор по взаимному согласию, то есть свобода союзов продвинулась настолько далеко, что балансирует на грани инцеста.
К тому же достаточно задуматься немного над самой функцией первобытных законов союза и родства, и вы обнаружите, что любое, каким бы мимолётным оно ни было, сопряжение индивидуального выбора с законом, любое сопряжение любви и закона, даже если оно необходимо для создания объединяющей разных существ связи, причастно инцесту. Из этого следует, что в конечном счёте, даже если учение Фрейда
Сверх-Я. Вообще-то, таких означающих гораздо больше, чем одно, и называются они симптомы.
Используя этот и только этот ключ, вы сможете понять, что происходит, когда маленький Ганс инициирует свою фобию. Я думаю, что смогу показать вам как характерную черту этого случая тот факт, что, несмотря на всю любовь отца, всю его доброту и всю его интеллигентность, благодаря которой мы располагаем материалом наблюдения, реального отца в этой истории нет.
Всё происходящее в отношениях маленького Ганса с матерью сводится к игре в приманку, которая становится в итоге невыносимой и мучительной, из которой он не может найти выход. Он - либо он, либо она; либо один из них, либо другой, без различения, кто из них есть кто - фаллоносный или фаллоносная, большой или маленький жираф. И несмотря на противоречивые толкования, которые предлагают различные авторы, ясно, что маленький жираф соотносится именно с той материнской принадлежностью, по отношению к которой и возникают вопросы: чья она и кто ей будет обладать. Это своего рода сон наяву маленького Ганса. Несмотря на громкие крики его матери, эта грёза делает его хозяином положения и наглядно демонстрирует нам весь механизм.
Я хотел бы добавить к этому ряд соображений, которые помогут вам усвоить точное обращение с категорией кастрации, которое я вам сейчас предлагаю.
Привносимая мной перспектива позволяет учесть карающее вмешательство кастрации в воображаемую игру Я-Идеала, благодаря чему воображаемые элементы, каждый в своём плане и в своих взаимодополняющих отношениях, стабилизируются в символическом, где фиксируется их констелляция. И кому в такой перспективе может прийти в голову обратиться к понятию объектных отношений, по определению типично полноценных и гармоничных? Как если бы по некоему природному замыслу и закону, в идеале и на постоянной основе каждый должен был бы найти свою каждую для скорейшего и полнейшего удовлетворения в паре без малейшей оглядки на мнение всего остального сообщества.
Если же мы, напротив, научимся отличать порядок закона от гармоничных воображаемых отношений и даже от позиции отношений влюблённости, если мы признаем кастрацию сущностным кризисом, пройдя который любой субъект получает, если так можно выразиться, полное право быть эдипализированным, то мы придём к выводу, что совершенно естественным - даже на уровне сложных структур родства, в том числе в полностью свободных сообществах, подобных тому, в котором живём мы, то есть не только на уровне элементарных структур - будет признать, что любая женщина, доступ к которой не позволен, запрещена законом. В этой формуле можно ясно расслышать ту истину, что каждый брак, и не только у невротиков, несёт в себе кастрацию. Если в нашей цивилизации расцвёл идеал, идеальное сочетание любви и супружества (conjugo), то произошло это благодаря выдвижению на передний план такого продукта символического, как брачный договор по взаимному согласию, то есть свобода союзов продвинулась настолько далеко, что балансирует на грани инцеста.
К тому же достаточно задуматься немного над самой функцией первобытных законов союза и родства, и вы обнаружите, что любое, каким бы мимолётным оно ни было, сопряжение индивидуального выбора с законом, любое сопряжение любви и закона, даже если оно необходимо для создания объединяющей разных существ связи, причастно инцесту. Из этого следует, что в конечном счёте, даже если учение Фрейда приписывает длительной фиксации на матери неудачи или даже деградацию любовной жизни и видит в её устойчивости нечто, вносящее неустранимый дефект в желанный идеал моногамного союза, не нужно думать, будто перед нами новая форма пресловутого или-или, показывающая, что если инцест не происходит там, где мы желаем его, то есть в действительности, в так называемых идеальных семьях, то лишь оттого, что он произошёл где-то в другом месте. И в одном, и в другом случае речь идёт об инцесте. Другими словами, здесь имеет место нечто, несущее в себе самом ограничение и глубинную двойственность, всегда готовую заявить о себе противоречивость.
Это позволяет нам, опираясь на опыт, утверждать, что если женский идеал моногамного супружеского союза имеет своей причиной то, на что мы указали с самого начала, то есть желание единоличного обладания фаллосом, то нет ничего удивительного - и это наш главный вывод - что исходная модель отношения ребёнка к матери всегда склоняется к воспроизводству на мужской стороне. А поскольку этот типичный, нормативный, правовой союз отмечен кастрацией, то всегда будет воспроизводиться расщепление, split, которое определит его фундаментальную бигамность. Вопреки общепринятому предположению, я не говорю о полигамности, хотя, конечно, с того момента, как появляются двое, нет никаких причин ограничивать игру в галерее миражей. Но именно по другую сторону того, на чём реальный отец разрешает остановить свой выбор тому, кто вошёл в эдипальную диалектику, именно по другую сторону этого выбора неизменно имеет место нечто, искомое в любви, - не разрешённый объект, не объект удовлетворения, но существо, то есть объект, пленяющий тем, чего ему не хватает.
Вот почему, будь то в организованном или анархичном сообществе, мы никогда не видим совпадения любви и освящённого союза. Множество развитых цивилизаций без колебаний приняли и применили на практике эту доктрину. Что до цивилизации нашей собственной, то мы смогли лишь предположить, что всё происходит как бы случайно - в зависимости от того, насколько сильное или слабое у нас Я, и насколько прочно связаны мы с теми или иными архаическими или даже наследственными фиксациями.
Уже в ранних воображаемых отношениях ребёнок знакомится с тем, что находится по другую сторону его матери, он видит, ощущает, переживает то, что человеческое существо является существом обделённым и существом заброшенным. Сама структура, устанавливающая для нас различение опыта воображаемого и опыта символического, который её нормирует, делает это, однако, исключительно посредством закона, так что многое из этого последнего сохраняется, не позволяя говорить о любовной жизни исключительно в регистре объектных отношений, пусть даже идеальных и отмеченных глубочайшей близостью. Эта структура оставляет проблематику любовной жизни открытой.
Чтобы это ощутить и тотчас в этом убедиться, у нас есть Фрейд, его опыт и наша собственная повседневная жизнь.
6 марта 1957
приписывает длительной фиксации на матери неудачи или даже деградацию любовной жизни и видит в её устойчивости нечто, вносящее неустранимый дефект в желанный идеал моногамного союза, не нужно думать, будто перед нами новая форма пресловутого или-или, показывающая, что если инцест не происходит там, где мы желаем его, то есть в действительности, в так называемых идеальных семьях, то лишь оттого, что он произошёл где-то в другом месте. И в одном, и в другом случае речь идёт об инцесте. Другими словами, здесь имеет место нечто, несущее в себе самом ограничение и глубинную двойственность, всегда готовую заявить о себе противоречивость.
Это позволяет нам, опираясь на опыт, утверждать, что если женский идеал моногамного супружеского союза имеет своей причиной то, на что мы указали с самого начала, то есть желание единоличного обладания фаллосом, то нет ничего удивительного - и это наш главный вывод - что исходная модель отношения ребёнка к матери всегда склоняется к воспроизводству на мужской стороне. А поскольку этот типичный, нормативный, правовой союз отмечен кастрацией, то всегда будет воспроизводиться расщепление, split, которое определит его фундаментальную бигамность. Вопреки общепринятому предположению, я не говорю о полигамности, хотя, конечно, с того момента, как появляются двое, нет никаких причин ограничивать игру в галерее миражей. Но именно по другую сторону того, на чём реальный отец разрешает остановить свой выбор тому, кто вошёл в эдипальную диалектику, именно по другую сторону этого выбора неизменно имеет место нечто, искомое в любви, - не разрешённый объект, не объект удовлетворения, но существо, то есть объект, пленяющий тем, чего ему не хватает.
Вот почему, будь то в организованном или анархичном сообществе, мы никогда не видим совпадения любви и освящённого союза. Множество развитых цивилизаций без колебаний приняли и применили на практике эту доктрину. Что до цивилизации нашей собственной, то мы смогли лишь предположить, что всё происходит как бы случайно - в зависимости от того, насколько сильное или слабое у нас Я, и насколько прочно связаны мы с теми или иными архаическими или даже наследственными фиксациями.
Уже в ранних воображаемых отношениях ребёнок знакомится с тем, что находится по другую сторону его матери, он видит, ощущает, переживает то, что человеческое существо является существом обделённым и существом заброшенным. Сама структура, устанавливающая для нас различение опыта воображаемого и опыта символического, который её нормирует, делает это, однако, исключительно посредством закона, так что многое из этого последнего сохраняется, не позволяя говорить о любовной жизни исключительно в регистре объектных отношений, пусть даже идеальных и отмеченных глубочайшей близостью. Эта структура оставляет проблематику любовной жизни открытой.
Чтобы это ощутить и тотчас в этом убедиться, у нас есть Фрейд, его опыт и наша собственная повседневная жизнь.
6 марта 1957
 1
На уровне первого же прочтения сразу можно сказать, что кастрация является знаком драмы Эдипа и служит ему внутренним стержнем.
Хотя именно так это нигде не прозвучало, но неявно предполагается в работах Фрейда буквально повсюду.
Конечно, можно уклониться от подобной формулировки и принять её только как возможную. Актуальное направление аналитического дискурса ровно к этому и располагает. Но не стоит ли прислушаться к тому, что говорю я, и немного поразмыслить над этим? Я понимаю, что по-настоящему категоричный тон этого утверждения показался вам проблематичным, и так оно на самом деле и есть. Каким бы парадоксальным такое утверждение ни было, оно может послужить для вас отправным пунктом.
О чём говорит подобная формулировка? Что подразумевает? Что предполагает? На самом деле есть авторы, которые обратили внимание на её особенность, и первый среди них - Эрнст Джонс.
Читая тексты Месье Джонса, вы видите, что он так и не преодолел сложности обращения с комплексом кастрации, что привело его к необходимости применить специфический термин, который, как и всё, что он привнёс в психоанализ, закрепился и получил распространение в основном в кругу английских авторов. Это - aphanisis аушюц, что по-гречески означает исчезновение.
Джонс предлагает своё объяснение форме настоятельности психической драмы кастрации в истории субъекта. Он не рассматривал в качестве причин страха кастрации какие-либо происшествия или угрозы, несмотря на особенность их постоянного воспроизводства в истории субъекта, например, в известной родительской фразе: «Мы попросим, чтобы кое-кто пришёл и отрезал тебе это». Авторов остановила не только парадоксальная, не имеющая отношения к насущному постоянству межличностных отношений сторона этой угрозы, но и сложность подхода к самой кастрации, которую Фрейд всё же чётко определил как угрозу пенису, фаллосу. Вот что подтолкнуло Джонса, когда он занимался проблемой образования Супер-Эго и старался понять его механизм, вывести на передний план понятие aphanisis, которое само по себе создаёт большое количество затруднений. Я полагаю, что будет достаточно моей краткой формулировки для того, чтобы вы это уловили.
На самом деле aphanisis - это исчезновение, но исчезновение чего? У Джонса это исчезновение желания. Аphanisis, заменивший кастрацию, - это страх обнаружения субъектом затухания своего желания.
Я полагаю, вы не можете не заметить, что подобное понятие уже само по себе предполагает высокую степень субъективности отношений. Стоит ли искать здесь источник первичной тревоги? Может быть и так, но совершенно точно, что эта тревога является весьма осмысленной. Чтобы объяснить это, нужно было совершить в понимании своего рода прыжок и предположить, что субъект в соответствии с тем, что артикулирует фрустрация как таковая, отступает на позицию своих первых отношений с объектами, но и не только, и связать с этой фрустрацией чувство ослабления желания. Откровенно говоря, это предполагает преодоление огромной дистанции одним махом.
На самом деле именно вокруг понятия лишения, поскольку оно вызывает страх aphanisis, Джонс попытался сформулировать свою теорию происхождения Супер-Эго, в
1
На уровне первого же прочтения сразу можно сказать, что кастрация является знаком драмы Эдипа и служит ему внутренним стержнем.
Хотя именно так это нигде не прозвучало, но неявно предполагается в работах Фрейда буквально повсюду.
Конечно, можно уклониться от подобной формулировки и принять её только как возможную. Актуальное направление аналитического дискурса ровно к этому и располагает. Но не стоит ли прислушаться к тому, что говорю я, и немного поразмыслить над этим? Я понимаю, что по-настоящему категоричный тон этого утверждения показался вам проблематичным, и так оно на самом деле и есть. Каким бы парадоксальным такое утверждение ни было, оно может послужить для вас отправным пунктом.
О чём говорит подобная формулировка? Что подразумевает? Что предполагает? На самом деле есть авторы, которые обратили внимание на её особенность, и первый среди них - Эрнст Джонс.
Читая тексты Месье Джонса, вы видите, что он так и не преодолел сложности обращения с комплексом кастрации, что привело его к необходимости применить специфический термин, который, как и всё, что он привнёс в психоанализ, закрепился и получил распространение в основном в кругу английских авторов. Это - aphanisis аушюц, что по-гречески означает исчезновение.
Джонс предлагает своё объяснение форме настоятельности психической драмы кастрации в истории субъекта. Он не рассматривал в качестве причин страха кастрации какие-либо происшествия или угрозы, несмотря на особенность их постоянного воспроизводства в истории субъекта, например, в известной родительской фразе: «Мы попросим, чтобы кое-кто пришёл и отрезал тебе это». Авторов остановила не только парадоксальная, не имеющая отношения к насущному постоянству межличностных отношений сторона этой угрозы, но и сложность подхода к самой кастрации, которую Фрейд всё же чётко определил как угрозу пенису, фаллосу. Вот что подтолкнуло Джонса, когда он занимался проблемой образования Супер-Эго и старался понять его механизм, вывести на передний план понятие aphanisis, которое само по себе создаёт большое количество затруднений. Я полагаю, что будет достаточно моей краткой формулировки для того, чтобы вы это уловили.
На самом деле aphanisis - это исчезновение, но исчезновение чего? У Джонса это исчезновение желания. Аphanisis, заменивший кастрацию, - это страх обнаружения субъектом затухания своего желания.
Я полагаю, вы не можете не заметить, что подобное понятие уже само по себе предполагает высокую степень субъективности отношений. Стоит ли искать здесь источник первичной тревоги? Может быть и так, но совершенно точно, что эта тревога является весьма осмысленной. Чтобы объяснить это, нужно было совершить в понимании своего рода прыжок и предположить, что субъект в соответствии с тем, что артикулирует фрустрация как таковая, отступает на позицию своих первых отношений с объектами, но и не только, и связать с этой фрустрацией чувство ослабления желания. Откровенно говоря, это предполагает преодоление огромной дистанции одним махом.
На самом деле именно вокруг понятия лишения, поскольку оно вызывает страх aphanisis, Джонс попытался сформулировать свою теорию происхождения Супер-Эго, в образовании которого он видел нормальный результат исхода эдипова комплекса. Тут-то он и встретил те различения, которым нам удалось придать чуть более пригодные для использования очертания. Конечно, говоря о лишении, он не может хотя бы на мгновение не заподозрить разницу между чистым лишением, которое создаёт для субъекта невозможность какого-либо удовлетворения своих потребностей, и лишением, названным им умышленным (délibérée), которое предполагает присутствие перед субъектом другого субъекта, отказывающего ему в искомом удовлетворении. Поскольку, опираясь на слабоструктурированные данные общего плана, нелегко проследить переход от одного к другому, особенно когда эти два понятия используются как синонимы, естественно, что всё чаще лишение понимается как фрустрация, как эквивалент фрустрации, и это, безусловно, облегчает процесс теоретического продвижения. Но если многое становится более простым для говорящего, это не означает облегчения для мало-мальски взыскательного слушателя.
В своей таблице я придаю термину лишение совершенно иной смысл, нежели Джонс. Лишение, о котором я веду речь, это термин, по отношению к которому занимает своё место понятие кастрации. Что касается термина фрустрации, то на встрече, предшествующей нашему перерыву в феврале, я очень подробно проработал его, чтобы вернуть присущую ему сложность. Без сомнения, того, что осталось у вас в памяти, довольно будет, чтобы увидеть, что я не использую этот термин в обобщённой форме, в том виде, в котором обычно его применяют.
Невозможно внятно сформулировать что-либо о роли кастрации без обособления понятия лишения, поскольку оно представляет собой то, что я назвал дырой реального. Вместо того, чтобы смешивать понятия, давайте, наоборот, попробуем их как следует различить. Вместо того, чтобы отпускать рыбку на волю, попробуем её подсечь. Лишение - это лишение рыбки. Это тот факт, что женщина не имеет пениса, что она его лишена. Этот факт, допущение этого факта, оказывает постоянное влияние на динамику почти каждого случая, представленного нам Фрейдом, и для мальчика это самая заметная черта, которая встречается в случаях Фрейда на каждом шагу. В основе кастрации, которую мы стараемся определить, лежит обнаружение в реальности отсутствия пениса у женщины. Именно это в большинстве случаев является решающим моментом, именно это в опыте субъекта мужского пола закладывает фундамент, на который прочно опирается вселяющее тревогу понятие лишения. Действительно, часть человеческих существ, как говорится в текстах, кастрированы. Конечно, этот термин далеко не однозначен. Они кастрированы с точки зрения субъективности субъекта. Тогда как в реальном, в реальности, в том, что называют реальным опытом, они лишены.
При изучении текстов Фрейда опыт кастрации вращается вокруг отношений с реальным. Попробуем более точно сформулировать наши мысли в этом направлении, чтобы лучше уловить, в чём тут дело, и пока что обойдёмся без обращения к клиническому опыту.
Само, настолько ощутимое и очевидное в опыте, понятие лишения предполагает символизацию объекта в реальном. Поскольку в реальном нет такой вещи, которая была бы чего-либо лишена. Всё, что есть в реальном, само по себе самодостаточно. Реальное по определению является полным. Если мы вводим в реальное понятие лишения, то лишь постольку, поскольку мы его уже в достаточной мере или даже целиком символизировали. Указать на отсутствие некоторой вещи означает предполагать её
образовании которого он видел нормальный результат исхода эдипова комплекса. Тут-то он и встретил те различения, которым нам удалось придать чуть более пригодные для использования очертания. Конечно, говоря о лишении, он не может хотя бы на мгновение не заподозрить разницу между чистым лишением, которое создаёт для субъекта невозможность какого-либо удовлетворения своих потребностей, и лишением, названным им умышленным (délibérée), которое предполагает присутствие перед субъектом другого субъекта, отказывающего ему в искомом удовлетворении. Поскольку, опираясь на слабоструктурированные данные общего плана, нелегко проследить переход от одного к другому, особенно когда эти два понятия используются как синонимы, естественно, что всё чаще лишение понимается как фрустрация, как эквивалент фрустрации, и это, безусловно, облегчает процесс теоретического продвижения. Но если многое становится более простым для говорящего, это не означает облегчения для мало-мальски взыскательного слушателя.
В своей таблице я придаю термину лишение совершенно иной смысл, нежели Джонс. Лишение, о котором я веду речь, это термин, по отношению к которому занимает своё место понятие кастрации. Что касается термина фрустрации, то на встрече, предшествующей нашему перерыву в феврале, я очень подробно проработал его, чтобы вернуть присущую ему сложность. Без сомнения, того, что осталось у вас в памяти, довольно будет, чтобы увидеть, что я не использую этот термин в обобщённой форме, в том виде, в котором обычно его применяют.
Невозможно внятно сформулировать что-либо о роли кастрации без обособления понятия лишения, поскольку оно представляет собой то, что я назвал дырой реального. Вместо того, чтобы смешивать понятия, давайте, наоборот, попробуем их как следует различить. Вместо того, чтобы отпускать рыбку на волю, попробуем её подсечь. Лишение - это лишение рыбки. Это тот факт, что женщина не имеет пениса, что она его лишена. Этот факт, допущение этого факта, оказывает постоянное влияние на динамику почти каждого случая, представленного нам Фрейдом, и для мальчика это самая заметная черта, которая встречается в случаях Фрейда на каждом шагу. В основе кастрации, которую мы стараемся определить, лежит обнаружение в реальности отсутствия пениса у женщины. Именно это в большинстве случаев является решающим моментом, именно это в опыте субъекта мужского пола закладывает фундамент, на который прочно опирается вселяющее тревогу понятие лишения. Действительно, часть человеческих существ, как говорится в текстах, кастрированы. Конечно, этот термин далеко не однозначен. Они кастрированы с точки зрения субъективности субъекта. Тогда как в реальном, в реальности, в том, что называют реальным опытом, они лишены.
При изучении текстов Фрейда опыт кастрации вращается вокруг отношений с реальным. Попробуем более точно сформулировать наши мысли в этом направлении, чтобы лучше уловить, в чём тут дело, и пока что обойдёмся без обращения к клиническому опыту.
Само, настолько ощутимое и очевидное в опыте, понятие лишения предполагает символизацию объекта в реальном. Поскольку в реальном нет такой вещи, которая была бы чего-либо лишена. Всё, что есть в реальном, само по себе самодостаточно. Реальное по определению является полным. Если мы вводим в реальное понятие лишения, то лишь постольку, поскольку мы его уже в достаточной мере или даже целиком символизировали. Указать на отсутствие некоторой вещи означает предполагать её возможное присутствие, то есть, чтобы каким-то образом покрыть реальное, углубиться в него, мы вводим простой символический порядок.
Объект, о котором в данном случае идёт речь, — это пенис. Когда мы говорим об уровне лишения, этот объект представлен для нас в символическом измерении. Тогда как кастрация, в своей действенной и подтверждённой форме связанная с возникновением невроза, касается, в соответствии со своим расположением в таблице, воображаемого объекта. Никакая кастрация, действующая в неврозе, никогда не является реальной. Она вступает в игру субъекта только в форме воздействия на воображаемый объект.
Для нас вопрос состоит в том, чтобы понять, почему, исходя из какой необходимости, кастрация вводится в типичный ход развития субъекта, где речь идёт о его присоединении к этому сложному порядку, в котором формируются отношения мужчины и женщины. Реализация человека на генитальном уровне оказывается связанной с рядом условий.
Вернёмся, как в прошлый раз, к первоначальным отношениям субъекта с матерью на этапе, который квалифицируется как доэдипальный. Мы рассчитываем на то, что сможем осмыслить этот этап гораздо лучше и подробнее, чем это обычно происходит, поскольку если авторы и берутся за эти термины, то обращаются с ними слабо и неубедительно. Мы вернёмся к этому этапу, чтобы постичь необходимость феномена кастрации в момент её появления - феномена, который завладевает этим воображаемым объектом как инструментом, символизирует долг или символическую кару и вписывается в цепочку символического.
В качестве руководства, и в том числе для того, чтобы сориентироваться относительно терминов, используемых нами ранее, я попрошу вас принять на мгновение установленную нами в прошлый раз предварительную гипотезу, на которую будет опираться наше дальнейшее изложение, - гипотезу о том, что за символической матерью располагается символический отец.
Символический отец необходим для символической конструкции, и мы не можем расположить его нигде, кроме как по ту сторону, я бы сказал, что он почти трансцендентен; в любом случае, как я вам по ходу дела уже говорил, он может быть введен лишь посредством конструкции мифической. Я часто настаивал на том, что символический отец в конечном счете нигде не представлен. И в дальнейшем нашем продвижении вы сможете убедиться, как сильно нам пригодится это положение, насколько оно ценное и полезное и каким образом оно помогает выявить в условиях сложной реальности этот драматический элемент кастрации.
Теперь мы видим в нашей таблице отца реального и отца воображаемого. Если символический отец является означающим, о котором невозможно говорить иначе, как каждый раз заново открывая его необходимость и одновременно его характер, и таким образом принимать его в качестве незыблемой данности мира означающих, то с отцом воображаемым и отцом реальным у нас возникает гораздо меньше трудностей.
Мы постоянно имеем дело с воображаемым отцом. Как правило, именно с ним связана вся диалектика агрессивности, идентификации, идеализации, посредством которой субъект получает доступ к идентификации с отцом. Всё это происходит на уровне воображаемого отца. Мы называем его воображаемым именно потому, что он включён в воображаемые отношения, формирующие психологическую подоплёку отношений подобия, которые являются, прямо говоря, отношениями видовыми и лежат
возможное присутствие, то есть, чтобы каким-то образом покрыть реальное, углубиться в него, мы вводим простой символический порядок.
Объект, о котором в данном случае идёт речь, — это пенис. Когда мы говорим об уровне лишения, этот объект представлен для нас в символическом измерении. Тогда как кастрация, в своей действенной и подтверждённой форме связанная с возникновением невроза, касается, в соответствии со своим расположением в таблице, воображаемого объекта. Никакая кастрация, действующая в неврозе, никогда не является реальной. Она вступает в игру субъекта только в форме воздействия на воображаемый объект.
Для нас вопрос состоит в том, чтобы понять, почему, исходя из какой необходимости, кастрация вводится в типичный ход развития субъекта, где речь идёт о его присоединении к этому сложному порядку, в котором формируются отношения мужчины и женщины. Реализация человека на генитальном уровне оказывается связанной с рядом условий.
Вернёмся, как в прошлый раз, к первоначальным отношениям субъекта с матерью на этапе, который квалифицируется как доэдипальный. Мы рассчитываем на то, что сможем осмыслить этот этап гораздо лучше и подробнее, чем это обычно происходит, поскольку если авторы и берутся за эти термины, то обращаются с ними слабо и неубедительно. Мы вернёмся к этому этапу, чтобы постичь необходимость феномена кастрации в момент её появления - феномена, который завладевает этим воображаемым объектом как инструментом, символизирует долг или символическую кару и вписывается в цепочку символического.
В качестве руководства, и в том числе для того, чтобы сориентироваться относительно терминов, используемых нами ранее, я попрошу вас принять на мгновение установленную нами в прошлый раз предварительную гипотезу, на которую будет опираться наше дальнейшее изложение, - гипотезу о том, что за символической матерью располагается символический отец.
Символический отец необходим для символической конструкции, и мы не можем расположить его нигде, кроме как по ту сторону, я бы сказал, что он почти трансцендентен; в любом случае, как я вам по ходу дела уже говорил, он может быть введен лишь посредством конструкции мифической. Я часто настаивал на том, что символический отец в конечном счете нигде не представлен. И в дальнейшем нашем продвижении вы сможете убедиться, как сильно нам пригодится это положение, насколько оно ценное и полезное и каким образом оно помогает выявить в условиях сложной реальности этот драматический элемент кастрации.
Теперь мы видим в нашей таблице отца реального и отца воображаемого. Если символический отец является означающим, о котором невозможно говорить иначе, как каждый раз заново открывая его необходимость и одновременно его характер, и таким образом принимать его в качестве незыблемой данности мира означающих, то с отцом воображаемым и отцом реальным у нас возникает гораздо меньше трудностей.
Мы постоянно имеем дело с воображаемым отцом. Как правило, именно с ним связана вся диалектика агрессивности, идентификации, идеализации, посредством которой субъект получает доступ к идентификации с отцом. Всё это происходит на уровне воображаемого отца. Мы называем его воображаемым именно потому, что он включён в воображаемые отношения, формирующие психологическую подоплёку отношений подобия, которые являются, прямо говоря, отношениями видовыми и лежат в основе как любой либидинальной захваченности, так и любого агрессивного побуждения. Воображаемый отец задействован именно в этом регистре и проявляется в его типичных персонажах. Этого устрашающего отца мы часто встречаем в глубине невротических переживаний, и он совершенно не обязательно бывает как-то связан с реальным отцом ребёнка. Мы часто видим, как в фантазии ребёнка вмешивается порой искажённая фигура отца (или матери), которая имеет весьма отдалённое отношение к реальному отцу ребёнка, но играет роль воображаемого отца на данном этапе развития.
Реальный отец - это совсем другое дело. Ребёнку крайне сложно получить о нём представление из-за вмешательства фантазий и насущности символических отношений. Так происходит с каждым из нас. Если и есть нечто, лежащее в основе всего аналитического опыта, то сводится это к огромной трудности понимания того, что вокруг нас является более реальным, то есть как увидеть людей такими, какие они есть. Вся сложность как психического развития, так и повседневной жизни сводится к пониманию, с кем же действительно мы имеем дело. Так происходит и с персонажем отца, которого при обычных условиях можно по праву считать постоянным элементом того, что называется в наше время окружением ребенка. Таким образом, я прошу вас допустить на мгновение то, что при первом знакомстве с таблицей может показаться парадоксальным, а именно то, что вопреки нормализующей или типичной функции, исполнение которой мы хотели бы приписать реальному отцу в драме Эдипа, в действительности именно ему отведена чётко прописанная роль в комплексе кастрации.
Эти выводы не делают более понятной кастрацию и то, что может показаться её случайным характером. Почему именно кастрация? Почему именно эта странная форма вмешательства в экономику субъекта называется кастрацией? В этом есть что-то само по себе шокирующее.
Нам предлагается объяснение, которое следует отклонить. Не случайно и не в силу определенных странностей в первоначальном подходе к субъекту врач обращает внимание на эти сцены раннего соблазнения, которые теперь признают более фантазматическими, чем полагалось прежде. Вы знаете, что на этом этапе мысли Фрейда он эту тему ещё не анализирует и не прорабатывает. Но в случае с кастрацией речь вовсе не идёт о воображении действия, как это происходит в фантазии со сценой раннего соблазнения. Если кастрация действительно заслуживает в истории субъекта отдельного имени, то происходит это потому, что она всегда будет связана с влиянием, с вмешательством реального отца. Вместе с тем она может быть глубоко затронута и нарушена отсутствием реального отца, и когда подобный сбой имеет место, то возникает необходимость замены реального отца чем-то другим, что оказывается глубоко невротизирующим.
Мы будем исходить из предположения о фундаментальном характере связи между реальным отцом и кастрацией, чтобы попытаться обнаружить себя в сюжетах сложных драм, которые прописал для нас Фрейд. У нас часто возникает ощущение, что он изначально имеет некоторый заранее намеченный курс, с которым, как в случае маленького Ганса, он время от времени сверяется, и мы тоже чувствуем себя хорошо сориентированными, однако без всякого понимания тех мотивов, которые позволяют нам сделать верный выбор на каждом перекрёстке.
Итак, я прошу вас принять это положение, на основании которого мы постараемся понять значение и необходимость комплекса кастрации, продолжив сейчас работу со случаем маленького Ганса.
в основе как любой либидинальной захваченности, так и любого агрессивного побуждения. Воображаемый отец задействован именно в этом регистре и проявляется в его типичных персонажах. Этого устрашающего отца мы часто встречаем в глубине невротических переживаний, и он совершенно не обязательно бывает как-то связан с реальным отцом ребёнка. Мы часто видим, как в фантазии ребёнка вмешивается порой искажённая фигура отца (или матери), которая имеет весьма отдалённое отношение к реальному отцу ребёнка, но играет роль воображаемого отца на данном этапе развития.
Реальный отец - это совсем другое дело. Ребёнку крайне сложно получить о нём представление из-за вмешательства фантазий и насущности символических отношений. Так происходит с каждым из нас. Если и есть нечто, лежащее в основе всего аналитического опыта, то сводится это к огромной трудности понимания того, что вокруг нас является более реальным, то есть как увидеть людей такими, какие они есть. Вся сложность как психического развития, так и повседневной жизни сводится к пониманию, с кем же действительно мы имеем дело. Так происходит и с персонажем отца, которого при обычных условиях можно по праву считать постоянным элементом того, что называется в наше время окружением ребенка. Таким образом, я прошу вас допустить на мгновение то, что при первом знакомстве с таблицей может показаться парадоксальным, а именно то, что вопреки нормализующей или типичной функции, исполнение которой мы хотели бы приписать реальному отцу в драме Эдипа, в действительности именно ему отведена чётко прописанная роль в комплексе кастрации.
Эти выводы не делают более понятной кастрацию и то, что может показаться её случайным характером. Почему именно кастрация? Почему именно эта странная форма вмешательства в экономику субъекта называется кастрацией? В этом есть что-то само по себе шокирующее.
Нам предлагается объяснение, которое следует отклонить. Не случайно и не в силу определенных странностей в первоначальном подходе к субъекту врач обращает внимание на эти сцены раннего соблазнения, которые теперь признают более фантазматическими, чем полагалось прежде. Вы знаете, что на этом этапе мысли Фрейда он эту тему ещё не анализирует и не прорабатывает. Но в случае с кастрацией речь вовсе не идёт о воображении действия, как это происходит в фантазии со сценой раннего соблазнения. Если кастрация действительно заслуживает в истории субъекта отдельного имени, то происходит это потому, что она всегда будет связана с влиянием, с вмешательством реального отца. Вместе с тем она может быть глубоко затронута и нарушена отсутствием реального отца, и когда подобный сбой имеет место, то возникает необходимость замены реального отца чем-то другим, что оказывается глубоко невротизирующим.
Мы будем исходить из предположения о фундаментальном характере связи между реальным отцом и кастрацией, чтобы попытаться обнаружить себя в сюжетах сложных драм, которые прописал для нас Фрейд. У нас часто возникает ощущение, что он изначально имеет некоторый заранее намеченный курс, с которым, как в случае маленького Ганса, он время от времени сверяется, и мы тоже чувствуем себя хорошо сориентированными, однако без всякого понимания тех мотивов, которые позволяют нам сделать верный выбор на каждом перекрёстке.
Итак, я прошу вас принять это положение, на основании которого мы постараемся понять значение и необходимость комплекса кастрации, продолжив сейчас работу со случаем маленького Ганса. 2
Маленький Ганс с возраста четырёх с половиной лет обладает тем, что называется фобией, то есть неврозом.
За работу с этой фобией принимается его отец, который является одним из учеников Фрейда. Этот мужественный человек делает всё лучшее, на что способен реальный отец, и маленький Ганс испытывает к нему самые тёплые чувства, он очень любит своего отца, он очень далёк от того, чтобы опасаться такого насильственного акта с его стороны, как кастрация.
В дополнение к этому нельзя сказать, что маленький Ганс каким-то образом фрустрирован. Как мы видим в начале наблюдения, маленький Ганс, будучи единственным ребёнком, окружён вниманием и счастлив. Он является как объектом заботы отца, который, чтобы проявить её, определённо не дожидался фобии, так и объектом самой нежной заботы матери, которую она целиком посвящает ему. Честно говоря, для того, чтобы оправдать поведение матери, требуется та высокая степень невозмутимости, которой обладал Фрейд, потому что в наши дни на неё посыпались бы всевозможные упрёки за то, что вопреки возражениям отца и мужа, она каждое утро позволяла Гансу занимать место третьего на их брачном ложе. Дело здесь не только в особой терпимости отца, мы можем предположить, что он совершенно не принимается в расчёт, поскольку, что бы он ни говорил, всё продолжается предрешённым образом, мы не видим ни единого момента, когда упомянутая мать хотя бы на мгновение обращает малейшее внимание на вежливое замечание.
Маленький Ганс никак не фрустрирован, он действительно ни в чём не знает отказа. Хотя в начале наблюдения мы видим, что мать накладывает запрет на мастурбацию и произносит роковые слова: «Если ты будешь мастурбировать, мы позовём доктора А., который тебе его отрежет». Но у нас нет впечатления, что это могло бы быть чем-то решающим. Это не становится определяющим моментом, и ребёнок, конечно, продолжает мастурбировать. Родители достаточно хорошо это понимают, что не мешает им вести себя так, словно они не в курсе. Если даже это вмешательство и было отмечено ввиду той скрупулёзности, с которой Фрейд готовил отчёт, сам он определённо не приписывал этому моменту какого-либо решающего значения в отношении возникновения фобии. Ребёнок услышал эту угрозу, так сказать, как ему было угодно. И вы увидите, в конце концов окажется, что ребёнку больше ничего говорить и не надо, и именно это послужит материалом для образования того, в чём есть необходимость, то есть комплекса кастрации. Но нужно понять, почему он ему необходим. Это тот вопрос, к которому мы подошли, и пока мы не готовы на него ответить.
Сейчас речь идёт не о кастрации, речь идёт о фобии и о том, что мы ни в коем случае не можем здесь полагаться на её прямую и простую связь с запретом на мастурбацию. Как это чётко обозначил Фрейд, сама по себе мастурбация в этот момент никак не потревожена, ребёнок продолжает мастурбировать. Конечно, впоследствии она будет интегрирована в конфликт, который проявится в виде фобии, но она совершенно точно не является тем травматическим воздействием, которое определит его возникновение. Этот ребёнок растёт в наилучших условиях, и образование фобии вызывает вопрос, который действительно заслуживает того, чтобы быть поставленным;
2
Маленький Ганс с возраста четырёх с половиной лет обладает тем, что называется фобией, то есть неврозом.
За работу с этой фобией принимается его отец, который является одним из учеников Фрейда. Этот мужественный человек делает всё лучшее, на что способен реальный отец, и маленький Ганс испытывает к нему самые тёплые чувства, он очень любит своего отца, он очень далёк от того, чтобы опасаться такого насильственного акта с его стороны, как кастрация.
В дополнение к этому нельзя сказать, что маленький Ганс каким-то образом фрустрирован. Как мы видим в начале наблюдения, маленький Ганс, будучи единственным ребёнком, окружён вниманием и счастлив. Он является как объектом заботы отца, который, чтобы проявить её, определённо не дожидался фобии, так и объектом самой нежной заботы матери, которую она целиком посвящает ему. Честно говоря, для того, чтобы оправдать поведение матери, требуется та высокая степень невозмутимости, которой обладал Фрейд, потому что в наши дни на неё посыпались бы всевозможные упрёки за то, что вопреки возражениям отца и мужа, она каждое утро позволяла Гансу занимать место третьего на их брачном ложе. Дело здесь не только в особой терпимости отца, мы можем предположить, что он совершенно не принимается в расчёт, поскольку, что бы он ни говорил, всё продолжается предрешённым образом, мы не видим ни единого момента, когда упомянутая мать хотя бы на мгновение обращает малейшее внимание на вежливое замечание.
Маленький Ганс никак не фрустрирован, он действительно ни в чём не знает отказа. Хотя в начале наблюдения мы видим, что мать накладывает запрет на мастурбацию и произносит роковые слова: «Если ты будешь мастурбировать, мы позовём доктора А., который тебе его отрежет». Но у нас нет впечатления, что это могло бы быть чем-то решающим. Это не становится определяющим моментом, и ребёнок, конечно, продолжает мастурбировать. Родители достаточно хорошо это понимают, что не мешает им вести себя так, словно они не в курсе. Если даже это вмешательство и было отмечено ввиду той скрупулёзности, с которой Фрейд готовил отчёт, сам он определённо не приписывал этому моменту какого-либо решающего значения в отношении возникновения фобии. Ребёнок услышал эту угрозу, так сказать, как ему было угодно. И вы увидите, в конце концов окажется, что ребёнку больше ничего говорить и не надо, и именно это послужит материалом для образования того, в чём есть необходимость, то есть комплекса кастрации. Но нужно понять, почему он ему необходим. Это тот вопрос, к которому мы подошли, и пока мы не готовы на него ответить.
Сейчас речь идёт не о кастрации, речь идёт о фобии и о том, что мы ни в коем случае не можем здесь полагаться на её прямую и простую связь с запретом на мастурбацию. Как это чётко обозначил Фрейд, сама по себе мастурбация в этот момент никак не потревожена, ребёнок продолжает мастурбировать. Конечно, впоследствии она будет интегрирована в конфликт, который проявится в виде фобии, но она совершенно точно не является тем травматическим воздействием, которое определит его возникновение. Этот ребёнок растёт в наилучших условиях, и образование фобии вызывает вопрос, который действительно заслуживает того, чтобы быть поставленным; и тогда мы сможем найти проясняющие сопоставления, способствующие нашим теоретическим изысканиям.
Предварительно я хочу напомнить о фундаментальной ситуации, которая касается роли фаллоса в доэдипальных отношениях матери и ребёнка.
Мать здесь является объектом любви, объектом, присутствие которого желанно. Реакция, восприимчивость к материнскому присутствию проявляется в поведении ребёнка очень рано. Это присутствие очень быстро формирует пару присутствия-отсутствия, от образования которой мы отталкиваемся. Это наиболее простая форма отношений, которую мы можем предположить, и если в дальнейшем возникли трудности по поводу первого объектального мира ребёнка, то появились они в силу неудовлетворительной проработки самого понятия объект. Для ребёнка существует первичный объект, который мы в рамках нашего подхода ни в коем случае не можем рассматривать как сконструированный идеальным образом, то есть в мысли. Я был не первым, кто усомнился в том, что мир ребёнка определяется лишь полным, на грани растворения, примыканием к органу, который его питает. Например, работа Алисы Балинт и вся её артикуляция призваны совершенно иначе, хотя, как мне кажется, и менее чётко сформулировать то же самое, что говорю вам я, а именно, что факт существования матери ещё не означает, что уже произведено различение на я и не-я.
Мать существует как объект символический и как объект любви. Это подтверждается в опыте и отражается в позиции матери, которую она занимает в таблице. Изначально мать является матерью символической, и она начинает себя реализовывать как таковая только в условиях кризиса фрустрации вследствие определённых потрясений и особых обстоятельств, возникающих в её отношениях с ребёнком. Мать как объект любви может в любой момент стать матерью реальной, поскольку она фрустрирует эту любовь.
Отношения ребенка с матерью, отношения любви, открывают дверь тому, что обычно ошибочно формулируют как недифференцированные первые отношения. Что в действительности происходит на первом конкретном этапе отношений любви, которые создают основу для появления возможности удовлетворения ребёнка вместе с тем значением, которое оно несёт? Дело в том, что ребёнок сам вовлечён в отношения в качестве объекта любви матери. Дело в том, что он понимает, что приносит матери удовольствие. Это одно из базовых переживаний ребёнка, он знает, каким бы незначительным его присутствие ни было, обуславливает ли оно присутствие той, в которой он нуждается, является ли он сам причиной её присутствия и заботы, приносит ли он сам любовное удовлетворение. Короче говоря, основополагающим для ребёнка является быть любимым, geliebt werden, на этой почве развиваются отношения между ним и матерью.
Как я уже говорил, факты ставят перед нами вопрос: каким образом ребёнок постигает, что именно значит он для матери? Как вы знаете, наше основное предположение заключается в том, что он не одинок. Мало-помалу в опыте ребёнка формируется нечто, указывающее на то, что для матери он не единственный. Вокруг этого пункта сложится вся диалектика развития отношений матери и ребёнка.
Наиболее распространённой является ситуация, которая заключается в том, что он не один, потому что есть другие дети. Но наше основное предположение опирается на другое условие, которое является радикальным, постоянным и независящим от случайных исторических подробностей, то есть от присутствия или отсутствия других
и тогда мы сможем найти проясняющие сопоставления, способствующие нашим теоретическим изысканиям.
Предварительно я хочу напомнить о фундаментальной ситуации, которая касается роли фаллоса в доэдипальных отношениях матери и ребёнка.
Мать здесь является объектом любви, объектом, присутствие которого желанно. Реакция, восприимчивость к материнскому присутствию проявляется в поведении ребёнка очень рано. Это присутствие очень быстро формирует пару присутствия-отсутствия, от образования которой мы отталкиваемся. Это наиболее простая форма отношений, которую мы можем предположить, и если в дальнейшем возникли трудности по поводу первого объектального мира ребёнка, то появились они в силу неудовлетворительной проработки самого понятия объект. Для ребёнка существует первичный объект, который мы в рамках нашего подхода ни в коем случае не можем рассматривать как сконструированный идеальным образом, то есть в мысли. Я был не первым, кто усомнился в том, что мир ребёнка определяется лишь полным, на грани растворения, примыканием к органу, который его питает. Например, работа Алисы Балинт и вся её артикуляция призваны совершенно иначе, хотя, как мне кажется, и менее чётко сформулировать то же самое, что говорю вам я, а именно, что факт существования матери ещё не означает, что уже произведено различение на я и не-я.
Мать существует как объект символический и как объект любви. Это подтверждается в опыте и отражается в позиции матери, которую она занимает в таблице. Изначально мать является матерью символической, и она начинает себя реализовывать как таковая только в условиях кризиса фрустрации вследствие определённых потрясений и особых обстоятельств, возникающих в её отношениях с ребёнком. Мать как объект любви может в любой момент стать матерью реальной, поскольку она фрустрирует эту любовь.
Отношения ребенка с матерью, отношения любви, открывают дверь тому, что обычно ошибочно формулируют как недифференцированные первые отношения. Что в действительности происходит на первом конкретном этапе отношений любви, которые создают основу для появления возможности удовлетворения ребёнка вместе с тем значением, которое оно несёт? Дело в том, что ребёнок сам вовлечён в отношения в качестве объекта любви матери. Дело в том, что он понимает, что приносит матери удовольствие. Это одно из базовых переживаний ребёнка, он знает, каким бы незначительным его присутствие ни было, обуславливает ли оно присутствие той, в которой он нуждается, является ли он сам причиной её присутствия и заботы, приносит ли он сам любовное удовлетворение. Короче говоря, основополагающим для ребёнка является быть любимым, geliebt werden, на этой почве развиваются отношения между ним и матерью.
Как я уже говорил, факты ставят перед нами вопрос: каким образом ребёнок постигает, что именно значит он для матери? Как вы знаете, наше основное предположение заключается в том, что он не одинок. Мало-помалу в опыте ребёнка формируется нечто, указывающее на то, что для матери он не единственный. Вокруг этого пункта сложится вся диалектика развития отношений матери и ребёнка.
Наиболее распространённой является ситуация, которая заключается в том, что он не один, потому что есть другие дети. Но наше основное предположение опирается на другое условие, которое является радикальным, постоянным и независящим от случайных исторических подробностей, то есть от присутствия или отсутствия других детей. Дело в том, что в разной степени, которая зависит от обстоятельств, мать сохраняет Penis-neid, зависть к пенису. Ребёнок может её более или менее компенсировать, но в любом случае этот вопрос остается. Обнаружение фаллической матери со стороны ребёнка и выявление Penis-neid, зависти к пенису со стороны матери строго соположены проблеме, которой мы занимаемся.
Однако расположены они не на одном уровне. Если я выбрал отправиться из одного определённого пункта, чтобы достичь другого определённого пункта, оттолкнуться от доэдипальной стадии, чтобы прийти к Эдипу и комплексу кастрации, то именно потому, что мы должны причислить Penis-neid, зависть к пенису к фундаментальным величинам аналитического опыта и постоянно учитывать её участие в отношениях матери и ребёнка. Опыт подтверждает, что нет иного пути осмысления перверсий. Вопреки общепринятому мнению, они не объясняются целиком и полностью доэдипальной стадией, несмотря на то что обусловлены её опытом. Именно в отношениях с матерью ребёнок обнаруживает фаллос в фокусе её желания. И старается различными способами расположить себя в позиции приманки для этого материнского желания.
Именно об этом я говорил на встрече, на которую ссылался чуть выше. Ребёнок в различных вариациях предлагает себя матери, как если бы он сам представлял собой фаллос. Он может идентифицировать себя с матерью, идентифицировать себя с фаллосом, идентифицировать себя с матерью как обладательницей фаллоса или представить себя обладателем фаллоса. Здесь достигается высокая степень не абстракции, но генерализации воображаемых отношений, которую я называю заманивающей (leurrante), так ребёнок заверяет мать, что может дополнить её не только в качестве ребёнка, но и в том, что касается её желания, то есть в том, что касается её нехватки. Эта ситуация определённо является структурообразующей, поскольку именно вокруг неё формулируется отношение фетишиста с его объектом и распределяются все промежуточные вариации, в которых он может войти в такие сложные и многообразные отношения, где только анализ смог расставить акценты касательно трансвестизма. Что касается гомосексуальности, то это отдельный случай, поскольку она предполагает потребность в объекте, в реальном пенисе, принадлежащем другому.
В какой момент нечто кладёт конец таким образом поддерживаемым отношениям? Что положило им конец в случае маленького Ганса?
3
В начале наблюдения нас настигает вспышка озарения, чудесное ощущение, которое всегда сопровождает случившееся внезапно открытие, и мы видим ребёнка, полностью вовлечённого в такие отношения, где фаллос играет наиболее очевидную роль.
Заметки отца о развитии ребёнка до часа N, когда начинается фобия, подтверждают это. Мы узнаём, что ребёнок постоянно размышляет о фаллосе, он подробно изучает вопрос наличия фаллоса у матери, потом у отца, потом у животных. Речь ведётся только о фаллосе. Если мы прислушаемся, то фаллос действительно является принципиально значимым, центральным объектом организации его мира. Постараемся осмыслить текст Фрейда.
детей. Дело в том, что в разной степени, которая зависит от обстоятельств, мать сохраняет Penis-neid, зависть к пенису. Ребёнок может её более или менее компенсировать, но в любом случае этот вопрос остается. Обнаружение фаллической матери со стороны ребёнка и выявление Penis-neid, зависти к пенису со стороны матери строго соположены проблеме, которой мы занимаемся.
Однако расположены они не на одном уровне. Если я выбрал отправиться из одного определённого пункта, чтобы достичь другого определённого пункта, оттолкнуться от доэдипальной стадии, чтобы прийти к Эдипу и комплексу кастрации, то именно потому, что мы должны причислить Penis-neid, зависть к пенису к фундаментальным величинам аналитического опыта и постоянно учитывать её участие в отношениях матери и ребёнка. Опыт подтверждает, что нет иного пути осмысления перверсий. Вопреки общепринятому мнению, они не объясняются целиком и полностью доэдипальной стадией, несмотря на то что обусловлены её опытом. Именно в отношениях с матерью ребёнок обнаруживает фаллос в фокусе её желания. И старается различными способами расположить себя в позиции приманки для этого материнского желания.
Именно об этом я говорил на встрече, на которую ссылался чуть выше. Ребёнок в различных вариациях предлагает себя матери, как если бы он сам представлял собой фаллос. Он может идентифицировать себя с матерью, идентифицировать себя с фаллосом, идентифицировать себя с матерью как обладательницей фаллоса или представить себя обладателем фаллоса. Здесь достигается высокая степень не абстракции, но генерализации воображаемых отношений, которую я называю заманивающей (leurrante), так ребёнок заверяет мать, что может дополнить её не только в качестве ребёнка, но и в том, что касается её желания, то есть в том, что касается её нехватки. Эта ситуация определённо является структурообразующей, поскольку именно вокруг неё формулируется отношение фетишиста с его объектом и распределяются все промежуточные вариации, в которых он может войти в такие сложные и многообразные отношения, где только анализ смог расставить акценты касательно трансвестизма. Что касается гомосексуальности, то это отдельный случай, поскольку она предполагает потребность в объекте, в реальном пенисе, принадлежащем другому.
В какой момент нечто кладёт конец таким образом поддерживаемым отношениям? Что положило им конец в случае маленького Ганса?
3
В начале наблюдения нас настигает вспышка озарения, чудесное ощущение, которое всегда сопровождает случившееся внезапно открытие, и мы видим ребёнка, полностью вовлечённого в такие отношения, где фаллос играет наиболее очевидную роль.
Заметки отца о развитии ребёнка до часа N, когда начинается фобия, подтверждают это. Мы узнаём, что ребёнок постоянно размышляет о фаллосе, он подробно изучает вопрос наличия фаллоса у матери, потом у отца, потом у животных. Речь ведётся только о фаллосе. Если мы прислушаемся, то фаллос действительно является принципиально значимым, центральным объектом организации его мира. Постараемся осмыслить текст Фрейда. Так что же изменилось, несмотря на то что в жизни маленького Ганса ничего критичного не происходит? Меняется то, что его пенис становится чем-то по-настоящему реальным. Его пенис начинает возбуждаться, и ребёнок начинает мастурбировать. Важным элементом становится не столько вмешательство матери в этот момент, сколько то, что пенис становится реальным. Это основополагающий факт наблюдения. В свете чего нам стоит задаться вопросом, нет ли здесь связи между сим фактом и тем, что появляется после, то есть тревогой.
В этом семинаре я ещё не подходил к вопросу тревоги, потому что нужно делать всё по порядку. Как осмыслить тревогу, которая, как вы знаете, является постоянным вопросом, которым Фрейд занимается на всём протяжении своей работы? Я не буду пытаться сформулировать в одной фразе весь путь, проделанный Фрейдом, ограничусь только тем, что тревога как механизм представлена на каждом этапе его мысли, тогда как её концептуализация появится позже.
Как мы должны подойти к осмыслению тревоги, о которой в данном случае идёт речь? Как можно ближе к её проявлениям. Я прошу вас на мгновение прибегнуть к способу, в котором нужно немного подключить воображение, и вы увидите, что тревога, проявляющая себя в этих исключительно мимолётных отношениях, возникает каждый раз, когда субъект, как бы незаметно это ни происходило, отрывается (décollé) от своего существования и обнаруживает себя в плену того, что вы в зависимости от обстоятельств называете образом другого, искушением и т.д. В общем, тревога коррелирует с моментом выпадения из временной последовательности, когда субъект оказывается подвешенным между мгновением утраты представления о себе и следующим мгновением, когда он станет чем-то другим и больше никогда не сможет себя найти. Вот это и есть тревога.
Не замечаете ли вы, что она появляется здесь в момент, когда у маленького Ганса в форме влечения в прямом его смысле, в котором оно связано со словом импульс, возникает возбуждение реального пениса? В тот момент, когда то, что долгое время было для него раем, начинает проявлять себя как ловушка, игра, в которой он не является тем, кто он есть, но старается быть для матери всем тем, чего желает мать.
Конечно, я не могу рассказать обо всём за один раз, сейчас мне достаточно показать вам, что здесь всё изначально зависит от того, чем реально является ребёнок для матери. И мы постараемся сразу произвести некоторое различение и постараемся подойти поближе к пониманию того, что представлял собой Ганс для своей матери. Мы останемся пока на этом пункте, который имеет решающее значение и позволяет взглянуть на общее положение вещей.
До некоторых пор ребёнок находится в раю отношений, основанных на игре в приманку. Разве это не приносит ему удовлетворение? Ничто не мешает ему получать удовлетворение и очень долго вести эту игру. Ребёнку для счастья нужно мало, даже очень мало, и когда он старается заслужить любовь матери, ему это удаётся, поскольку достаточно одного намёка, каким бы тонким он ни был, чтобы поддержать эти столь трепетные отношения. Но как только вмешивается его влечение, заявляет о себе реальный пенис, тотчас случается то выпадение (décollement), о котором я только что говорил. Одураченный в своей собственной игре, он попадает в собой же поставленную ловушку, сталкиваясь с огромной разницей между воображаемым удовлетворением и чем-то реальным, представленным в своей наличности, cash, если можно так сказать. Так не может не произойти не только потому, что ребёнок в своих попытках соблазнения
Так что же изменилось, несмотря на то что в жизни маленького Ганса ничего критичного не происходит? Меняется то, что его пенис становится чем-то по-настоящему реальным. Его пенис начинает возбуждаться, и ребёнок начинает мастурбировать. Важным элементом становится не столько вмешательство матери в этот момент, сколько то, что пенис становится реальным. Это основополагающий факт наблюдения. В свете чего нам стоит задаться вопросом, нет ли здесь связи между сим фактом и тем, что появляется после, то есть тревогой.
В этом семинаре я ещё не подходил к вопросу тревоги, потому что нужно делать всё по порядку. Как осмыслить тревогу, которая, как вы знаете, является постоянным вопросом, которым Фрейд занимается на всём протяжении своей работы? Я не буду пытаться сформулировать в одной фразе весь путь, проделанный Фрейдом, ограничусь только тем, что тревога как механизм представлена на каждом этапе его мысли, тогда как её концептуализация появится позже.
Как мы должны подойти к осмыслению тревоги, о которой в данном случае идёт речь? Как можно ближе к её проявлениям. Я прошу вас на мгновение прибегнуть к способу, в котором нужно немного подключить воображение, и вы увидите, что тревога, проявляющая себя в этих исключительно мимолётных отношениях, возникает каждый раз, когда субъект, как бы незаметно это ни происходило, отрывается (décollé) от своего существования и обнаруживает себя в плену того, что вы в зависимости от обстоятельств называете образом другого, искушением и т.д. В общем, тревога коррелирует с моментом выпадения из временной последовательности, когда субъект оказывается подвешенным между мгновением утраты представления о себе и следующим мгновением, когда он станет чем-то другим и больше никогда не сможет себя найти. Вот это и есть тревога.
Не замечаете ли вы, что она появляется здесь в момент, когда у маленького Ганса в форме влечения в прямом его смысле, в котором оно связано со словом импульс, возникает возбуждение реального пениса? В тот момент, когда то, что долгое время было для него раем, начинает проявлять себя как ловушка, игра, в которой он не является тем, кто он есть, но старается быть для матери всем тем, чего желает мать.
Конечно, я не могу рассказать обо всём за один раз, сейчас мне достаточно показать вам, что здесь всё изначально зависит от того, чем реально является ребёнок для матери. И мы постараемся сразу произвести некоторое различение и постараемся подойти поближе к пониманию того, что представлял собой Ганс для своей матери. Мы останемся пока на этом пункте, который имеет решающее значение и позволяет взглянуть на общее положение вещей.
До некоторых пор ребёнок находится в раю отношений, основанных на игре в приманку. Разве это не приносит ему удовлетворение? Ничто не мешает ему получать удовлетворение и очень долго вести эту игру. Ребёнку для счастья нужно мало, даже очень мало, и когда он старается заслужить любовь матери, ему это удаётся, поскольку достаточно одного намёка, каким бы тонким он ни был, чтобы поддержать эти столь трепетные отношения. Но как только вмешивается его влечение, заявляет о себе реальный пенис, тотчас случается то выпадение (décollement), о котором я только что говорил. Одураченный в своей собственной игре, он попадает в собой же поставленную ловушку, сталкиваясь с огромной разницей между воображаемым удовлетворением и чем-то реальным, представленным в своей наличности, cash, если можно так сказать. Так не может не произойти не только потому, что ребёнок в своих попытках соблазнения по тем или иным причинам терпит неудачу или мать, например, ему отказывает. Решающую роль играет тот факт, что то, что он в конечном счёте может матери предъявить - этому есть тысячи подтверждений в аналитическом опыте - оказывается крайне жалким. Ребёнок оказывается перед перспективой стать пленником, жертвой, пассивным участником игры, в которой он становится жертвой подаваемых Другим знаков. В этом заключается дилемма.
Я говорил об этом в прошлом году - именно к этому положению я подверстал происхождение паранойи. Как только игра начинается всерьёз и в то же время остаётся лишь игрой в приманку, ребёнок становится полностью обусловленным тем, на что указывает ему партнёр. Любые проявления со стороны партнера становятся знаками, подтверждающими его состоятельность или несостоятельность. Когда ситуация развивается в этом направлении, то есть, когда в силу Verwerfung, отбрасывания, не происходит вмешательство фигуры символического отца, в необходимости которой мы на конкретном материале убедимся в дальнейшем, ребёнок располагается в совершенно особой, открытой глазу и взгляду Другого позиции. Но оставим вопрос паранойи на будущее. Для субъекта иной структуры ситуация буквально безвыходная, или же выходом из неё становится то, что мы называем комплексом кастрации. Я подошёл к тому, чтобы показать вам, в чём он состоит.
Комплекс кастрации на чисто воображаемом уровне вбирает в себя всё, что имеет дело с фаллосом, и именно поэтому реальный пенис следует вывести из игры. Вмешательство отца вводит символический порядок с его защитными мерами и главенством закона, то есть ситуация выходит из-под контроля ребёнка и регулируется вне его. С отцом единственным шансом на выигрыш будет принять существующее распределение ставок. Символический порядок вторгается в план воображаемого. Не случайно объектом кастрации является воображаемый фаллос, находящийся в каком-то смысле вне реальной пары. Тем самым устанавливается порядок, внутри которого ребёнок сможет ожидать дальнейшего развития событий.
Это может показаться вам несколько упрощённым решением проблемы. Это не решение, но краткое замечание, переброшенный мостик. Если бы это не было настолько простым, если бы это не было лишь переброшенным мостиком, то его и не было бы нужды перебрасывать. Тот пункт, в котором мы расположились сейчас,интересен нам именно потому, что, когда его достиг маленький Ганс, с ним ничего подобного не произошло.
С чем сталкивается маленький Ганс? Он оказывается в точке встречи реального влечения с воображаемой игрой в измерении фаллической приманки, и происходит это в отношениях с матерью. Учитывая, что это невроз, что возникает в этот момент? Вы не удивитесь, если услышите, что возникает регрессия.
Я всё же предпочел бы, чтобы вас это удивило, поскольку на последней перед каникулами нашей встрече, когда мы говорили о фрустрации, я придал этому термину строгое значение. Я говорил тогда, что, испытывая недостаток присутствия матери, ребёнок компенсирует это удовлетворением от пищи. Точно так же регрессия происходит в момент, когда ребёнок испытывает смятение, обнаружив, что давать то, чем он располагает, оказывается недостаточно. Происходит то же самое короткое замыкание, которым удовлетворяется первичная фрустрация, когда ребёнок, прильнув к груди, пытаясь избежать всех проблем, решает проблему разверзающегося перед ним зияния, то есть участи быть поглощённым матерью.
по тем или иным причинам терпит неудачу или мать, например, ему отказывает. Решающую роль играет тот факт, что то, что он в конечном счёте может матери предъявить - этому есть тысячи подтверждений в аналитическом опыте - оказывается крайне жалким. Ребёнок оказывается перед перспективой стать пленником, жертвой, пассивным участником игры, в которой он становится жертвой подаваемых Другим знаков. В этом заключается дилемма.
Я говорил об этом в прошлом году - именно к этому положению я подверстал происхождение паранойи. Как только игра начинается всерьёз и в то же время остаётся лишь игрой в приманку, ребёнок становится полностью обусловленным тем, на что указывает ему партнёр. Любые проявления со стороны партнера становятся знаками, подтверждающими его состоятельность или несостоятельность. Когда ситуация развивается в этом направлении, то есть, когда в силу Verwerfung, отбрасывания, не происходит вмешательство фигуры символического отца, в необходимости которой мы на конкретном материале убедимся в дальнейшем, ребёнок располагается в совершенно особой, открытой глазу и взгляду Другого позиции. Но оставим вопрос паранойи на будущее. Для субъекта иной структуры ситуация буквально безвыходная, или же выходом из неё становится то, что мы называем комплексом кастрации. Я подошёл к тому, чтобы показать вам, в чём он состоит.
Комплекс кастрации на чисто воображаемом уровне вбирает в себя всё, что имеет дело с фаллосом, и именно поэтому реальный пенис следует вывести из игры. Вмешательство отца вводит символический порядок с его защитными мерами и главенством закона, то есть ситуация выходит из-под контроля ребёнка и регулируется вне его. С отцом единственным шансом на выигрыш будет принять существующее распределение ставок. Символический порядок вторгается в план воображаемого. Не случайно объектом кастрации является воображаемый фаллос, находящийся в каком-то смысле вне реальной пары. Тем самым устанавливается порядок, внутри которого ребёнок сможет ожидать дальнейшего развития событий.
Это может показаться вам несколько упрощённым решением проблемы. Это не решение, но краткое замечание, переброшенный мостик. Если бы это не было настолько простым, если бы это не было лишь переброшенным мостиком, то его и не было бы нужды перебрасывать. Тот пункт, в котором мы расположились сейчас,интересен нам именно потому, что, когда его достиг маленький Ганс, с ним ничего подобного не произошло.
С чем сталкивается маленький Ганс? Он оказывается в точке встречи реального влечения с воображаемой игрой в измерении фаллической приманки, и происходит это в отношениях с матерью. Учитывая, что это невроз, что возникает в этот момент? Вы не удивитесь, если услышите, что возникает регрессия.
Я всё же предпочел бы, чтобы вас это удивило, поскольку на последней перед каникулами нашей встрече, когда мы говорили о фрустрации, я придал этому термину строгое значение. Я говорил тогда, что, испытывая недостаток присутствия матери, ребёнок компенсирует это удовлетворением от пищи. Точно так же регрессия происходит в момент, когда ребёнок испытывает смятение, обнаружив, что давать то, чем он располагает, оказывается недостаточно. Происходит то же самое короткое замыкание, которым удовлетворяется первичная фрустрация, когда ребёнок, прильнув к груди, пытаясь избежать всех проблем, решает проблему разверзающегося перед ним зияния, то есть участи быть поглощённым матерью. Одновременно это и то первое обличье, которое принимает в случае нашего маленького приятеля фобия. Хотя объектом фобии и становится лошадь, это лошадь, которая кусает. Так или иначе тема поглощения всегда обнаруживается в структуре фобии.
И всё на этом? Конечно, нет, поскольку имеет значение, кто кусает и кто пожирает. Мы не можем объяснить всё сразу. Каждый раз, когда мы имеем дело с рядом фундаментальных отношений, необходимо оставить некоторые вещи за скобками, чтобы что-то, напротив, сформулировать более ясно. Определённо можно сказать, что объекты фобии, в частности животные, даже при самом поверхностном наблюдении обнаруживают метку исконной принадлежности порядку символического. Например, не только опасность, но и сама возможность встречи со львом в стране, в которой живёт ребёнок, не является обычным делом. Волк и жираф тоже представляют собой объекты довольно специфические, среди которых лошадь исключительно точно представляет категорию означающих, по самой своей природе однородных тем, что встречаются на гербах. Именно на это опирается аналогия, проведённая в Тотеме и табу между отцом и тотемом. На самом деле эти объекты выполняют особую функцию, призванную заместить собой означающее символического отца.
Мы не понимаем до конца, что из себя представляет это означающее, но стоит задаться вопросом, почему оно возникает в той или иной форме. В том, с чем мы сталкиваемся, обязательно остается нечто, данное просто как факт, как несводимый к чему-то иному положительный опыт. Я предлагаю вам не окончательные выводы, но аппарат, необходимый для осмысления нашего опыта. Также мы здесь не для того, чтобы заниматься вопросом, почему объект фобии принимает форму такого животного. Дело не в этом.
4
Я попрошу вас в следующий раз принести с собой текст случая маленького Ганса. У вас не останется сомнений в том, что это фобия, но, если можно так выразиться, фобия в разработке. Родители обратили на неё внимание, как только она появилась, и отец не прерывал наблюдение до момента её прекращения.
Я бы хотел, чтобы вы прочитали этот текст. Вы получите массу разнообразных впечатлений, и у вас будет множество возможностей испытать ощущение полной растерянности. Тем не менее я бы хотел, чтобы те из вас, кто решится подвергнуть себя этому испытанию, сказали мне в следующий раз, не показался ли им поразительным один контраст.
На начальном этапе мы видим, как маленький Ганс пребывает в разнообразных, весьма романтических фантазиях по поводу отношений с теми, кого он принимает в качестве своих детей. В развитии этой воображаемой темы он проявляет большую раскованность. Это является продолжением игры в приманку с матерью. Здесь он совершенно свободно чувствует себя, потому что занимает позицию, в которой замешана идентификация с матерью, поскольку речь идёт об усыновлении детей и различных формах любовных отношений, которые он фиктивно разыгрывает с необыкновенной лёгкостью. Он действительно воспроизводит полную гамму возможных связей: от более близких ухаживаний за маленькой девочкой, дочерью
Одновременно это и то первое обличье, которое принимает в случае нашего маленького приятеля фобия. Хотя объектом фобии и становится лошадь, это лошадь, которая кусает. Так или иначе тема поглощения всегда обнаруживается в структуре фобии.
И всё на этом? Конечно, нет, поскольку имеет значение, кто кусает и кто пожирает. Мы не можем объяснить всё сразу. Каждый раз, когда мы имеем дело с рядом фундаментальных отношений, необходимо оставить некоторые вещи за скобками, чтобы что-то, напротив, сформулировать более ясно. Определённо можно сказать, что объекты фобии, в частности животные, даже при самом поверхностном наблюдении обнаруживают метку исконной принадлежности порядку символического. Например, не только опасность, но и сама возможность встречи со львом в стране, в которой живёт ребёнок, не является обычным делом. Волк и жираф тоже представляют собой объекты довольно специфические, среди которых лошадь исключительно точно представляет категорию означающих, по самой своей природе однородных тем, что встречаются на гербах. Именно на это опирается аналогия, проведённая в Тотеме и табу между отцом и тотемом. На самом деле эти объекты выполняют особую функцию, призванную заместить собой означающее символического отца.
Мы не понимаем до конца, что из себя представляет это означающее, но стоит задаться вопросом, почему оно возникает в той или иной форме. В том, с чем мы сталкиваемся, обязательно остается нечто, данное просто как факт, как несводимый к чему-то иному положительный опыт. Я предлагаю вам не окончательные выводы, но аппарат, необходимый для осмысления нашего опыта. Также мы здесь не для того, чтобы заниматься вопросом, почему объект фобии принимает форму такого животного. Дело не в этом.
4
Я попрошу вас в следующий раз принести с собой текст случая маленького Ганса. У вас не останется сомнений в том, что это фобия, но, если можно так выразиться, фобия в разработке. Родители обратили на неё внимание, как только она появилась, и отец не прерывал наблюдение до момента её прекращения.
Я бы хотел, чтобы вы прочитали этот текст. Вы получите массу разнообразных впечатлений, и у вас будет множество возможностей испытать ощущение полной растерянности. Тем не менее я бы хотел, чтобы те из вас, кто решится подвергнуть себя этому испытанию, сказали мне в следующий раз, не показался ли им поразительным один контраст.
На начальном этапе мы видим, как маленький Ганс пребывает в разнообразных, весьма романтических фантазиях по поводу отношений с теми, кого он принимает в качестве своих детей. В развитии этой воображаемой темы он проявляет большую раскованность. Это является продолжением игры в приманку с матерью. Здесь он совершенно свободно чувствует себя, потому что занимает позицию, в которой замешана идентификация с матерью, поскольку речь идёт об усыновлении детей и различных формах любовных отношений, которые он фиктивно разыгрывает с необыкновенной лёгкостью. Он действительно воспроизводит полную гамму возможных связей: от более близких ухаживаний за маленькой девочкой, дочерью хозяев дома, где остановилась его семья на каникулах, до любви на расстоянии к другой маленькой девочке.
Этот эпизод контрастирует с тем, что происходит после вмешательства отца. Под действием более или менее направленного аналитического расследования отца ребёнок переносит себя в действие фантастического романа, в котором на много лет раньше своего рождения, в коляске, в экипаже, на лошадях присутствует его младшая сестра. Короче говоря, отчётливо проступает соответствие между тем, что я назвал бы оргией воображения в процессе анализа, и вмешательством реального отца.
Если фобия получает наиболее удовлетворительное лечение - и мы увидим, что означает это наиболее удовлетворительное лечение в случае фобии - то происходит это за счёт вмешательства реального отца, который так мало вмешивался до сих пор, и тем не менее смог это сделать лишь потому, что был поддержан Фрейдом как отцом символическим. Но по мере вмешательства отца всё то, что стремилось кристаллизоваться в качестве своего рода преждевременного реального, возвращается в радикальное воображаемое, радикальное настолько, что мы уже не вполне отдаём себе отчёт, где находимся. Мы постоянно спрашиваем себя, не высмеивает ли маленький Ганс всех вокруг. Он, безусловно, располагает тонким чувством юмора, поскольку речь идёт о воображаемом, которое ведёт игру, чтобы реорганизовать мир символического.
Ясно одно: исцеление наступает в момент, когда в самой отчетливой форме, в форме артикулированной истории, даёт о себе знать кастрация как таковая. Я говорю об истории о так называемом водопроводчике, который приходит, отвинчивает ему один предмет и привинчивает другой. Именно на этом заканчивается отчёт о наблюдении. Из этого можно заключить, что разрешение фобии связано с констелляцией триады: воображаемая оргия, вмешательство реального отца, символическая кастрация.
Реальный отец, к которому мы в следующий раз вернемся, появляется в весьма жалком облике, хотя ему всячески помогает и подставляет плечо отец символический. Фрейд вынужден повторять всё время: «Это лучше, чем ничего, надо было дать ему говорить». Но главное - вы найдёте это внизу одной из страниц - «не спешите понимать слишком быстро». Отец, досаждая ребенку вопросами, идёт по ложному пути. Но это неважно. Результат его вмешательства складывается из следующих двух пунктов: воображаемая оргия Ганса и осуществление полностью артикулированной кастрации в форме замены реального на что-то более красивое и большое. Осуществление кастрации кладёт фобии конец и выявляет если не цель её, то нечто такое, что фобия призвана была восполнить.
Как вы понимаете, это лишь промежуточный пункт моего изложения, я хотел только показать вам, как расширяется спектр вопросов. В следующий раз мы вернёмся к диалектике отношений матери и ребёнка и займёмся выявлением значения, истинного смысла комплекса кастрации.
13 марта 1957
хозяев дома, где остановилась его семья на каникулах, до любви на расстоянии к другой маленькой девочке.
Этот эпизод контрастирует с тем, что происходит после вмешательства отца. Под действием более или менее направленного аналитического расследования отца ребёнок переносит себя в действие фантастического романа, в котором на много лет раньше своего рождения, в коляске, в экипаже, на лошадях присутствует его младшая сестра. Короче говоря, отчётливо проступает соответствие между тем, что я назвал бы оргией воображения в процессе анализа, и вмешательством реального отца.
Если фобия получает наиболее удовлетворительное лечение - и мы увидим, что означает это наиболее удовлетворительное лечение в случае фобии - то происходит это за счёт вмешательства реального отца, который так мало вмешивался до сих пор, и тем не менее смог это сделать лишь потому, что был поддержан Фрейдом как отцом символическим. Но по мере вмешательства отца всё то, что стремилось кристаллизоваться в качестве своего рода преждевременного реального, возвращается в радикальное воображаемое, радикальное настолько, что мы уже не вполне отдаём себе отчёт, где находимся. Мы постоянно спрашиваем себя, не высмеивает ли маленький Ганс всех вокруг. Он, безусловно, располагает тонким чувством юмора, поскольку речь идёт о воображаемом, которое ведёт игру, чтобы реорганизовать мир символического.
Ясно одно: исцеление наступает в момент, когда в самой отчетливой форме, в форме артикулированной истории, даёт о себе знать кастрация как таковая. Я говорю об истории о так называемом водопроводчике, который приходит, отвинчивает ему один предмет и привинчивает другой. Именно на этом заканчивается отчёт о наблюдении. Из этого можно заключить, что разрешение фобии связано с констелляцией триады: воображаемая оргия, вмешательство реального отца, символическая кастрация.
Реальный отец, к которому мы в следующий раз вернемся, появляется в весьма жалком облике, хотя ему всячески помогает и подставляет плечо отец символический. Фрейд вынужден повторять всё время: «Это лучше, чем ничего, надо было дать ему говорить». Но главное - вы найдёте это внизу одной из страниц - «не спешите понимать слишком быстро». Отец, досаждая ребенку вопросами, идёт по ложному пути. Но это неважно. Результат его вмешательства складывается из следующих двух пунктов: воображаемая оргия Ганса и осуществление полностью артикулированной кастрации в форме замены реального на что-то более красивое и большое. Осуществление кастрации кладёт фобии конец и выявляет если не цель её, то нечто такое, что фобия призвана была восполнить.
Как вы понимаете, это лишь промежуточный пункт моего изложения, я хотел только показать вам, как расширяется спектр вопросов. В следующий раз мы вернёмся к диалектике отношений матери и ребёнка и займёмся выявлением значения, истинного смысла комплекса кастрации.
13 марта 1957


 или наоборот. Смешение их ввело бы в сам символ двусмысленность, тогда как, различая их, можно выразиться яснее.
Теперь дело в том, чтобы понять, что упомянутая ясность значит. Имейте в виду: то, что вы зовёте двусмысленностью, и надо как раз почувствовать. Символ, будучи плюсом, подразумевает минус. Символ, будучи минусом, подразумевает плюс. По мере нашего продвижения двусмысленность возникает всегда, и я делаю минимально возможный шаг, группируя символы по тройкам. Если я не разъяснил это по ходу статьи, то произошло это по той причине, что я собирался лишь напомнить вам контекст, в котором было представлено украденное письмо. Попробуйте осмыслить этот минимальный шаг, потому что именно в измерении сокрытой в символе двусмысленности проявляется то, что я называю законом.
Что бы в самом деле произошло, если бы мы пренебрегли этим шагом и обозначили четыре вершины иначе, например: £, Z, П, 0? Мы получили бы другие, чрезвычайно сложные последовательности, поскольку имели бы дело с восьмью терминами, каждый из которых составлял бы пару с двумя другими в соответствии с далеко не очевидным сразу порядком. Вот почему были выбраны неоднозначные символы, которые ставят в пару одну вершину а с другой вершиной, обозначенной также а, хотя она действительно исполняет другие функции. Группируя их таким образом, можно увидеть простую закономерность, которую я представил вам в одной из схем текста.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
а, б а, б
--» а, б, у, Р ----» ----
V, Р V, Р
1-ыйтакт 2-ой такт 3-ий такт
Эта схема позволяет сказать, что если в первом и втором такте символы могут быть любыми, то в третьем возникает дихотомия: из а или 5 в первом такте нельзя получить Y или 5 в третьем, а из y или в нельзя, соответственно, получить а или в.
В моём тексте я указал на определённые последовательности, которые интересны тем, что делают очевидными другие комбинации этой же формы, свойства и синтаксические закономерности, которые выводятся из этой предельно простой формулы. Я постарался сделать их более метафоричными, чтобы они помогли осмыслить означающее в качестве истинного организатора самой сути человеческой памяти. Эта последняя, всегда включающая в свою ткань некоторые элементы означающего, структурирована принципиально иначе, нежели витальная память, целиком опирающаяся на хранение или стирание какого-либо впечатления. Как только мы внедряем означающее в реальное, что происходит сразу же, как только мы начинаем говорить или просто считать, всё, что оказывается зафиксировано в памяти, структурируется принципиально иначе, чем предполагает теория памяти, опирающаяся исключительно на витальные впечатления.
Это то, что я пытаюсь показать, в данном случае метафорически, когда говорю о будущем в прошедшем (futur antérieur) и располагаю после третьего такта четвёртый. Примите этот четвёртый такт в качестве пункта назначения. В этом месте может оказаться любой из четырёх символов, поскольку четвёртый такт исполняет ту же
или наоборот. Смешение их ввело бы в сам символ двусмысленность, тогда как, различая их, можно выразиться яснее.
Теперь дело в том, чтобы понять, что упомянутая ясность значит. Имейте в виду: то, что вы зовёте двусмысленностью, и надо как раз почувствовать. Символ, будучи плюсом, подразумевает минус. Символ, будучи минусом, подразумевает плюс. По мере нашего продвижения двусмысленность возникает всегда, и я делаю минимально возможный шаг, группируя символы по тройкам. Если я не разъяснил это по ходу статьи, то произошло это по той причине, что я собирался лишь напомнить вам контекст, в котором было представлено украденное письмо. Попробуйте осмыслить этот минимальный шаг, потому что именно в измерении сокрытой в символе двусмысленности проявляется то, что я называю законом.
Что бы в самом деле произошло, если бы мы пренебрегли этим шагом и обозначили четыре вершины иначе, например: £, Z, П, 0? Мы получили бы другие, чрезвычайно сложные последовательности, поскольку имели бы дело с восьмью терминами, каждый из которых составлял бы пару с двумя другими в соответствии с далеко не очевидным сразу порядком. Вот почему были выбраны неоднозначные символы, которые ставят в пару одну вершину а с другой вершиной, обозначенной также а, хотя она действительно исполняет другие функции. Группируя их таким образом, можно увидеть простую закономерность, которую я представил вам в одной из схем текста.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
а, б а, б
--» а, б, у, Р ----» ----
V, Р V, Р
1-ыйтакт 2-ой такт 3-ий такт
Эта схема позволяет сказать, что если в первом и втором такте символы могут быть любыми, то в третьем возникает дихотомия: из а или 5 в первом такте нельзя получить Y или 5 в третьем, а из y или в нельзя, соответственно, получить а или в.
В моём тексте я указал на определённые последовательности, которые интересны тем, что делают очевидными другие комбинации этой же формы, свойства и синтаксические закономерности, которые выводятся из этой предельно простой формулы. Я постарался сделать их более метафоричными, чтобы они помогли осмыслить означающее в качестве истинного организатора самой сути человеческой памяти. Эта последняя, всегда включающая в свою ткань некоторые элементы означающего, структурирована принципиально иначе, нежели витальная память, целиком опирающаяся на хранение или стирание какого-либо впечатления. Как только мы внедряем означающее в реальное, что происходит сразу же, как только мы начинаем говорить или просто считать, всё, что оказывается зафиксировано в памяти, структурируется принципиально иначе, чем предполагает теория памяти, опирающаяся исключительно на витальные впечатления.
Это то, что я пытаюсь показать, в данном случае метафорически, когда говорю о будущем в прошедшем (futur antérieur) и располагаю после третьего такта четвёртый. Примите этот четвёртый такт в качестве пункта назначения. В этом месте может оказаться любой из четырёх символов, поскольку четвёртый такт исполняет ту же функцию, что и второй. Выбор одного из четырёх символов в этом пункте приведёт к определённым исключениям во втором и третьем тактах, что помогает представить себе конкретное значение ближайшего будущего времени (futur immédiat) в тот момент, когда оно становится по отношению к цели, окончательному плану, предшествующим будущим (futur antérieur). Тем фактом, что некоторые означающие элементы становятся поэтому заведомо невозможными, я могу метафорически проиллюстрировать функцию, которую можно приписать тому, что я назвал бы в данном случае невозможным означающим, caput mortuum означающего.
Поверьте, я предпринял этот своего рода математический экскурс не для того, чтобы обнаружить полную свою некомпетентность. Вы ошибаетесь, полагая, что это так. Прежде всего, я об этом не только вчера задумался. Затем я попросил проверить моё построение математика. Не думайте, что эти уточнения содержат хоть малейший хрупкий и ненадёжный элемент.
На этом я прервал своё изложение. Но поскольку некоторые могут придраться ко мне, указывая на обманчивость впечатления, будто тайна полностью исчезает, если в расположении вершин представленной мной параллелепипедной конструкции можно выявить закономерности, и притом при детальном рассмотрении довольно простые, мне хочется подчеркнуть, что дело не в этом. Вот почему я предлагаю вам на мгновение сосредоточиться на понятии, которое легко вам покажет, что как только появляется графическое, возникает орфографическое.
Я собираюсь тотчас продемонстрировать это другим способом, который может быть для вас более доказательным и никак не будет противоречить тому, что я уже сказал.
Я отталкиваюсь от той же гипотезы, которая, в отличие от обыденного словоупотребления, оперирует упрощёнными определениями и предпосылками, которые из неё следуют. Я вновь буду исходить из последовательности типа odd, не делая поначалу - как я действительно, на что мне указывали, мог поступить - различия между odd с двумя безударными стопами в начале и odd с двумя безударными стопами в конце, между, иными словами, анапестом и дактилем, ибо суть как раз в том, чтобы исходить в своих выводах из действительно рудиментарных определений, исключающих всяческие интуитивные элементы, и прежде всего тот особенно поразительный из них, что основан на ритмическом членении и в каком-то смысле задействует тело. Мы не вступаем здесь в область поэзии, мы лишь вводим понятие симметрии и асимметрии. Я вам объясню, почему идея ограничить происхождение первого означающего этим строго заданным элементом кажется мне интересной.
Возвращаясь к своей таблице, я предлагаю вам рассмотреть, что происходит в шестом такте.
В него могут вписаться а, в, Y, 5. Вы видите чрезмерное количество возможных вариантов. Мы действительно располагаем всеми возможными символами на двух уровнях. Но что обнаруживается в первом же приближении? Если в качестве конечного пункта вы выбираете некоторую букву в пятом такте, например, букву в, и принимаете в качестве отправной точки другую букву, например, букву а, то есть собираетесь получить такую серию, в которой в первом такте было бы а, а в пятом такте было бы в, вы тотчас обнаружите, что в третьем такте точно не может быть ни y, ни другого элемента этой же строки, поскольку, коль скоро вы начинаете с а, то на третьем такте вам остаётся только то, что выше линии разделения, то есть а или в. В четвёртом такте вы можете получить
функцию, что и второй. Выбор одного из четырёх символов в этом пункте приведёт к определённым исключениям во втором и третьем тактах, что помогает представить себе конкретное значение ближайшего будущего времени (futur immédiat) в тот момент, когда оно становится по отношению к цели, окончательному плану, предшествующим будущим (futur antérieur). Тем фактом, что некоторые означающие элементы становятся поэтому заведомо невозможными, я могу метафорически проиллюстрировать функцию, которую можно приписать тому, что я назвал бы в данном случае невозможным означающим, caput mortuum означающего.
Поверьте, я предпринял этот своего рода математический экскурс не для того, чтобы обнаружить полную свою некомпетентность. Вы ошибаетесь, полагая, что это так. Прежде всего, я об этом не только вчера задумался. Затем я попросил проверить моё построение математика. Не думайте, что эти уточнения содержат хоть малейший хрупкий и ненадёжный элемент.
На этом я прервал своё изложение. Но поскольку некоторые могут придраться ко мне, указывая на обманчивость впечатления, будто тайна полностью исчезает, если в расположении вершин представленной мной параллелепипедной конструкции можно выявить закономерности, и притом при детальном рассмотрении довольно простые, мне хочется подчеркнуть, что дело не в этом. Вот почему я предлагаю вам на мгновение сосредоточиться на понятии, которое легко вам покажет, что как только появляется графическое, возникает орфографическое.
Я собираюсь тотчас продемонстрировать это другим способом, который может быть для вас более доказательным и никак не будет противоречить тому, что я уже сказал.
Я отталкиваюсь от той же гипотезы, которая, в отличие от обыденного словоупотребления, оперирует упрощёнными определениями и предпосылками, которые из неё следуют. Я вновь буду исходить из последовательности типа odd, не делая поначалу - как я действительно, на что мне указывали, мог поступить - различия между odd с двумя безударными стопами в начале и odd с двумя безударными стопами в конце, между, иными словами, анапестом и дактилем, ибо суть как раз в том, чтобы исходить в своих выводах из действительно рудиментарных определений, исключающих всяческие интуитивные элементы, и прежде всего тот особенно поразительный из них, что основан на ритмическом членении и в каком-то смысле задействует тело. Мы не вступаем здесь в область поэзии, мы лишь вводим понятие симметрии и асимметрии. Я вам объясню, почему идея ограничить происхождение первого означающего этим строго заданным элементом кажется мне интересной.
Возвращаясь к своей таблице, я предлагаю вам рассмотреть, что происходит в шестом такте.
В него могут вписаться а, в, Y, 5. Вы видите чрезмерное количество возможных вариантов. Мы действительно располагаем всеми возможными символами на двух уровнях. Но что обнаруживается в первом же приближении? Если в качестве конечного пункта вы выбираете некоторую букву в пятом такте, например, букву в, и принимаете в качестве отправной точки другую букву, например, букву а, то есть собираетесь получить такую серию, в которой в первом такте было бы а, а в пятом такте было бы в, вы тотчас обнаружите, что в третьем такте точно не может быть ни y, ни другого элемента этой же строки, поскольку, коль скоро вы начинаете с а, то на третьем такте вам остаётся только то, что выше линии разделения, то есть а или в. В четвёртом такте вы можете получить а, в, Y, 5. Но что У вас должно быть в третьем такте, чтобы вы могли получить в пятом такте в? Нужно, чтобы у вас в третьем такте была буква а.
Из этого следует, что если вы намечаете серию, в пятом такте которой должны появиться две определённые буквы, то промежуточная буква в третьем такте однозначно определена.
Я бы мог продемонстрировать и другие поразительные свойства, но пока остановлюсь на этом в надежде, что оно прояснит для вашего осмысления то измерение, о котором идёт речь. Результатом этого свойства является то, что если вы возьмёте любое звено в цепи, то вы сразу же можете удостовериться со всей очевидностью -такую же проверку осуществляет типограф - есть ли ошибка, сверившись с элементом, расположенным в последовательности двумя тактами до и двумя тактами после. В центре, между ними, может оказаться только одна возможная буква. Другими словами, возникновение буквенной графики, возможности написания в тот же момент порождает орфографа, то есть возникает возможность проконтролировать правописание.
Вот для чего сконструирован этот пример. Он показывает вам, что с момента появления означающего уже на его наиболее элементарном уровне, вне зависимости от любого реального элемента, заявляет о себе закон. Это совершенно не означает упорядочивания случайности, но говорит о том, что вместе с означающим, независимо от любого опыта, появляется и закон. Вот что были призваны продемонстрировать вам все эти операции с буквами а, в, Y, 5.
Похоже, в некоторых умах эти положения вызывают большое сопротивление. Тем не менее они кажутся мне более простым способом дать почувствовать определённое измерение, чем, к примеру, рекомендовать работы Месье Фреге, учёного, жившего в нашем веке, который посвятил себя изучению, казалось бы, самых простых основ математики, то есть арифметики. Он посчитал необходимым сделать существенные и убедительные обращения к таким вещам, которые тем более трудны для понимания, чем более просты, чтобы показать, что нет никакой возможности вывести число три, опираясь только на опыт. Это, конечно, приводит к необходимости ряда философских и математических операций, испытанию которыми я не чувствовал нужды вас подвергать.
Тем не менее это очень важно для нас, поскольку если вопреки тому, в чём мог бы быть убеждён Месье Юнг, никакой опыт переживания не может предоставить нам доступа к числу три, то из этого определённо следует, что символический порядок, будучи отличным от реального, врезается в реальное, как плуг, и вводит в него особое измерение. И поскольку мы, другие аналитики, работаем в этом измерении речи, мы должны принимать в расчёт оригинальность его происхождения. Вот о чём идёт здесь речь.
Честно говоря, я боюсь вас утомить и попробую объяснить по-другому. Я расскажу вам об идее, посетившей меня. Она более понятна интуитивно, хотя менее точна в своём выражении.
Эта мысль возникла у меня, когда я был в замечательном зоопарке в шестидесяти километрах к северу от Лондона. Звери живут там в наиболее свободных условиях, ограждения скрыты в глубине специальных рвов. Я наблюдал за львом в окружении трёх великолепных львиц, они хорошо ладили и пребывали в самом умиротворённом настроении. И я спросил себя, в чём причина такого взаимопонимания между этими животными, ведь, судя по тому, что нам о них известно, следовало бы ожидать других проявлений в виде вспышек соперничества и конфликтов. Мне не показалось, что я
а, в, Y, 5. Но что У вас должно быть в третьем такте, чтобы вы могли получить в пятом такте в? Нужно, чтобы у вас в третьем такте была буква а.
Из этого следует, что если вы намечаете серию, в пятом такте которой должны появиться две определённые буквы, то промежуточная буква в третьем такте однозначно определена.
Я бы мог продемонстрировать и другие поразительные свойства, но пока остановлюсь на этом в надежде, что оно прояснит для вашего осмысления то измерение, о котором идёт речь. Результатом этого свойства является то, что если вы возьмёте любое звено в цепи, то вы сразу же можете удостовериться со всей очевидностью -такую же проверку осуществляет типограф - есть ли ошибка, сверившись с элементом, расположенным в последовательности двумя тактами до и двумя тактами после. В центре, между ними, может оказаться только одна возможная буква. Другими словами, возникновение буквенной графики, возможности написания в тот же момент порождает орфографа, то есть возникает возможность проконтролировать правописание.
Вот для чего сконструирован этот пример. Он показывает вам, что с момента появления означающего уже на его наиболее элементарном уровне, вне зависимости от любого реального элемента, заявляет о себе закон. Это совершенно не означает упорядочивания случайности, но говорит о том, что вместе с означающим, независимо от любого опыта, появляется и закон. Вот что были призваны продемонстрировать вам все эти операции с буквами а, в, Y, 5.
Похоже, в некоторых умах эти положения вызывают большое сопротивление. Тем не менее они кажутся мне более простым способом дать почувствовать определённое измерение, чем, к примеру, рекомендовать работы Месье Фреге, учёного, жившего в нашем веке, который посвятил себя изучению, казалось бы, самых простых основ математики, то есть арифметики. Он посчитал необходимым сделать существенные и убедительные обращения к таким вещам, которые тем более трудны для понимания, чем более просты, чтобы показать, что нет никакой возможности вывести число три, опираясь только на опыт. Это, конечно, приводит к необходимости ряда философских и математических операций, испытанию которыми я не чувствовал нужды вас подвергать.
Тем не менее это очень важно для нас, поскольку если вопреки тому, в чём мог бы быть убеждён Месье Юнг, никакой опыт переживания не может предоставить нам доступа к числу три, то из этого определённо следует, что символический порядок, будучи отличным от реального, врезается в реальное, как плуг, и вводит в него особое измерение. И поскольку мы, другие аналитики, работаем в этом измерении речи, мы должны принимать в расчёт оригинальность его происхождения. Вот о чём идёт здесь речь.
Честно говоря, я боюсь вас утомить и попробую объяснить по-другому. Я расскажу вам об идее, посетившей меня. Она более понятна интуитивно, хотя менее точна в своём выражении.
Эта мысль возникла у меня, когда я был в замечательном зоопарке в шестидесяти километрах к северу от Лондона. Звери живут там в наиболее свободных условиях, ограждения скрыты в глубине специальных рвов. Я наблюдал за львом в окружении трёх великолепных львиц, они хорошо ладили и пребывали в самом умиротворённом настроении. И я спросил себя, в чём причина такого взаимопонимания между этими животными, ведь, судя по тому, что нам о них известно, следовало бы ожидать других проявлений в виде вспышек соперничества и конфликтов. Мне не показалось, что я слишком далеко отклонился от линии своего размышления, когда ответил себе: «Ну просто лев не умеет считать до трёх».
Да-да, именно потому, что лев не умеет считать до трёх, львицы не испытывают друг к другу ни малейшего чувства ревности, по крайней мере, заметных его проявлений. Оставлю вас над этим поразмыслить. Другими словами, мы ни в коем случае не должны пренебрегать участием означающего, чтобы понять нечто, возникающее всякий раз, когда мы оказываемся перед проявлением нашего главного объекта в анализе, а именно когда мы встречаем реальность конфликта в отношениях между людьми.
Мы можем пойти ещё дальше и сказать, что в конечном итоге конфликт возникает именно потому, что люди научились считать ненамного лучше львов, именно потому, что они лишь сформулировали цифру три, но так и не смогли её полностью усвоить. Основополагающие для животного мира двойственные отношения продолжают превалировать в определённой области, в воображаемом, и именно в той мере, в какой человек всё же умеет считать, в конечном счете происходит то, что мы называем конфликтом. Если бы не было так сложно артикулировать число три, не было бы этого дар между доэдипальным и эдипальным, который мы пытаемся преодолеть как только можем, используя всевозможные маленькие верёвочные лестницы и другие ухищрения. В действительности речь идёт лишь о том, чтобы понять, что любая попытка этот разрыв преодолеть приведёт нас лишь к изобретению новых ухищрений. Нет никакой возможности на действительном опыте преодолеть дар между двумя и тремя.
Именно в этом пункте мы с вами остановились в случае маленького Ганса.
2
Мы оставили маленького Ганса, когда он собирался совершить переход, называемый комплексом кастрации.
Очевидно, что изначально он от него далёк, поскольку играет с Wiwimacher, который находится то здесь, то там - то у его матери, то у большой лошади, то у маленькой лошади, то у его папы, то у него самого. Мы видим, что Wiwimacher для маленького Ганса представляет собой не что иное, как замечательный предмет для игры в прятки, который к тому же доставляет удовольствие.
Надеюсь, что некоторые из вас обратятся к тексту и смогут убедиться в том, что именно об этом идёт речь. Конечно, не без участия родителей этот ребёнок оказывается поначалу перед проблематикой воображаемого фаллоса, который везде и нигде. Такой фаллос является принципиальным элементом отношений ребёнка с тем, кого Фрейд называет в этот момент другой персоной, а именно с матерью.
Вот где оказывается Ганс, и кажется, что всё идёт прекрасно, Фрейд это подчёркивает как заслугу мягкого, либерального подхода к воспитанию, характерного для педагогики, которая на первых порах существования психоанализа выглядела такой естественной.
Ребёнок растёт свободно и счастливо. Так вот, в таких прекрасных обстоятельствах и ко всеобщему удивлению возникает то, что мы без излишней драматизации называем небольшим недоразумением, - фобия. В какой-то момент этот ребёнок начинает испытывать страх перед особого рода объектом - лошадью, которая уже появлялась в тексте метафорически, когда ребёнок говорил своей матери: «Если у тебя есть
слишком далеко отклонился от линии своего размышления, когда ответил себе: «Ну просто лев не умеет считать до трёх».
Да-да, именно потому, что лев не умеет считать до трёх, львицы не испытывают друг к другу ни малейшего чувства ревности, по крайней мере, заметных его проявлений. Оставлю вас над этим поразмыслить. Другими словами, мы ни в коем случае не должны пренебрегать участием означающего, чтобы понять нечто, возникающее всякий раз, когда мы оказываемся перед проявлением нашего главного объекта в анализе, а именно когда мы встречаем реальность конфликта в отношениях между людьми.
Мы можем пойти ещё дальше и сказать, что в конечном итоге конфликт возникает именно потому, что люди научились считать ненамного лучше львов, именно потому, что они лишь сформулировали цифру три, но так и не смогли её полностью усвоить. Основополагающие для животного мира двойственные отношения продолжают превалировать в определённой области, в воображаемом, и именно в той мере, в какой человек всё же умеет считать, в конечном счете происходит то, что мы называем конфликтом. Если бы не было так сложно артикулировать число три, не было бы этого дар между доэдипальным и эдипальным, который мы пытаемся преодолеть как только можем, используя всевозможные маленькие верёвочные лестницы и другие ухищрения. В действительности речь идёт лишь о том, чтобы понять, что любая попытка этот разрыв преодолеть приведёт нас лишь к изобретению новых ухищрений. Нет никакой возможности на действительном опыте преодолеть дар между двумя и тремя.
Именно в этом пункте мы с вами остановились в случае маленького Ганса.
2
Мы оставили маленького Ганса, когда он собирался совершить переход, называемый комплексом кастрации.
Очевидно, что изначально он от него далёк, поскольку играет с Wiwimacher, который находится то здесь, то там - то у его матери, то у большой лошади, то у маленькой лошади, то у его папы, то у него самого. Мы видим, что Wiwimacher для маленького Ганса представляет собой не что иное, как замечательный предмет для игры в прятки, который к тому же доставляет удовольствие.
Надеюсь, что некоторые из вас обратятся к тексту и смогут убедиться в том, что именно об этом идёт речь. Конечно, не без участия родителей этот ребёнок оказывается поначалу перед проблематикой воображаемого фаллоса, который везде и нигде. Такой фаллос является принципиальным элементом отношений ребёнка с тем, кого Фрейд называет в этот момент другой персоной, а именно с матерью.
Вот где оказывается Ганс, и кажется, что всё идёт прекрасно, Фрейд это подчёркивает как заслугу мягкого, либерального подхода к воспитанию, характерного для педагогики, которая на первых порах существования психоанализа выглядела такой естественной.
Ребёнок растёт свободно и счастливо. Так вот, в таких прекрасных обстоятельствах и ко всеобщему удивлению возникает то, что мы без излишней драматизации называем небольшим недоразумением, - фобия. В какой-то момент этот ребёнок начинает испытывать страх перед особого рода объектом - лошадью, которая уже появлялась в тексте метафорически, когда ребёнок говорил своей матери: «Если у тебя есть вивимахер, то он должен быть таким же большим, как у лошади». Факт того, что образ лошади появился на горизонте, уже указывает на предварительную стадию фобии у ребёнка.
Чтобы уловить метафорический смысл случая маленького Ганса, нам нужно понять, каким образом ребёнок переходит от таких простых, таких счастливых, так ясно выстроенных отношений к фобии.
Где бессознательное? Где вытеснение? Похоже, что нигде. Ведь он совершенно свободно задаёт вопросы отцу и матери о присутствии или отсутствии вивимахера, он задаёт их в зоопарке, где видит льва с большим вивимахером. Вивимахер играет роль, актуальную по многим не обозначенным в самом начале наблюдения, но очевидным впоследствии причинам. Некоторые из его игр хорошо показывают, что ребёнок получает большое удовольствие от обнажения и демонстрации себя. Символическая сущность вивимахера даёт о себе знать, когда маленький Ганс обнажает его в темноте -показывает его, но как скрытый объект. Также он использует вивимахер как промежуточный элемент в отношениях с объектами своего интереса, то есть маленькими девочками, когда просит их о помощи и выставляет его напоказ. В тексте случая подчёркнуто, что помощь, которую оказывают в этой связи мать и отец, играет наиболее важную роль в появлении интереса ребёнка к своим половым органам, откуда возникает игра для привлечения внимания и даже ласки со стороны некоторых людей из его окружения.
Чтобы составить представление о гармонии, которая предшествует фобии, отметим, что в воображаемом плане маленький Ганс проявляет все наиболее типичные установки того, что, грубо говоря, называется мужская агрессия. Это проявляется в играх с маленькими девочками во дворе, которые бывают двух видов: есть маленькие девочки, которых он зажимает и притесняет, и есть другие, в отношениях с которыми он соблюдает дистанцию, Liebe per distanz. Это два очень разных вида отношений, уже очень замысловатых, я бы сказал, очень цивилизованных, упорядоченных, культурных. Фрейд использует этот последний термин, когда описывает, каким образом маленький Ганс проводит различие между своими объектами - он не обращается с маленькими девочками, дочерями домовладельца, так же как с культурными дамами его мира. Короче говоря, здесь наблюдается удачный выход к тому, что можно назвать переносом - к перенаправлению чувств к матери на другие женские объекты - развитие, облегчённое, объясняют нам, открытыми, диалогическими отношениями, не воспрещающими никакие формы выражения чувств в отношениях между матерью и ребёнком.
Что происходит в этих обстоятельствах? До настоящего момента я перескакивал от одного эпизода к другому, займёмся теперь вопросом последовательно, критически рассматривая материал наблюдения шаг за шагом.
Я полагаю, что не искажаю текст, подчёркивая для вас деталь, которая никогда не была прокомментирована и которая уже сама по себе является знаком структуризации, сокрытой в глубине отношений матери и ребёнка, где возникает кризис, когда в ситуацию вмешивается реальный пенис. Ребёнку снится, что он с Мариель, одной из своих маленьких подруг, с которой он виделся летом на станции Атриш в Гмундене, и он рассказывает своё сновидение. Когда отец в присутствии Ганса пересказывает этот сон матери и говорит о том, что он был с маленькой девочкой, Ганс делает прекрасное уточнение - не с Мариель, а совсем один с Мариель, ganz allein mit der Mariedl. Как и
вивимахер, то он должен быть таким же большим, как у лошади». Факт того, что образ лошади появился на горизонте, уже указывает на предварительную стадию фобии у ребёнка.
Чтобы уловить метафорический смысл случая маленького Ганса, нам нужно понять, каким образом ребёнок переходит от таких простых, таких счастливых, так ясно выстроенных отношений к фобии.
Где бессознательное? Где вытеснение? Похоже, что нигде. Ведь он совершенно свободно задаёт вопросы отцу и матери о присутствии или отсутствии вивимахера, он задаёт их в зоопарке, где видит льва с большим вивимахером. Вивимахер играет роль, актуальную по многим не обозначенным в самом начале наблюдения, но очевидным впоследствии причинам. Некоторые из его игр хорошо показывают, что ребёнок получает большое удовольствие от обнажения и демонстрации себя. Символическая сущность вивимахера даёт о себе знать, когда маленький Ганс обнажает его в темноте -показывает его, но как скрытый объект. Также он использует вивимахер как промежуточный элемент в отношениях с объектами своего интереса, то есть маленькими девочками, когда просит их о помощи и выставляет его напоказ. В тексте случая подчёркнуто, что помощь, которую оказывают в этой связи мать и отец, играет наиболее важную роль в появлении интереса ребёнка к своим половым органам, откуда возникает игра для привлечения внимания и даже ласки со стороны некоторых людей из его окружения.
Чтобы составить представление о гармонии, которая предшествует фобии, отметим, что в воображаемом плане маленький Ганс проявляет все наиболее типичные установки того, что, грубо говоря, называется мужская агрессия. Это проявляется в играх с маленькими девочками во дворе, которые бывают двух видов: есть маленькие девочки, которых он зажимает и притесняет, и есть другие, в отношениях с которыми он соблюдает дистанцию, Liebe per distanz. Это два очень разных вида отношений, уже очень замысловатых, я бы сказал, очень цивилизованных, упорядоченных, культурных. Фрейд использует этот последний термин, когда описывает, каким образом маленький Ганс проводит различие между своими объектами - он не обращается с маленькими девочками, дочерями домовладельца, так же как с культурными дамами его мира. Короче говоря, здесь наблюдается удачный выход к тому, что можно назвать переносом - к перенаправлению чувств к матери на другие женские объекты - развитие, облегчённое, объясняют нам, открытыми, диалогическими отношениями, не воспрещающими никакие формы выражения чувств в отношениях между матерью и ребёнком.
Что происходит в этих обстоятельствах? До настоящего момента я перескакивал от одного эпизода к другому, займёмся теперь вопросом последовательно, критически рассматривая материал наблюдения шаг за шагом.
Я полагаю, что не искажаю текст, подчёркивая для вас деталь, которая никогда не была прокомментирована и которая уже сама по себе является знаком структуризации, сокрытой в глубине отношений матери и ребёнка, где возникает кризис, когда в ситуацию вмешивается реальный пенис. Ребёнку снится, что он с Мариель, одной из своих маленьких подруг, с которой он виделся летом на станции Атриш в Гмундене, и он рассказывает своё сновидение. Когда отец в присутствии Ганса пересказывает этот сон матери и говорит о том, что он был с маленькой девочкой, Ганс делает прекрасное уточнение - не с Мариель, а совсем один с Мариель, ganz allein mit der Mariedl. Как и многие другие элементы наблюдений, от которых попросту отмахиваются на основании того, что это всего лишь детские истории, эта реплика имеет важное значение. Фрейд чётко говорит о том, что всё имеет значение. Эта реплика может быть осмыслена только в воображаемой диалектике, которая, как я вам показал, изначально присутствует в отношениях ребёнка и матери. Это случается, когда Гансу три года и девять месяцев, за три месяца до рождения младшей сестры. Не просто с Мариель, но совсем один с Мариель, то есть он может быть с ней совершенно один, без опасности материнского вторжения. Нет сомнения, что Гансу понадобилось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к присутствию сестренки.
Одна только эта очевидная ремарка, причём наиболее классического типа, могла бы вас удовлетворить. Тем не менее вы знаете, что я придерживаюсь иного мнения. Хотя реальное вторжение другого ребенка в отношения с матерью действительно способно ускорить критический момент, спровоцировать решающий приступ тревоги, я без колебаний делаю акцент на этом совершенно один с, потому что какой бы ни была реальная ситуация, ребёнок никогда не остаётся наедине с матерью. Опыт анализа женщин подтверждает наличие совершенно принципиального элемента, которым отмечено всё развитие дуальных (duelle) отношений ребёнка и матери. Фрейд твёрдо придерживается этого положения вплоть до последней концептуализации женской сексуальности, когда настаивает на том, что ребёнок фигурирует лишь в качестве восполняющей замены, компенсации того, что связано с сущностной нехваткой женщины. Именно это никогда не позволяет ребёнку оставаться, ganz allein, совершенно наедине с матерью. Ребёнок постепенно понимает, что мать отмечена фундаментальной нехваткой, которую она сама пытается восполнить, в связи с которой ребёнок может доставить ей лишь, скажем так, суррогатное удовлетворение.
Именно на этой основе выстраивается пространство нового зияния, перестраивается вся ситуация, особенно в связи с вопросом реального генитального созревания у мальчика, когда он начинает мастурбировать, испытывая реальное наслаждение реального пениса. Невозможно что-либо понять, не опираясь на фундамент этого исходного положения, только из которого и могут быть выведены значимые элементы, образующие эдипов комплекс в его нормальном исходе. Комплекс Эдипа совершенно не является причиной невроза или перверсии, как вам обычно об этом говорят, представляя его как нечто более или менее негативное.
Итак, вернёмся к нашему изложению и сделаем небольшую ремарку.
В отношениях с матерью ребёнок обнаруживает измерение того, чего желает мать помимо него самого, то есть помимо того объекта, приносящего удовольствие, которым он изначально полагал для своей матери себя самого и которым он стремился быть. Эту ситуацию, как и любую другую ситуацию в анализе, следует рассматривать, как я вас этому учу, с учетом интерсубъективности (intersubjective). Исконное измерение каждого субъекта всегда соотносится с реальностью интерсубъективной перспективы, которая встроена в структуру каждого субъекта. Однако в любой интерсубъективной ситуации между матерью и ребёнком перед нами заведомо встаёт вопрос, который, возможно, прояснится только в самом конце.
Если речь и идёт о некотором пункте, завуалированном с самого начала, и мы можем прояснить его лишь в конце, то вы уже достаточно хорошо знаете случай, чтобы как минимум сформулировать для себя этот вопрос. Он связан с двумя терминами, которые я когда-то, с большим или меньшим успехом, применил, в которых
многие другие элементы наблюдений, от которых попросту отмахиваются на основании того, что это всего лишь детские истории, эта реплика имеет важное значение. Фрейд чётко говорит о том, что всё имеет значение. Эта реплика может быть осмыслена только в воображаемой диалектике, которая, как я вам показал, изначально присутствует в отношениях ребёнка и матери. Это случается, когда Гансу три года и девять месяцев, за три месяца до рождения младшей сестры. Не просто с Мариель, но совсем один с Мариель, то есть он может быть с ней совершенно один, без опасности материнского вторжения. Нет сомнения, что Гансу понадобилось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к присутствию сестренки.
Одна только эта очевидная ремарка, причём наиболее классического типа, могла бы вас удовлетворить. Тем не менее вы знаете, что я придерживаюсь иного мнения. Хотя реальное вторжение другого ребенка в отношения с матерью действительно способно ускорить критический момент, спровоцировать решающий приступ тревоги, я без колебаний делаю акцент на этом совершенно один с, потому что какой бы ни была реальная ситуация, ребёнок никогда не остаётся наедине с матерью. Опыт анализа женщин подтверждает наличие совершенно принципиального элемента, которым отмечено всё развитие дуальных (duelle) отношений ребёнка и матери. Фрейд твёрдо придерживается этого положения вплоть до последней концептуализации женской сексуальности, когда настаивает на том, что ребёнок фигурирует лишь в качестве восполняющей замены, компенсации того, что связано с сущностной нехваткой женщины. Именно это никогда не позволяет ребёнку оставаться, ganz allein, совершенно наедине с матерью. Ребёнок постепенно понимает, что мать отмечена фундаментальной нехваткой, которую она сама пытается восполнить, в связи с которой ребёнок может доставить ей лишь, скажем так, суррогатное удовлетворение.
Именно на этой основе выстраивается пространство нового зияния, перестраивается вся ситуация, особенно в связи с вопросом реального генитального созревания у мальчика, когда он начинает мастурбировать, испытывая реальное наслаждение реального пениса. Невозможно что-либо понять, не опираясь на фундамент этого исходного положения, только из которого и могут быть выведены значимые элементы, образующие эдипов комплекс в его нормальном исходе. Комплекс Эдипа совершенно не является причиной невроза или перверсии, как вам обычно об этом говорят, представляя его как нечто более или менее негативное.
Итак, вернёмся к нашему изложению и сделаем небольшую ремарку.
В отношениях с матерью ребёнок обнаруживает измерение того, чего желает мать помимо него самого, то есть помимо того объекта, приносящего удовольствие, которым он изначально полагал для своей матери себя самого и которым он стремился быть. Эту ситуацию, как и любую другую ситуацию в анализе, следует рассматривать, как я вас этому учу, с учетом интерсубъективности (intersubjective). Исконное измерение каждого субъекта всегда соотносится с реальностью интерсубъективной перспективы, которая встроена в структуру каждого субъекта. Однако в любой интерсубъективной ситуации между матерью и ребёнком перед нами заведомо встаёт вопрос, который, возможно, прояснится только в самом конце.
Если речь и идёт о некотором пункте, завуалированном с самого начала, и мы можем прояснить его лишь в конце, то вы уже достаточно хорошо знаете случай, чтобы как минимум сформулировать для себя этот вопрос. Он связан с двумя терминами, которые я когда-то, с большим или меньшим успехом, применил, в которых артикулировано принципиальное различие в подходе субъекта к любой реальности, когда подход этот обусловлен означающим: это метафора и метонимия. Вот вполне подходящий случай применить это различение, по крайней мере для того, чтобы расставить знаки вопроса.
На самом деле то, что выступает в функции восполняющей замены как образ, само по себе ни о чём не говорит. Легко сказать заменить, но попробуйте положить в хобот слона камешек вместо кусочка хлеба, и он гораздо меньше, чем вы ожидаете, будет этому рад. Дело не в реальной замене, а в означающей и в понимании того, что она значит. В конечном итоге речь идёт о том, чтобы понять, какую функцию исполняет ребёнок для матери и по отношению к фаллосу, который является объектом её желания. Вопрос изначально сводится к тому, метафора ли это или метонимия. Совершенно не одно и то же, когда ребёнок представляет метафору любви матери к отцу или метонимию её желания фаллоса, которого у неё нет и никогда не будет.
Кто он в данном случае? Всё в обращении матери с маленьким Гансом, которого она буквально таскает с собой повсюду, от своей кровати и до туалета, указывает на то, что ребёнок является неотделимым от неё придатком. Мать Ганса, обожаемая Фрейдом, так хороша, настолько прекрасна в своих заботах, sehr besorgte, о малыше, что даже не стесняется переодевать перед своим ребёнком панталоны. Это как-никак о чём-то говорит. Случай маленького Ганса и множество других хорошо иллюстрируют сказанное мной о принципиальном измерении того, что скрыто за вуалью. Не видим ли мы уже здесь, что ребёнок для неё есть метонимия фаллоса?
Это не значит, что её как-то особенно заботит фаллос ребенка. Как мы видим, эту персону, такую свободную в области обучения и воспитания, когда дело доходит до того, чтобы прикоснуться к краешку прибора, который ребёнок вытаскивает и просит потрогать, её охватывает жуткий страх - Das ein Schweinerei ist (это свинство). Именно в такой живой манере она реагирует. Чтобы случай маленького Ганса засверкал новыми смыслами, его стоит немного отшлифовать.
Итак, как вы видите, сказать, что ребёнок представляет собой метонимию материнского желания фаллоса, не означает, что он метонимичен в силу своей фаллоносности, но, напротив, предполагает, что ребёнок метонимичен в своей целокупности. В этом состоит драматичность ситуации. Всё было бы прекрасно, если бы речь шла о его Wiwimacher, но дело касается его целиком, вот почему серьёзным образом обостряется эта существенная разница в момент, когда даёт о себе знать реальный Wiwimacher, который становится для маленького Ганса объектом удовлетворения. Тревога возникает и нарастает с того момента, когда он может оценить разницу между тем, за что он любим, и тем, что он может дать.
Что он может предпринять в его положении, в его первоначальной позиции по отношению к матери? Он представляет собой объект удовольствия, следовательно, находится в таких отношениях, где является принципиально воображаемым и пребывает в совершенно пассивном состоянии. Если мы не увидим здесь этого раннего закрепления пассивности, то ничего не сможем понять в случае человека-волка. Лучшее, что может ребёнок сделать, оказавшись в плену воображаемого, в той ловушке, куда он попадает, пытаясь стать объектом своей матери, это выбираться из этой ловушки на другую сторону, понимая мало-помалу, если можно так сказать, кто он есть на самом деле. Он воображаемый, так что лучшее, что он может сделать, это вообразить себя самого в соответствии с тем, как его воображают, то есть, если так можно выразиться,
артикулировано принципиальное различие в подходе субъекта к любой реальности, когда подход этот обусловлен означающим: это метафора и метонимия. Вот вполне подходящий случай применить это различение, по крайней мере для того, чтобы расставить знаки вопроса.
На самом деле то, что выступает в функции восполняющей замены как образ, само по себе ни о чём не говорит. Легко сказать заменить, но попробуйте положить в хобот слона камешек вместо кусочка хлеба, и он гораздо меньше, чем вы ожидаете, будет этому рад. Дело не в реальной замене, а в означающей и в понимании того, что она значит. В конечном итоге речь идёт о том, чтобы понять, какую функцию исполняет ребёнок для матери и по отношению к фаллосу, который является объектом её желания. Вопрос изначально сводится к тому, метафора ли это или метонимия. Совершенно не одно и то же, когда ребёнок представляет метафору любви матери к отцу или метонимию её желания фаллоса, которого у неё нет и никогда не будет.
Кто он в данном случае? Всё в обращении матери с маленьким Гансом, которого она буквально таскает с собой повсюду, от своей кровати и до туалета, указывает на то, что ребёнок является неотделимым от неё придатком. Мать Ганса, обожаемая Фрейдом, так хороша, настолько прекрасна в своих заботах, sehr besorgte, о малыше, что даже не стесняется переодевать перед своим ребёнком панталоны. Это как-никак о чём-то говорит. Случай маленького Ганса и множество других хорошо иллюстрируют сказанное мной о принципиальном измерении того, что скрыто за вуалью. Не видим ли мы уже здесь, что ребёнок для неё есть метонимия фаллоса?
Это не значит, что её как-то особенно заботит фаллос ребенка. Как мы видим, эту персону, такую свободную в области обучения и воспитания, когда дело доходит до того, чтобы прикоснуться к краешку прибора, который ребёнок вытаскивает и просит потрогать, её охватывает жуткий страх - Das ein Schweinerei ist (это свинство). Именно в такой живой манере она реагирует. Чтобы случай маленького Ганса засверкал новыми смыслами, его стоит немного отшлифовать.
Итак, как вы видите, сказать, что ребёнок представляет собой метонимию материнского желания фаллоса, не означает, что он метонимичен в силу своей фаллоносности, но, напротив, предполагает, что ребёнок метонимичен в своей целокупности. В этом состоит драматичность ситуации. Всё было бы прекрасно, если бы речь шла о его Wiwimacher, но дело касается его целиком, вот почему серьёзным образом обостряется эта существенная разница в момент, когда даёт о себе знать реальный Wiwimacher, который становится для маленького Ганса объектом удовлетворения. Тревога возникает и нарастает с того момента, когда он может оценить разницу между тем, за что он любим, и тем, что он может дать.
Что он может предпринять в его положении, в его первоначальной позиции по отношению к матери? Он представляет собой объект удовольствия, следовательно, находится в таких отношениях, где является принципиально воображаемым и пребывает в совершенно пассивном состоянии. Если мы не увидим здесь этого раннего закрепления пассивности, то ничего не сможем понять в случае человека-волка. Лучшее, что может ребёнок сделать, оказавшись в плену воображаемого, в той ловушке, куда он попадает, пытаясь стать объектом своей матери, это выбираться из этой ловушки на другую сторону, понимая мало-помалу, если можно так сказать, кто он есть на самом деле. Он воображаемый, так что лучшее, что он может сделать, это вообразить себя самого в соответствии с тем, как его воображают, то есть, если так можно выразиться, вступить на средний путь. Но с того момента, когда обнаруживается его реальное существование, большого количества вариантов не остаётся. Именно тогда он оказывается способным представить себя совершенно иначе, чем того желает мать, и выбирается из поля воображаемого, где мать могла получить удовлетворение в силу занимаемого им места.
Фрейд подчёркивает, что вначале возникает тревога, но тревога относительно чего? Нас может навести на след сновидение, от которого маленький Ганс просыпается, рыдая из-за того, что его мать собиралась уйти. И в другой момент он говорит отцу: «Если бы ты ушёл». В любом случае речь идёт о расставании. Мы могли бы дополнить этот термин тысячей других черт. Именно когда он расстаётся со своей матерью и находится с кем-то другим, тревога даёт о себе знать. Фрейд подчёркивает, что сначала появляется эта тревога и что чувство тревоги отличается от фобии. Но что такое фобия? Её не так просто понять.
Попытаемся это прояснить.
3
Здесь, конечно, можно, радостно подскочив, сказать, что фобия является типичным проявлением тревоги. Я не спорю, но что это нам даёт? Почему это проявление в каждом случае настолько уникально? Какую оно играет роль?
Другая ловушка заключается в словах, что имеет место направленность на некий результат, что фобия должна чему-то послужить. А нужно ли ей чему-то служить? Разве нет таких вещей, которые ничему не служат? Зачем заранее решать, что фобия чему-то служит? Зачем, забегая вперёд, говорить, что фобия чему-то служит? Может, она вообще ничему не служит? Ведь как было бы хорошо, если бы её не было. Зачем в таком случае нужны предвзятые представления о целесообразности?
Мы постараемся приблизиться к пониманию функции фобии. Что представляет собой фобия в этом случае? В чём особенность структуры фобии маленького Ганса? Возможно, это поможет нам сформулировать несколько положений об общей структуре фобии.
Как бы то ни было, сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на то, что разница между тревогой и фобией в этом случае становится вполне ощутимой.
Я не знаю, можно ли назвать фобию такой уж репрезентативной, поскольку очень сложно узнать, чего именно боится ребёнок. Маленький Ганс тысячей способов это формулирует, но всегда остаётся некоторый исключённый, никак не выраженный остаток.
Если вы прочитали текст, то знаете, что коричневая, белая, черная, зеленая лошадь - эти цвета по-своему небезынтересны - остаётся загадкой до самого конца наблюдения, и она несёт на своей морде непонятное чёрное пятно, которое превращает её в животное доисторических времён. Отец спрашивает ребёнка:
- Это железка у неё во рту?
- Вовсе нет, - говорит ребёнок.
- Это упряжь?
- Нет.
- У лошади, которую ты видел, есть пятно?
- Нет, нет, - говорит ребёнок.
вступить на средний путь. Но с того момента, когда обнаруживается его реальное существование, большого количества вариантов не остаётся. Именно тогда он оказывается способным представить себя совершенно иначе, чем того желает мать, и выбирается из поля воображаемого, где мать могла получить удовлетворение в силу занимаемого им места.
Фрейд подчёркивает, что вначале возникает тревога, но тревога относительно чего? Нас может навести на след сновидение, от которого маленький Ганс просыпается, рыдая из-за того, что его мать собиралась уйти. И в другой момент он говорит отцу: «Если бы ты ушёл». В любом случае речь идёт о расставании. Мы могли бы дополнить этот термин тысячей других черт. Именно когда он расстаётся со своей матерью и находится с кем-то другим, тревога даёт о себе знать. Фрейд подчёркивает, что сначала появляется эта тревога и что чувство тревоги отличается от фобии. Но что такое фобия? Её не так просто понять.
Попытаемся это прояснить.
3
Здесь, конечно, можно, радостно подскочив, сказать, что фобия является типичным проявлением тревоги. Я не спорю, но что это нам даёт? Почему это проявление в каждом случае настолько уникально? Какую оно играет роль?
Другая ловушка заключается в словах, что имеет место направленность на некий результат, что фобия должна чему-то послужить. А нужно ли ей чему-то служить? Разве нет таких вещей, которые ничему не служат? Зачем заранее решать, что фобия чему-то служит? Зачем, забегая вперёд, говорить, что фобия чему-то служит? Может, она вообще ничему не служит? Ведь как было бы хорошо, если бы её не было. Зачем в таком случае нужны предвзятые представления о целесообразности?
Мы постараемся приблизиться к пониманию функции фобии. Что представляет собой фобия в этом случае? В чём особенность структуры фобии маленького Ганса? Возможно, это поможет нам сформулировать несколько положений об общей структуре фобии.
Как бы то ни было, сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на то, что разница между тревогой и фобией в этом случае становится вполне ощутимой.
Я не знаю, можно ли назвать фобию такой уж репрезентативной, поскольку очень сложно узнать, чего именно боится ребёнок. Маленький Ганс тысячей способов это формулирует, но всегда остаётся некоторый исключённый, никак не выраженный остаток.
Если вы прочитали текст, то знаете, что коричневая, белая, черная, зеленая лошадь - эти цвета по-своему небезынтересны - остаётся загадкой до самого конца наблюдения, и она несёт на своей морде непонятное чёрное пятно, которое превращает её в животное доисторических времён. Отец спрашивает ребёнка:
- Это железка у неё во рту?
- Вовсе нет, - говорит ребёнок.
- Это упряжь?
- Нет.
- У лошади, которую ты видел, есть пятно?
- Нет, нет, - говорит ребёнок. Однажды, устав, Ганс говорит: «Да, у неё есть пятно, не будем больше об этом говорить». В чём тут есть определённость, так это в том, что мы не знаем, что представляет собой чёрное пятно на морде лошади.
В общем, фобия не так проста, поскольку несёт в себе малоочевидные, ничего не говорящие элементы. Если есть нечто, дающее представление о подобного рода негативном галлюциногенном элементе, о котором в анализе не перестают возникать всё новые теоретические изыскания, то это тот самый неясный элемент, проступающий наиболее отчётливо в виде головы лошади, напоминающей ту, что видна над головами Венеры и Вулкана на полотне Тициана.
Одно можно сказать наверняка: существует радикальная разница между чувством страха и чувством тревоги, которое возникает с того момента, когда ребёнок внезапно обнаруживает, что может оказаться вне игры. Конечно, маленькая сестра максимально подготавливает ситуацию, но я повторяю, что кризис имеет гораздо более глубокие основания. Почва уходит из-под ног ребёнка, когда он осознаёт, что никак более не способен выполнять свою функцию, состоящую в том, чтобы не быть больше ничем, кроме того, что лишь кажется чем-то, хотя на самом деле ничто - кроме того, что называется метонимией.
Я говорю о том, что мы уже проходили. Метонимия - это основа реалистического романа. Если реалистический роман, который всегда остаётся лишь набором клише, может нас заинтересовать, то происходит это вовсе не по причине передаваемых им проблесков реального. Наборы клише интересуют нас потому, что помимо этого эффекта они преследуют другую цель. Они ориентированы чем-то, что кажется совершенно противоположным, то есть нехваткой. По другую сторону всех предоставляемых нам и отшлифованных до блеска деталей, есть то, что нас притягивает. Чем более роман метонимичен, тем более он ориентирован тем, что расположено по другую сторону.
Наш дорогой маленький Ганс внезапно обнаруживает себя лишённым - или, по крайней мере, готовым лишиться - своей метонимической функции. Говоря повседневным, а не теоретическим языком, он воображает себя ничем.
Что происходит, начиная с того момента, когда фобия появляется в его жизни? Точно можно сказать, что перед порождающими тревогу лошадьми, Angstpferde, несмотря на смысл этого слова, появляется не тревога, о которой он говорит, а страх. Ребёнок боится, что произойдёт нечто реальное, он говорит о двух вещах: лошади кусают, лошади падают. Фобия совершенно не является тревогой. Тревога - я лишь повторяю чётко сформулированную Фрейдом мысль - это то, что не имеет объекта. Порождённые тревогой лошади внушают страх. Страх всегда предполагает нечто артикулируемое, именуемое, реальное - эти лошади могут укусить, могут упасть, у них много других свойств.
Возможно даже, что они сохраняют на себе след тревоги. Возможно, непонятное чёрное пятно как-то с ней связано: лошади словно прикрыли этой расползающейся чернотой нечто проступающее, просвечивающее из-под неё. Но то, что появляется в переживаниях маленького Ганса, — это страх. Страх чего? Не страх лошади, но страх лошадей, поскольку с момента возникновения фобии его мир представляется ему размеченным целым рядом опасных, тревожных мест - мест, которые структурируют этот мир по-новому.
Однажды, устав, Ганс говорит: «Да, у неё есть пятно, не будем больше об этом говорить». В чём тут есть определённость, так это в том, что мы не знаем, что представляет собой чёрное пятно на морде лошади.
В общем, фобия не так проста, поскольку несёт в себе малоочевидные, ничего не говорящие элементы. Если есть нечто, дающее представление о подобного рода негативном галлюциногенном элементе, о котором в анализе не перестают возникать всё новые теоретические изыскания, то это тот самый неясный элемент, проступающий наиболее отчётливо в виде головы лошади, напоминающей ту, что видна над головами Венеры и Вулкана на полотне Тициана.
Одно можно сказать наверняка: существует радикальная разница между чувством страха и чувством тревоги, которое возникает с того момента, когда ребёнок внезапно обнаруживает, что может оказаться вне игры. Конечно, маленькая сестра максимально подготавливает ситуацию, но я повторяю, что кризис имеет гораздо более глубокие основания. Почва уходит из-под ног ребёнка, когда он осознаёт, что никак более не способен выполнять свою функцию, состоящую в том, чтобы не быть больше ничем, кроме того, что лишь кажется чем-то, хотя на самом деле ничто - кроме того, что называется метонимией.
Я говорю о том, что мы уже проходили. Метонимия - это основа реалистического романа. Если реалистический роман, который всегда остаётся лишь набором клише, может нас заинтересовать, то происходит это вовсе не по причине передаваемых им проблесков реального. Наборы клише интересуют нас потому, что помимо этого эффекта они преследуют другую цель. Они ориентированы чем-то, что кажется совершенно противоположным, то есть нехваткой. По другую сторону всех предоставляемых нам и отшлифованных до блеска деталей, есть то, что нас притягивает. Чем более роман метонимичен, тем более он ориентирован тем, что расположено по другую сторону.
Наш дорогой маленький Ганс внезапно обнаруживает себя лишённым - или, по крайней мере, готовым лишиться - своей метонимической функции. Говоря повседневным, а не теоретическим языком, он воображает себя ничем.
Что происходит, начиная с того момента, когда фобия появляется в его жизни? Точно можно сказать, что перед порождающими тревогу лошадьми, Angstpferde, несмотря на смысл этого слова, появляется не тревога, о которой он говорит, а страх. Ребёнок боится, что произойдёт нечто реальное, он говорит о двух вещах: лошади кусают, лошади падают. Фобия совершенно не является тревогой. Тревога - я лишь повторяю чётко сформулированную Фрейдом мысль - это то, что не имеет объекта. Порождённые тревогой лошади внушают страх. Страх всегда предполагает нечто артикулируемое, именуемое, реальное - эти лошади могут укусить, могут упасть, у них много других свойств.
Возможно даже, что они сохраняют на себе след тревоги. Возможно, непонятное чёрное пятно как-то с ней связано: лошади словно прикрыли этой расползающейся чернотой нечто проступающее, просвечивающее из-под неё. Но то, что появляется в переживаниях маленького Ганса, — это страх. Страх чего? Не страх лошади, но страх лошадей, поскольку с момента возникновения фобии его мир представляется ему размеченным целым рядом опасных, тревожных мест - мест, которые структурируют этот мир по-новому. В соответствии с указанием Фрейда, который после того, как поставил вопросы о функции фобии, советует сопоставить её с другими случаями; обратимся, прежде чем рассмотреть является ли фобия патологией (morbide) или синдромом (syndrome), к одной из её наиболее типичных и распространённых форм, а именно агорафобии, которая, безусловно, имеет своё самостоятельное значение и в которой мир предстаёт размеченным тревожными знаками, маркирующими определённое поле, область, зону. Нам нужноточно указать, в каком направлении мы будем продвигаться в изучении фобии, и чтобы не забегать вперёд, я бы не говорил о её функции, но скорее о её смысле, который заключается в том, что фобия вводит в мир ребёнка структуру, именно она выводит на передний план функцию внутреннего и внешнего. Ребёнок, пребывающий внутри мира матери, в определённый момент оказывается выброшенным оттуда наружу, он испытывает тревогу, и здесь-то с помощью фобии и устанавливается новый порядок внутреннего и внешнего, появляется ряд порогов, которые структурируют мир.
Очень поучительными здесь могли бы быть этнографические исследования на тему способов организации пространства деревни. В ранних цивилизациях деревни строились не абы как. Какие-то поля возделывались, другие оставались нетронутыми, внутри были границы, означающие фундаментальные вещи, много говорящие о тех ориентирах, которыми эти люди, готовые вот-вот выйти из природного порядка, располагали. Из этого можно многое извлечь, возможно, попозже я вам скажу на эту тему несколько слов.
Здесь также есть порог и есть образ того, что предстаёт как охраняющее этот порог - Schutzbau, Vorbau, ограждающая конструкция, защитное сооружение. Таким же образом это понятие чётко обозначено Фрейдом - фобия сформирована как форпост, защищающий от тревоги.
Вырисовываются контуры чего-то такого, что позволяет артикулировать себя и обнаруживает свою функцию. Просто я не хочу слишком торопиться и прошу вас не настаивать на этом. Обычно мы довольствуемся малым. Мы так замечательно трансформировали тревогу в страх, ведь страх явно лучше переносится, чем тревога. Но и это ещё не факт.
Сегодня мы собирались лишь подчеркнуть, что никоим образом нельзя принимать страх в качестве исходного, раннего (primitif, primordial) элемента формирования Я, как это было формально заявлено и положено в основу целого учения человеком, которого я никогда не называю по имени и который занимает позицию leadership в определённой школе, с большими или меньшими основаниями называющей себя «парижской». Ни в коем случае нельзя принимать страх за исходный, первичный (primitif, premier) элемент структуры невроза. В невротическом конфликте страх задействован как упреждающий элемент, который защищает от чего-то совершенно иного, от того, что по самой своей природе безобъектно, а именно от тревоги. Вот что позволяет нам артикулировать фобия.
Я остановлюсь сегодня на этом Vorbau моих рассуждений, доведя их до определённого пункта, где возникает вопрос о фобии и о том, на что она призвана отвечать. Слово отвечать я прошу вас принять в самом глубоком смысле. В следующий раз мы посмотрим, куда это может нас привести.
20 марта 1957
В соответствии с указанием Фрейда, который после того, как поставил вопросы о функции фобии, советует сопоставить её с другими случаями; обратимся, прежде чем рассмотреть является ли фобия патологией (morbide) или синдромом (syndrome), к одной из её наиболее типичных и распространённых форм, а именно агорафобии, которая, безусловно, имеет своё самостоятельное значение и в которой мир предстаёт размеченным тревожными знаками, маркирующими определённое поле, область, зону. Нам нужноточно указать, в каком направлении мы будем продвигаться в изучении фобии, и чтобы не забегать вперёд, я бы не говорил о её функции, но скорее о её смысле, который заключается в том, что фобия вводит в мир ребёнка структуру, именно она выводит на передний план функцию внутреннего и внешнего. Ребёнок, пребывающий внутри мира матери, в определённый момент оказывается выброшенным оттуда наружу, он испытывает тревогу, и здесь-то с помощью фобии и устанавливается новый порядок внутреннего и внешнего, появляется ряд порогов, которые структурируют мир.
Очень поучительными здесь могли бы быть этнографические исследования на тему способов организации пространства деревни. В ранних цивилизациях деревни строились не абы как. Какие-то поля возделывались, другие оставались нетронутыми, внутри были границы, означающие фундаментальные вещи, много говорящие о тех ориентирах, которыми эти люди, готовые вот-вот выйти из природного порядка, располагали. Из этого можно многое извлечь, возможно, попозже я вам скажу на эту тему несколько слов.
Здесь также есть порог и есть образ того, что предстаёт как охраняющее этот порог - Schutzbau, Vorbau, ограждающая конструкция, защитное сооружение. Таким же образом это понятие чётко обозначено Фрейдом - фобия сформирована как форпост, защищающий от тревоги.
Вырисовываются контуры чего-то такого, что позволяет артикулировать себя и обнаруживает свою функцию. Просто я не хочу слишком торопиться и прошу вас не настаивать на этом. Обычно мы довольствуемся малым. Мы так замечательно трансформировали тревогу в страх, ведь страх явно лучше переносится, чем тревога. Но и это ещё не факт.
Сегодня мы собирались лишь подчеркнуть, что никоим образом нельзя принимать страх в качестве исходного, раннего (primitif, primordial) элемента формирования Я, как это было формально заявлено и положено в основу целого учения человеком, которого я никогда не называю по имени и который занимает позицию leadership в определённой школе, с большими или меньшими основаниями называющей себя «парижской». Ни в коем случае нельзя принимать страх за исходный, первичный (primitif, premier) элемент структуры невроза. В невротическом конфликте страх задействован как упреждающий элемент, который защищает от чего-то совершенно иного, от того, что по самой своей природе безобъектно, а именно от тревоги. Вот что позволяет нам артикулировать фобия.
Я остановлюсь сегодня на этом Vorbau моих рассуждений, доведя их до определённого пункта, где возникает вопрос о фобии и о том, на что она призвана отвечать. Слово отвечать я прошу вас принять в самом глубоком смысле. В следующий раз мы посмотрим, куда это может нас привести.
20 марта 1957
 осмыслить только в качестве производных эффектов структуры отношений символического и воображаемого в доэдипальный период. Она прямо сформулирована в Трёх очерках по теории сексуальности, Die infantile Sexualforschung, а именно в разделе под названием Исследования ребёнка или Инфантильные сексуальные теории, где вы можете обнаружить, как я вам об этом и говорил, что то, что называется перверсиями, в своей совокупности разработано и изложено в связи с инфантильной теорией фаллической матери и необходимостью преодоления комплекса кастрации.
До сих пор есть люди, считающие перверсию чем-то глубоко обусловленным, инстинктивным, своего рода коротким замыканием в плане непосредственного удовлетворения, которое даёт ей настоящую плотность и равновесие. Они таким образом интерпретируют положение Фрейда о том, что перверсия является негативом невроза, как если бы перверсия была тем самым удовлетворением, которое подвергается вытеснению в неврозе, который в таком случае представляет собой позитив. Фрейд говорит совершенно противоположное. Негатив отрицания совершенно не обязательно приводит к его позитивному утверждению, это подтверждает тот факт, что Фрейд ясно указывает на то, что перверсия выстраивается по отношению к тому, что располагается вокруг отсутствия и присутствия фаллоса. Перверсия всегда как-то соотносится, пусть только на горизонте, с комплексом кастрации. Следовательно, с точки зрения своего происхождения она располагается на том же уровне, что и невроз. Она может быть структурирована как его негатив или, скорее, как его изнанка, но она структурирована в такой же степени и посредством той же самой диалектики, если прибегнуть к понятиям, которыми я здесь пользуюсь.
Теория инфантильной сексуальности, учитывая и то значение, которое Фрейд сразу же ей придаёт, и её важную роль в экономике развития ребёнка, бесспорно заслуживает нашего пристального внимания. При этом полноценно разработанная концепция, а именно тот раздел Трёх очерков, на который я сослался, появляется в гораздо более позднем варианте текста - полагаю, что в 1915 году, поскольку немецкое издание имеет своим недостатком отсутствие указания на дату, в которую каждая глава была добавлена в композицию книги.
Важное значение, которое имеют инфантильные теории сексуальности для либидинального развития, само по себе должно было привести аналитика к такому общеизвестному понятию как интеллектуализация, которое с лёгким оттенком уничижения применяется повсюду. Некоторые вещи, представленные, на первый взгляд, в интеллектуальной сфере, могут обладать значением, которое простое и массовое противопоставление интеллектуального и аффективного объяснить никак не способно. Необходимость так называемых инфантильных теорий, то есть исследовательской деятельности ребёнка, касающейся сексуальной реальности, обусловлена совершенно не тем, что мы, впрочем, необоснованно, понимаем под термином интеллектуальной деятельности, о котором имеем смутное представление и сверхструктурный характер которого более-менее имплицитно встроен в основу верований, организующих массовое сознание.
В этой деятельности речь идёт о чём-то совершенно ином. Она происходит на гораздо более глубоком уровне, если такие термины здесь уместны. Она касается всего тела. Она покрывает всю деятельность субъекта и мотивирует то, что мы определяем в терминах аффектов, то есть приводит аффекты или привязанности субъекта в соответствие с очертаниями главенствующих образов. В целом она коррелирует со всей
осмыслить только в качестве производных эффектов структуры отношений символического и воображаемого в доэдипальный период. Она прямо сформулирована в Трёх очерках по теории сексуальности, Die infantile Sexualforschung, а именно в разделе под названием Исследования ребёнка или Инфантильные сексуальные теории, где вы можете обнаружить, как я вам об этом и говорил, что то, что называется перверсиями, в своей совокупности разработано и изложено в связи с инфантильной теорией фаллической матери и необходимостью преодоления комплекса кастрации.
До сих пор есть люди, считающие перверсию чем-то глубоко обусловленным, инстинктивным, своего рода коротким замыканием в плане непосредственного удовлетворения, которое даёт ей настоящую плотность и равновесие. Они таким образом интерпретируют положение Фрейда о том, что перверсия является негативом невроза, как если бы перверсия была тем самым удовлетворением, которое подвергается вытеснению в неврозе, который в таком случае представляет собой позитив. Фрейд говорит совершенно противоположное. Негатив отрицания совершенно не обязательно приводит к его позитивному утверждению, это подтверждает тот факт, что Фрейд ясно указывает на то, что перверсия выстраивается по отношению к тому, что располагается вокруг отсутствия и присутствия фаллоса. Перверсия всегда как-то соотносится, пусть только на горизонте, с комплексом кастрации. Следовательно, с точки зрения своего происхождения она располагается на том же уровне, что и невроз. Она может быть структурирована как его негатив или, скорее, как его изнанка, но она структурирована в такой же степени и посредством той же самой диалектики, если прибегнуть к понятиям, которыми я здесь пользуюсь.
Теория инфантильной сексуальности, учитывая и то значение, которое Фрейд сразу же ей придаёт, и её важную роль в экономике развития ребёнка, бесспорно заслуживает нашего пристального внимания. При этом полноценно разработанная концепция, а именно тот раздел Трёх очерков, на который я сослался, появляется в гораздо более позднем варианте текста - полагаю, что в 1915 году, поскольку немецкое издание имеет своим недостатком отсутствие указания на дату, в которую каждая глава была добавлена в композицию книги.
Важное значение, которое имеют инфантильные теории сексуальности для либидинального развития, само по себе должно было привести аналитика к такому общеизвестному понятию как интеллектуализация, которое с лёгким оттенком уничижения применяется повсюду. Некоторые вещи, представленные, на первый взгляд, в интеллектуальной сфере, могут обладать значением, которое простое и массовое противопоставление интеллектуального и аффективного объяснить никак не способно. Необходимость так называемых инфантильных теорий, то есть исследовательской деятельности ребёнка, касающейся сексуальной реальности, обусловлена совершенно не тем, что мы, впрочем, необоснованно, понимаем под термином интеллектуальной деятельности, о котором имеем смутное представление и сверхструктурный характер которого более-менее имплицитно встроен в основу верований, организующих массовое сознание.
В этой деятельности речь идёт о чём-то совершенно ином. Она происходит на гораздо более глубоком уровне, если такие термины здесь уместны. Она касается всего тела. Она покрывает всю деятельность субъекта и мотивирует то, что мы определяем в терминах аффектов, то есть приводит аффекты или привязанности субъекта в соответствие с очертаниями главенствующих образов. В целом она коррелирует со всей последовательностью достижений в наиболее широком смысле, проявляя себя в совершенно несводимых к реализации каких-либо интересов действиях. Определим эту совокупность действий термином, который в данном случае может быть и не лучший, и не самый всеобъемлющий, но который я принимаю за его выразительную ценность, назовём эти действия не только церемониальными, но и церемонными.
Вы хорошо знаете всё, что может осуществляться в этом регистре как в коллективном, так и в индивидуальном опыте. Нет примера человеческой деятельности, которая бы его устранила. Даже в наиболее прагматичных и функциональных цивилизациях эти церемониальные действия оказываются весьма заметными и дают о себе знать в самых неожиданных формах. На то должна быть какая-то причина. Короче говоря, чтобы определить точное значение того, что мы называем инфантильными сексуальными теориями, а также всей активности ребёнка, организованной и структурированной ими, мы должны обратиться к понятию мифа.
Не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы это понять, я имею в виду, чтобы получить углублённое представление о понятии мифа. В общем-то, это я и намерен сейчас продемонстрировать. Я постараюсь продвигаться постепенно и поступательно, поскольку мне кажется важным наилучшим образом подчеркнуть согласованность между нашими понятиями и элементами, с которыми мне следует, как я полагаю, их сверить. Я ни в коем случае не претендую, как некоторые об этом говорят, ни на создание общей метафизической доктрины, ни на полное описание реальности. Я лишь хочу поговорить с вами о нашем, наиболее близком и непосредственно с нами связанном. Здесь совершенно недопустимо проецировать, как это часто делается, нашу область неудовлетворительным и непродуктивным образом на целый ряд регистров и областей реальности, ссылаясь на их предположительную аналогичность тому, чем в целом занимаемся мы, поскольку в малом всегда, мол, обнаруживается великое. Совершенно очевидно, что подобная модель описания никоим образом не может исчерпать ни реальность, ни человеческие проблемы. С другой стороны, было бы опрометчивым полностью изолировать нашу область и отказываться видеть то, что в ней не аналогично, но непосредственно связано, сцеплено с реальностью, которая открывается для нас с помощью других дисциплин, других гуманитарных наук. Я считаю необходимым установить эти связи, чтобы лучше определить нашу область и просто получше сориентироваться.
Обратиться к понятию мифа удобно именно сейчас, когда мы подошли естественным образом к понятию инфантильных теорий. С тех пор, как я говорю с вами о Гансе, вы могли уловить, что если этот случай похож на лабиринт, поначалу даже кажется, что беспорядочный, то выглядит всё так по причине многочисленных разглагольствований маленького Ганса, определённо очень насыщенных, производящих впечатление чрезмерного теоретического избытка и изобилия. От вашего внимания не может ускользнуть, как точно они соответствуют классу теоретических разработок, которые играют такую важную роль.
Мы подойдём к мифу просто-напросто как к непосредственной данности.
То, что мы называем мифом в религии или народных преданиях, на любом этапе своего развития представлено как повествование. Мы многое можем сказать о такого рода повествовании и рассмотреть его в различных структурных аспектах. Например, мы можем сказать, что в нём присутствует нечто вневременное. Можно также попытаться определить его структуру с точки зрения тех мест, которые в нём описаны. Можно
последовательностью достижений в наиболее широком смысле, проявляя себя в совершенно несводимых к реализации каких-либо интересов действиях. Определим эту совокупность действий термином, который в данном случае может быть и не лучший, и не самый всеобъемлющий, но который я принимаю за его выразительную ценность, назовём эти действия не только церемониальными, но и церемонными.
Вы хорошо знаете всё, что может осуществляться в этом регистре как в коллективном, так и в индивидуальном опыте. Нет примера человеческой деятельности, которая бы его устранила. Даже в наиболее прагматичных и функциональных цивилизациях эти церемониальные действия оказываются весьма заметными и дают о себе знать в самых неожиданных формах. На то должна быть какая-то причина. Короче говоря, чтобы определить точное значение того, что мы называем инфантильными сексуальными теориями, а также всей активности ребёнка, организованной и структурированной ими, мы должны обратиться к понятию мифа.
Не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы это понять, я имею в виду, чтобы получить углублённое представление о понятии мифа. В общем-то, это я и намерен сейчас продемонстрировать. Я постараюсь продвигаться постепенно и поступательно, поскольку мне кажется важным наилучшим образом подчеркнуть согласованность между нашими понятиями и элементами, с которыми мне следует, как я полагаю, их сверить. Я ни в коем случае не претендую, как некоторые об этом говорят, ни на создание общей метафизической доктрины, ни на полное описание реальности. Я лишь хочу поговорить с вами о нашем, наиболее близком и непосредственно с нами связанном. Здесь совершенно недопустимо проецировать, как это часто делается, нашу область неудовлетворительным и непродуктивным образом на целый ряд регистров и областей реальности, ссылаясь на их предположительную аналогичность тому, чем в целом занимаемся мы, поскольку в малом всегда, мол, обнаруживается великое. Совершенно очевидно, что подобная модель описания никоим образом не может исчерпать ни реальность, ни человеческие проблемы. С другой стороны, было бы опрометчивым полностью изолировать нашу область и отказываться видеть то, что в ней не аналогично, но непосредственно связано, сцеплено с реальностью, которая открывается для нас с помощью других дисциплин, других гуманитарных наук. Я считаю необходимым установить эти связи, чтобы лучше определить нашу область и просто получше сориентироваться.
Обратиться к понятию мифа удобно именно сейчас, когда мы подошли естественным образом к понятию инфантильных теорий. С тех пор, как я говорю с вами о Гансе, вы могли уловить, что если этот случай похож на лабиринт, поначалу даже кажется, что беспорядочный, то выглядит всё так по причине многочисленных разглагольствований маленького Ганса, определённо очень насыщенных, производящих впечатление чрезмерного теоретического избытка и изобилия. От вашего внимания не может ускользнуть, как точно они соответствуют классу теоретических разработок, которые играют такую важную роль.
Мы подойдём к мифу просто-напросто как к непосредственной данности.
То, что мы называем мифом в религии или народных преданиях, на любом этапе своего развития представлено как повествование. Мы многое можем сказать о такого рода повествовании и рассмотреть его в различных структурных аспектах. Например, мы можем сказать, что в нём присутствует нечто вневременное. Можно также попытаться определить его структуру с точки зрения тех мест, которые в нём описаны. Можно принять во внимание литературную форму мифа, которая поражает нас своим родством с поэтическим произведением, хотя очень от него отличается в том смысле, что заключает в себе определённые константы, совершенно не поддающиеся субъективному изобретению.
Я указал бы также на проблему, которая возникает в связи с тем фактом, что в целом миф имеет характер вымысла. Но этот вымысел демонстрирует устойчивость, которая делает его совершенно неподатливым к тому или иному вносимому изменению, а точнее, изменения следуют одно за другим, неизменно подкрепляя структуру. С другой стороны, этот вымысел поддерживает особую связь с тем, что за ним подразумевается и чьё послание, определённо в нём обозначенное, он несёт, то есть с истиной. Эта сторона мифа от него неотделима.
В одном месте Семинара об Украденном письме, где я рассматриваю вымысел, я написал, что он является, по крайней мере в некотором смысле, абсолютно легитимной операцией, поскольку во всяком правильно построенном вымысле можно легко увидеть структуру, которая в самой истине оказывается той же самой, что и в вымысле. Структура, необходимая любому выражению истины, является той же самой структурой, что и структура вымысла. Истина имеет, если можно так выразиться, структуру вымысла.
Миф, преследуя свою цель, предстаёт также в характере неисчерпаемости. Прибегнув к старому понятию, скажем, что он обладает характером схемы в кантовском понимании. Миф гораздо ближе к структуре, чем к любому содержанию, он приспосабливается и заново прикладывается, в наиболее материальном смысле слова, к любому типу данных вместе с этим присущим его характеру неоднозначным эффектом. Наиболее точным будет сказать, что разновидность литейной формы, которую предлагает мифологическая категория, является определённым типом истины, в отношении которой, ограничив себя пределами нашей области и нашего опыта, мы не можем не увидеть, что речь идёт об отношениях человека, но с чем?
Не будем гадать и упрощать, не будем отвечать на это с чем? слишком быстро. Ответ с природой будет неудовлетворительным после сделанных мной замечаний о том, что природа в том виде, в котором она представляется человеку, в том, как они друг к другу прилажены, является всегда глубоко денатурализованной. Ответ с бытием будет не таким уж неточным, но идущим, возможно, слишком далеко и приводящим нас к философии, и совсем недавней, нашего друга Хайдеггера, хотя обращение к ней, в принципе, вполне уместно. В нашем распоряжении есть, однако, концепции более близкие и термины более точные, к которым мы можем непосредственно обратиться в нашем опыте.
Нужно лишь уловить, что речь идёт о вопросах жизни и смерти, существования и несуществования, и особенно рождения, то есть появления того, чего ещё не существует. Речь идёт, с одной стороны, о вопросах существования самого субъекта и о горизонтах, которые открываются в его опыте, и, с другой стороны, о том факте, что он является субъектом пола, своего обусловленного природой пола. Вот на что указывает нам опыт в проявлениях детской мифотворческой активности. В своём содержании и своей направленности она полностью согласована, не покрывая его целиком, с тем, что подразумевается под понятием мифа в этнографических исследованиях.
Мифы как вымыслы, представленные в этих исследованиях, всегда в большей или меньшей степени ориентированы не темой происхождения индивидуальности человека, а спецификой его бытия, взращиванием его фундаментальных отношений,
принять во внимание литературную форму мифа, которая поражает нас своим родством с поэтическим произведением, хотя очень от него отличается в том смысле, что заключает в себе определённые константы, совершенно не поддающиеся субъективному изобретению.
Я указал бы также на проблему, которая возникает в связи с тем фактом, что в целом миф имеет характер вымысла. Но этот вымысел демонстрирует устойчивость, которая делает его совершенно неподатливым к тому или иному вносимому изменению, а точнее, изменения следуют одно за другим, неизменно подкрепляя структуру. С другой стороны, этот вымысел поддерживает особую связь с тем, что за ним подразумевается и чьё послание, определённо в нём обозначенное, он несёт, то есть с истиной. Эта сторона мифа от него неотделима.
В одном месте Семинара об Украденном письме, где я рассматриваю вымысел, я написал, что он является, по крайней мере в некотором смысле, абсолютно легитимной операцией, поскольку во всяком правильно построенном вымысле можно легко увидеть структуру, которая в самой истине оказывается той же самой, что и в вымысле. Структура, необходимая любому выражению истины, является той же самой структурой, что и структура вымысла. Истина имеет, если можно так выразиться, структуру вымысла.
Миф, преследуя свою цель, предстаёт также в характере неисчерпаемости. Прибегнув к старому понятию, скажем, что он обладает характером схемы в кантовском понимании. Миф гораздо ближе к структуре, чем к любому содержанию, он приспосабливается и заново прикладывается, в наиболее материальном смысле слова, к любому типу данных вместе с этим присущим его характеру неоднозначным эффектом. Наиболее точным будет сказать, что разновидность литейной формы, которую предлагает мифологическая категория, является определённым типом истины, в отношении которой, ограничив себя пределами нашей области и нашего опыта, мы не можем не увидеть, что речь идёт об отношениях человека, но с чем?
Не будем гадать и упрощать, не будем отвечать на это с чем? слишком быстро. Ответ с природой будет неудовлетворительным после сделанных мной замечаний о том, что природа в том виде, в котором она представляется человеку, в том, как они друг к другу прилажены, является всегда глубоко денатурализованной. Ответ с бытием будет не таким уж неточным, но идущим, возможно, слишком далеко и приводящим нас к философии, и совсем недавней, нашего друга Хайдеггера, хотя обращение к ней, в принципе, вполне уместно. В нашем распоряжении есть, однако, концепции более близкие и термины более точные, к которым мы можем непосредственно обратиться в нашем опыте.
Нужно лишь уловить, что речь идёт о вопросах жизни и смерти, существования и несуществования, и особенно рождения, то есть появления того, чего ещё не существует. Речь идёт, с одной стороны, о вопросах существования самого субъекта и о горизонтах, которые открываются в его опыте, и, с другой стороны, о том факте, что он является субъектом пола, своего обусловленного природой пола. Вот на что указывает нам опыт в проявлениях детской мифотворческой активности. В своём содержании и своей направленности она полностью согласована, не покрывая его целиком, с тем, что подразумевается под понятием мифа в этнографических исследованиях.
Мифы как вымыслы, представленные в этих исследованиях, всегда в большей или меньшей степени ориентированы не темой происхождения индивидуальности человека, а спецификой его бытия, взращиванием его фундаментальных отношений, появлением его великих изобретений, укрощением огня, ведением сельского хозяйства, приручением животных. Также в мифах мы всегда находим сюжет отношения человека с доброй или злой тайной силой, сущностный характер которой заключается в том, что она священна.
В мифологических повествованиях по-разному представлено это священное могущество и по-разному объясняется, каким образом человек входит с ним в отношения, которые со всей очевидностью для нас оказываются тождественными отношениям человека с властью смысла и значения, а особенно с её главным орудием - означающим. Это могущество делает человека способным ввести в природу нечто, позволяющее ему приблизиться к такой далёкой от него вселенной, делает его способным ввести в порядок природы не столько свои потребности и влияющие на них факторы, но и по другую их сторону всегда остающееся незамеченным понятие глубинной идентичности между, с одной стороны, его способностью пользоваться означающим или использоваться им, в него вписываясь, и, с другой стороны, способностью воплощать собой инстанцию этого означающего в серии вмешательств, изначально не имеющих характера естественной (gratuite) деятельности, то есть непосредственно вводить означающий инструмент в естественный порядок вещей.
Отношения смежности мифов и детской мифотворческой деятельности в достаточной степени обозначены теми положениями, которые я только что вам привёл. Откуда и возникает наш интерес к изучению научной или сравнительной мифологии, которая с какого-то времени и чем дальше, тем больше разрабатывается, следуя методу, характер формализации которого указывает на некоторые успешно предпринятые в этом направлении шаги. Плодотворность, которую несёт в себе такая формализация, позволяет заключить, что она способна принести нечто гораздо большее, чем метод культурологических и натуралистических аналогий, применяемых для анализа мифов до сих пор.
Эта формализация выделяет в мифах функционально-структурные элементы или единицы, структурное функционирование которых на их уровне сопоставимо, оставаясь ему, однако, не идентичным, с тем, которое обнаруживают лингвистические исследования, разработки различных современных таксиоматических элементов. Теперь стало возможным изолировать и эффективно применять такие элементы. Они представляют собой единицы мифологической конструкции, которые мы называем мифемами.
Исследуя ряд мифов, подвергшихся разложению на элементы с последующей пересборкой в новую комбинацию и при условии отказа от проведения поверхностных аналогий, можно обнаружить удивительное сходство между мифами, которые кажутся очень друг от друга далёкими. Например, поначалу не приходит в голову назвать инцест эквивалентом убийства, но сопоставление двух мифов или двух уровней одного мифа делает это очевидным. На разных вершинах констелляции, напоминающей те маленькие кубы, которые я нарисовал для вас в прошлый раз на доске, вы располагаете, например, термины отца и матери, матери, о которой субъект не знает. В первом поколении имеет место инцест. Когда вы, переписывая пункт за пунктом, переходите ко второму поколению и следуете правилам, необходимым лишь для соблюдения однозначной формализации, вы видите, что братья-близнецы - это трансформировавшаяся пара, бывшая в первом поколении отцом и матерью, и что убийство, например, Полиника располагается на том же месте, что и инцест. Всё
появлением его великих изобретений, укрощением огня, ведением сельского хозяйства, приручением животных. Также в мифах мы всегда находим сюжет отношения человека с доброй или злой тайной силой, сущностный характер которой заключается в том, что она священна.
В мифологических повествованиях по-разному представлено это священное могущество и по-разному объясняется, каким образом человек входит с ним в отношения, которые со всей очевидностью для нас оказываются тождественными отношениям человека с властью смысла и значения, а особенно с её главным орудием - означающим. Это могущество делает человека способным ввести в природу нечто, позволяющее ему приблизиться к такой далёкой от него вселенной, делает его способным ввести в порядок природы не столько свои потребности и влияющие на них факторы, но и по другую их сторону всегда остающееся незамеченным понятие глубинной идентичности между, с одной стороны, его способностью пользоваться означающим или использоваться им, в него вписываясь, и, с другой стороны, способностью воплощать собой инстанцию этого означающего в серии вмешательств, изначально не имеющих характера естественной (gratuite) деятельности, то есть непосредственно вводить означающий инструмент в естественный порядок вещей.
Отношения смежности мифов и детской мифотворческой деятельности в достаточной степени обозначены теми положениями, которые я только что вам привёл. Откуда и возникает наш интерес к изучению научной или сравнительной мифологии, которая с какого-то времени и чем дальше, тем больше разрабатывается, следуя методу, характер формализации которого указывает на некоторые успешно предпринятые в этом направлении шаги. Плодотворность, которую несёт в себе такая формализация, позволяет заключить, что она способна принести нечто гораздо большее, чем метод культурологических и натуралистических аналогий, применяемых для анализа мифов до сих пор.
Эта формализация выделяет в мифах функционально-структурные элементы или единицы, структурное функционирование которых на их уровне сопоставимо, оставаясь ему, однако, не идентичным, с тем, которое обнаруживают лингвистические исследования, разработки различных современных таксиоматических элементов. Теперь стало возможным изолировать и эффективно применять такие элементы. Они представляют собой единицы мифологической конструкции, которые мы называем мифемами.
Исследуя ряд мифов, подвергшихся разложению на элементы с последующей пересборкой в новую комбинацию и при условии отказа от проведения поверхностных аналогий, можно обнаружить удивительное сходство между мифами, которые кажутся очень друг от друга далёкими. Например, поначалу не приходит в голову назвать инцест эквивалентом убийства, но сопоставление двух мифов или двух уровней одного мифа делает это очевидным. На разных вершинах констелляции, напоминающей те маленькие кубы, которые я нарисовал для вас в прошлый раз на доске, вы располагаете, например, термины отца и матери, матери, о которой субъект не знает. В первом поколении имеет место инцест. Когда вы, переписывая пункт за пунктом, переходите ко второму поколению и следуете правилам, необходимым лишь для соблюдения однозначной формализации, вы видите, что братья-близнецы - это трансформировавшаяся пара, бывшая в первом поколении отцом и матерью, и что убийство, например, Полиника располагается на том же месте, что и инцест. Всё основано на операции трансформации, уже отрегулированной определённым рядом структурных предположений о том, с каких позиций нам следует рассматривать миф.
Это даёт нам идею о весомости, наличности (présence), настоятельности (instance) означающего как такового, о его чистом воздействии. То, что здесь проявляется в изолированном виде, всегда является чем-то наиболее скрытым, поскольку речь идёт о том, что само по себе ничего не значит, но, безусловно, заключает в себе весь порядок значений. Если что-либо подобного рода и существует, то нигде не является настолько ощутимым, как в мифе.
Это преамбула должна показать вам, с каких позиций мы подвергнем исследованию то изобилие сюжетов, которые в случае маленького Ганса на первый взгляд кажутся откровенными выдумками.
2
В чём состоит аутентичность воображаемых сюжетов маленького Ганса? По предположению самого Фрейда, весьма вероятно, что они были ему внушены.
Но можно ли здесь принять это внушение в наиболее простом смысле слова? А именно: как то, что, будучи сформулированным одним субъектом, переходит к другому в виде установленной истины, по крайней мере в форме допущения с определённым элементом уверенности, становится своего рода облачением реальности? Сам термин внушения предполагает сомнение относительно аутентичности, которая не выдерживает вполне обоснованной в этом случае критики, поскольку обсуждаемые конструкции оказываются привнесёнными. Но не стоит ли принять в расчёт нечто, заслуживающее гораздо большего внимания? Не нам ли больше, чем кому бы то ни было, следует понимать, что символическая организация мира со всеми культурными элементами, которые её поддерживают, по своей природе не может кому-то принадлежать и должна быть усвоена каждым субъектом? Не это ли представляет собой незыблемую основу понятия внушение?
В случае маленького Ганса внушение не просто существует, оно видно ясно, как божий день. Расспросы отца в по-настоящему инквизиторской, настойчивой манере определённо задают направление ответам ребёнка. Как множество раз подчёркивает Фрейд, вмешательство отца носит грубый, приблизительный и откровенно неумелый характер. В том, как он регистрирует ответы ребёнка, полно недоразумений; по словам Фрейда, он слишком старается их понять и слишком торопится. При чтении случая совершенно очевидно, что конструкции маленького Ганса далеки от того, чтобы быть независимыми от вмешательства отца со всеми его недостатками, ощутимо влияющими на ребёнка и его поведение, на что постоянно обращает внимание Фрейд. С определённого момента мы видим, как это ускоряется, выходит из-под контроля, и фобия принимает очевидно гипертрофированную форму.
Тем не менее чрезвычайно интересно проследить, с чем именно, при всей изобретательности маленького Ганса, подразумевающей, казалось бы, в нашем употреблении этого слова абсолютную произвольность, различные эпизоды его мифотворчества связаны. Недавно на одной из моих презентаций больных некто сказал мне о воображаемом характере некоторых конструкций моего пациента, что указывало, по его мысли, я уж не знаю почему, на след истерического внушения или последствий внушения, хотя нетрудно было убедиться, что это не так. Пусть даже и
основано на операции трансформации, уже отрегулированной определённым рядом структурных предположений о том, с каких позиций нам следует рассматривать миф.
Это даёт нам идею о весомости, наличности (présence), настоятельности (instance) означающего как такового, о его чистом воздействии. То, что здесь проявляется в изолированном виде, всегда является чем-то наиболее скрытым, поскольку речь идёт о том, что само по себе ничего не значит, но, безусловно, заключает в себе весь порядок значений. Если что-либо подобного рода и существует, то нигде не является настолько ощутимым, как в мифе.
Это преамбула должна показать вам, с каких позиций мы подвергнем исследованию то изобилие сюжетов, которые в случае маленького Ганса на первый взгляд кажутся откровенными выдумками.
2
В чём состоит аутентичность воображаемых сюжетов маленького Ганса? По предположению самого Фрейда, весьма вероятно, что они были ему внушены.
Но можно ли здесь принять это внушение в наиболее простом смысле слова? А именно: как то, что, будучи сформулированным одним субъектом, переходит к другому в виде установленной истины, по крайней мере в форме допущения с определённым элементом уверенности, становится своего рода облачением реальности? Сам термин внушения предполагает сомнение относительно аутентичности, которая не выдерживает вполне обоснованной в этом случае критики, поскольку обсуждаемые конструкции оказываются привнесёнными. Но не стоит ли принять в расчёт нечто, заслуживающее гораздо большего внимания? Не нам ли больше, чем кому бы то ни было, следует понимать, что символическая организация мира со всеми культурными элементами, которые её поддерживают, по своей природе не может кому-то принадлежать и должна быть усвоена каждым субъектом? Не это ли представляет собой незыблемую основу понятия внушение?
В случае маленького Ганса внушение не просто существует, оно видно ясно, как божий день. Расспросы отца в по-настоящему инквизиторской, настойчивой манере определённо задают направление ответам ребёнка. Как множество раз подчёркивает Фрейд, вмешательство отца носит грубый, приблизительный и откровенно неумелый характер. В том, как он регистрирует ответы ребёнка, полно недоразумений; по словам Фрейда, он слишком старается их понять и слишком торопится. При чтении случая совершенно очевидно, что конструкции маленького Ганса далеки от того, чтобы быть независимыми от вмешательства отца со всеми его недостатками, ощутимо влияющими на ребёнка и его поведение, на что постоянно обращает внимание Фрейд. С определённого момента мы видим, как это ускоряется, выходит из-под контроля, и фобия принимает очевидно гипертрофированную форму.
Тем не менее чрезвычайно интересно проследить, с чем именно, при всей изобретательности маленького Ганса, подразумевающей, казалось бы, в нашем употреблении этого слова абсолютную произвольность, различные эпизоды его мифотворчества связаны. Недавно на одной из моих презентаций больных некто сказал мне о воображаемом характере некоторых конструкций моего пациента, что указывало, по его мысли, я уж не знаю почему, на след истерического внушения или последствий внушения, хотя нетрудно было убедиться, что это не так. Пусть даже и спровоцированная, простимулированная вопросом, околобредовая фантазия пациента развивалась в соответствии со своими собственными структурами и несла на себе собственную печать.
В случае Ганса у нас ни на мгновение не возникает впечатления бредообразования. Более того, есть полное впечатление игры. Это настолько увлекательная игра, что порой сам Ганс теряет нить повествования, забывая, с чего начал, как, например, в большом замечательном рассказе, по своему жанру граничащим с фарсом, об участии аиста в рождении его младшей сестры Анны. Он доходит до того, чтобы заявить: «И потом, в конце концов, не верьте тому, что я сказал». Тем не менее в самой этой игре заявляют о себе не столько постоянные понятия, сколько определённая конфигурация, порой ускользающая, а иногда поразительно чётко уловимая.
Вот то, к чему я хотел вас подвести, к необходимости иметь дело со структурой, которая определяет не только то, что мы, приняв меры предосторожности, называем маленькими мифами Ганса, но также и их развитие, и их трансформации. Особенно я бы хотел обратить ваше внимание на то, что важно зачастую вовсе не их содержание, то есть не более или менее упорядоченное оживление внутренних переживаний вроде так называемого анального комплекса.
Анальный комплекс фигурирует в наблюдении, но его роль исчерпывается тем, что Ганс говорит о lumpf. Его появление было совершенно неожиданным для отца. Фрейд намеренно оставил его в неведении относительно двух тем, с которыми тот с большой вероятностью мог встретиться и которые, как это и предвидел Фрейд, действительно возникли в процессе работы отца с ребёнком. Одной из этих тем был анальный комплекс, а другой - ни больше ни меньше - комплекс кастрации.
Не будем забывать, что в то время, в 1906-1908 годах, комплекс кастрации уже являлся для Фрейда своего рода ключом, но ключом, ещё не разработанным в полной мере, далеко не основным. Тогда этот почти ничего не означающий маленький ключик болтался на связке среди других. В конечном счёте, Фрейд имел в виду, что у отца не было никакого представления о том, что комплекс кастрации является главным пунктом, через который происходит установление и разрешение субъективной констелляции, фазы восхождения и нисхождения Эдипа.
Таким образом, на протяжении всего наблюдения мы видим, как маленький Ганс реагирует на интервенции реального отца. В теплице, хорошо прогретой лучами перекрёстных вопросов отца, складываются наиболее благоприятные условия для созревания культуры фобии. Ничто не позволяет нам предположить, что фобия могла бы иметь такую продолжительность и такие последствия, если бы не вмешательство отца, без которого вряд ли были бы возможными и такое её развитие, и насыщенность, и в определённый момент такая требовательная её настоятельность. Фрейд сам допускает и учитывает, что фобия могла вспыхнуть, ускориться, усилиться в результате действий отца.
Это прописные истины, и всё же их нужно было озвучить. Вернёмся теперь к тому пункту, на котором мы остановились. Чтобы не бросать вас в неопределённости, я предложу вам основную схему, вокруг которой подходящим для нас способом организовывается всё то, что мы постараемся понять о феномене анализа Ганса, о его начале и о его результатах.
Итак, Ганс находится в определённых отношениях со своей матерью, где его прямая потребность в её любви смешалась с тем, что мы назвали интерсубъективной
спровоцированная, простимулированная вопросом, околобредовая фантазия пациента развивалась в соответствии со своими собственными структурами и несла на себе собственную печать.
В случае Ганса у нас ни на мгновение не возникает впечатления бредообразования. Более того, есть полное впечатление игры. Это настолько увлекательная игра, что порой сам Ганс теряет нить повествования, забывая, с чего начал, как, например, в большом замечательном рассказе, по своему жанру граничащим с фарсом, об участии аиста в рождении его младшей сестры Анны. Он доходит до того, чтобы заявить: «И потом, в конце концов, не верьте тому, что я сказал». Тем не менее в самой этой игре заявляют о себе не столько постоянные понятия, сколько определённая конфигурация, порой ускользающая, а иногда поразительно чётко уловимая.
Вот то, к чему я хотел вас подвести, к необходимости иметь дело со структурой, которая определяет не только то, что мы, приняв меры предосторожности, называем маленькими мифами Ганса, но также и их развитие, и их трансформации. Особенно я бы хотел обратить ваше внимание на то, что важно зачастую вовсе не их содержание, то есть не более или менее упорядоченное оживление внутренних переживаний вроде так называемого анального комплекса.
Анальный комплекс фигурирует в наблюдении, но его роль исчерпывается тем, что Ганс говорит о lumpf. Его появление было совершенно неожиданным для отца. Фрейд намеренно оставил его в неведении относительно двух тем, с которыми тот с большой вероятностью мог встретиться и которые, как это и предвидел Фрейд, действительно возникли в процессе работы отца с ребёнком. Одной из этих тем был анальный комплекс, а другой - ни больше ни меньше - комплекс кастрации.
Не будем забывать, что в то время, в 1906-1908 годах, комплекс кастрации уже являлся для Фрейда своего рода ключом, но ключом, ещё не разработанным в полной мере, далеко не основным. Тогда этот почти ничего не означающий маленький ключик болтался на связке среди других. В конечном счёте, Фрейд имел в виду, что у отца не было никакого представления о том, что комплекс кастрации является главным пунктом, через который происходит установление и разрешение субъективной констелляции, фазы восхождения и нисхождения Эдипа.
Таким образом, на протяжении всего наблюдения мы видим, как маленький Ганс реагирует на интервенции реального отца. В теплице, хорошо прогретой лучами перекрёстных вопросов отца, складываются наиболее благоприятные условия для созревания культуры фобии. Ничто не позволяет нам предположить, что фобия могла бы иметь такую продолжительность и такие последствия, если бы не вмешательство отца, без которого вряд ли были бы возможными и такое её развитие, и насыщенность, и в определённый момент такая требовательная её настоятельность. Фрейд сам допускает и учитывает, что фобия могла вспыхнуть, ускориться, усилиться в результате действий отца.
Это прописные истины, и всё же их нужно было озвучить. Вернёмся теперь к тому пункту, на котором мы остановились. Чтобы не бросать вас в неопределённости, я предложу вам основную схему, вокруг которой подходящим для нас способом организовывается всё то, что мы постараемся понять о феномене анализа Ганса, о его начале и о его результатах.
Итак, Ганс находится в определённых отношениях со своей матерью, где его прямая потребность в её любви смешалась с тем, что мы назвали интерсубъективной игрой в приманку. С самого начала наблюдения эта игра повсюду, и наиболее ясным образом она даёт о себе знать в высказываниях ребёнка. Ему необходимо, чтобы у его матери был фаллос, и это вовсе не означает, что фаллос для него нечто реальное. Напротив, в его высказываниях постоянно проскальзывает двусмысленность отношений с фаллосом в перспективе игры. В конце концов, ребёнок хорошо знает некоторые вещи, по крайней мере указывает на них, когда говорит: «Я только подумал ...» - и он осекается. Тем, о чём он подумал, было: он у неё есть или его у неё нет? Он её спрашивает и заставляет её сказать, что у неё есть Wiwimacher, и кто знает, удовлетворил ли его этот ответ и в какой степени? Macher не имеет точного перевода, но поскольку есть смысл рабочего, действующего агента, как в Uhrmacher (часовщик) - это делатель пипи. Делатель мужского рода, как подсказывают другие слова с приставкой wiwi.
Хотя отношения ребёнка со своей матерью исполнены близости, и мы видим, что он состоит с ней в сговоре воображаемой игры, внезапно возникает определённая декомпенсация, которая проявляется в тревоге, затрагивающей именно эти отношения с матерью.
В прошлый раз мы пытались разобраться, на что отвечает эта тревога. Как было отмечено, она связана с различными элементами реального, которые своим появлением усложнили ситуацию. Эти элементы реального не являются равнозначными. В ряду материнских объектов происходит изменение, а именно: на свет появляется младшая сестра, что вызывает у Ганса реакции, которые, однако, проявляются не сразу, поскольку вспышка фобии последует лишь пятнадцать месяцев спустя. Ситуацию осложняет вмешательство реального пениса, но он задействован уже в течение как минимум года, это известно, поскольку благодаря хорошим отношениям с родителями ребёнок говорит о мастурбации.
Каким образом эти элементы декомпенсации вступают в игру? В прошлый раз мы это отметили.
С одной стороны, Ганс подвергается исключению, он выброшен из ситуации из-за появления младшей сестры. С другой стороны, имеет место вмешательство фаллоса в иной форме - я имею в виду мастурбацию. Это всё тот же объект, но представленный в совершенно другой форме из-за нового ощущения, связанного с набуханием, которое, вполне вероятно, мы можем определить как оргазм, но, конечно, без эякуляции. Понятно, что вопрос оргазма при детской мастурбации является сложной проблемой. Фрейд не разрешает её, потому что на тот момент не располагает достаточным количеством данных, и я тоже к ней сразу подходить не стану. Я только обозначаю, что эта проблема лежит на горизонте нашего исследования.
Вызывает удивление, что Фрейд не задаётся вопросом, не имеет ли гвалт и гам, Krawall, который провоцирует один из страхов ребёнка перед лошадьми, связи с оргазмом, причём не с его собственным. На вопрос, не мог ли он наблюдать такого характера сцену между родителями, Фрейд легко принимает заверение, что ребёнок ничего не мог видеть. Это маленькая загадка, на которую мы найдём ответ.
Весь наш опыт подтверждает, что в прошлом детей, в их переживаниях, в их развитии присутствует элемент, который им очень сложно усвоить. Я долгое время настаивал - и в моей диссертации, и в почти одновременном с ней тексте - на разрушительном характере, особенно у параноика, первого полного оргастического ощущения. Почему особенно у параноика? Попутно мы постараемся ответить и на этот вопрос. Но у некоторых субъектов мы постоянно встречаем свидетельства характера
игрой в приманку. С самого начала наблюдения эта игра повсюду, и наиболее ясным образом она даёт о себе знать в высказываниях ребёнка. Ему необходимо, чтобы у его матери был фаллос, и это вовсе не означает, что фаллос для него нечто реальное. Напротив, в его высказываниях постоянно проскальзывает двусмысленность отношений с фаллосом в перспективе игры. В конце концов, ребёнок хорошо знает некоторые вещи, по крайней мере указывает на них, когда говорит: «Я только подумал ...» - и он осекается. Тем, о чём он подумал, было: он у неё есть или его у неё нет? Он её спрашивает и заставляет её сказать, что у неё есть Wiwimacher, и кто знает, удовлетворил ли его этот ответ и в какой степени? Macher не имеет точного перевода, но поскольку есть смысл рабочего, действующего агента, как в Uhrmacher (часовщик) - это делатель пипи. Делатель мужского рода, как подсказывают другие слова с приставкой wiwi.
Хотя отношения ребёнка со своей матерью исполнены близости, и мы видим, что он состоит с ней в сговоре воображаемой игры, внезапно возникает определённая декомпенсация, которая проявляется в тревоге, затрагивающей именно эти отношения с матерью.
В прошлый раз мы пытались разобраться, на что отвечает эта тревога. Как было отмечено, она связана с различными элементами реального, которые своим появлением усложнили ситуацию. Эти элементы реального не являются равнозначными. В ряду материнских объектов происходит изменение, а именно: на свет появляется младшая сестра, что вызывает у Ганса реакции, которые, однако, проявляются не сразу, поскольку вспышка фобии последует лишь пятнадцать месяцев спустя. Ситуацию осложняет вмешательство реального пениса, но он задействован уже в течение как минимум года, это известно, поскольку благодаря хорошим отношениям с родителями ребёнок говорит о мастурбации.
Каким образом эти элементы декомпенсации вступают в игру? В прошлый раз мы это отметили.
С одной стороны, Ганс подвергается исключению, он выброшен из ситуации из-за появления младшей сестры. С другой стороны, имеет место вмешательство фаллоса в иной форме - я имею в виду мастурбацию. Это всё тот же объект, но представленный в совершенно другой форме из-за нового ощущения, связанного с набуханием, которое, вполне вероятно, мы можем определить как оргазм, но, конечно, без эякуляции. Понятно, что вопрос оргазма при детской мастурбации является сложной проблемой. Фрейд не разрешает её, потому что на тот момент не располагает достаточным количеством данных, и я тоже к ней сразу подходить не стану. Я только обозначаю, что эта проблема лежит на горизонте нашего исследования.
Вызывает удивление, что Фрейд не задаётся вопросом, не имеет ли гвалт и гам, Krawall, который провоцирует один из страхов ребёнка перед лошадьми, связи с оргазмом, причём не с его собственным. На вопрос, не мог ли он наблюдать такого характера сцену между родителями, Фрейд легко принимает заверение, что ребёнок ничего не мог видеть. Это маленькая загадка, на которую мы найдём ответ.
Весь наш опыт подтверждает, что в прошлом детей, в их переживаниях, в их развитии присутствует элемент, который им очень сложно усвоить. Я долгое время настаивал - и в моей диссертации, и в почти одновременном с ней тексте - на разрушительном характере, особенно у параноика, первого полного оргастического ощущения. Почему особенно у параноика? Попутно мы постараемся ответить и на этот вопрос. Но у некоторых субъектов мы постоянно встречаем свидетельства характера жестокого вторжения, ошеломляющего разрушительного эффекта этого опыта. Это указывает нам на то, что появление реального пениса как элемента, который сложно усвоить, должно сыграть свою роль как раз в тот самый, обсуждаемый нами сейчас поворотный момент.
Тем не менее, поскольку уже прошло некоторое время после того, как реальный пенис включился в игру, в момент вспышки тревоги на первом плане оказывается что-то другое. Почему фобия возникает именно в этот момент и ни в какой другой? Очевидно, что этот вопрос пока остаётся без ответа.
3
Итак, наш маленький Ганс достигает пункта появления фобии.
Текст наблюдения не оставляет сомнений, что не Фрейд, а именно отец изначально имеет представление о том, что это как-то связано с напряжённостью в отношениях с матерью. По поводу того, что вызывает фобию, что именно стало причиной расстройства, отец не скрывает своего замешательства, и в первых же строках своего письма Фрейду он откровенно признаётся: «Я этого не знаю», и начинает описание фобии.
О чём идёт речь? Оставим пока дальнейшее в стороне и на некоторое время остановимся здесь.
Мы сосредоточили всё внимание на матери и на символически-воображаемых отношениях ребёнка с ней. Мы говорим, что ребёнок видит нужду матери в том, чего ей не хватает, а именно в фаллосе, которого у неё нет. Мы сказали, что этот фаллос является воображаемым. Воображаемым для кого? Он воображаемый для ребёнка. Почему мы говорим об этом именно так? Потому что Фрейд сказал нам, что для матери это имеет значение. Почему? Вы мне скажете: «Потому что в этом состоит суть его открытия». А если он это открыл, значит, действительно так оно и есть, и это правда. Почему же это правда?
Речь идёт о том, чтобы понять, в каком смысле это правда. Аналитики, в особенности аналитики женского пола, регулярно возражают, не понимая, почему именно женщина более, чем кто-либо другой, обречена желать того, чем не обладает, или же уверовать в то, что она всё-таки этим наделена. Так происходит по тем причинам, ограничимся только ими, которые принадлежат порядку существования и настоятельности означающего. Именно потому, что фаллос обладает символическим значением в означающей системе и получает распространение во всех текстах человеческой речи, он более, чем какой-либо другой образ, вызывает у женщины желание.
Разве проблема состоит не в том, что именно на этом повороте, в этот момент декомпенсации ребёнок совершает тот шаг, который невозможно сделать в одиночку? Что это за шаг? Ранее он играл с фаллосом, желаемым матерью, с фаллосом, ставшим для него элементом желания матери, без которого ему не обойтись, чтобы завлечь мать. Этот фаллос представляет собой воображаемый элемент. Теперь же ребёнок обнаруживает, что этот воображаемый элемент обладает символическим значением. И именно это является для него непреодолимым.
Другими словами, ребёнок изначально входит в систему означающего или языка, если определить её синхронически, или систему речи, если определить её
жестокого вторжения, ошеломляющего разрушительного эффекта этого опыта. Это указывает нам на то, что появление реального пениса как элемента, который сложно усвоить, должно сыграть свою роль как раз в тот самый, обсуждаемый нами сейчас поворотный момент.
Тем не менее, поскольку уже прошло некоторое время после того, как реальный пенис включился в игру, в момент вспышки тревоги на первом плане оказывается что-то другое. Почему фобия возникает именно в этот момент и ни в какой другой? Очевидно, что этот вопрос пока остаётся без ответа.
3
Итак, наш маленький Ганс достигает пункта появления фобии.
Текст наблюдения не оставляет сомнений, что не Фрейд, а именно отец изначально имеет представление о том, что это как-то связано с напряжённостью в отношениях с матерью. По поводу того, что вызывает фобию, что именно стало причиной расстройства, отец не скрывает своего замешательства, и в первых же строках своего письма Фрейду он откровенно признаётся: «Я этого не знаю», и начинает описание фобии.
О чём идёт речь? Оставим пока дальнейшее в стороне и на некоторое время остановимся здесь.
Мы сосредоточили всё внимание на матери и на символически-воображаемых отношениях ребёнка с ней. Мы говорим, что ребёнок видит нужду матери в том, чего ей не хватает, а именно в фаллосе, которого у неё нет. Мы сказали, что этот фаллос является воображаемым. Воображаемым для кого? Он воображаемый для ребёнка. Почему мы говорим об этом именно так? Потому что Фрейд сказал нам, что для матери это имеет значение. Почему? Вы мне скажете: «Потому что в этом состоит суть его открытия». А если он это открыл, значит, действительно так оно и есть, и это правда. Почему же это правда?
Речь идёт о том, чтобы понять, в каком смысле это правда. Аналитики, в особенности аналитики женского пола, регулярно возражают, не понимая, почему именно женщина более, чем кто-либо другой, обречена желать того, чем не обладает, или же уверовать в то, что она всё-таки этим наделена. Так происходит по тем причинам, ограничимся только ими, которые принадлежат порядку существования и настоятельности означающего. Именно потому, что фаллос обладает символическим значением в означающей системе и получает распространение во всех текстах человеческой речи, он более, чем какой-либо другой образ, вызывает у женщины желание.
Разве проблема состоит не в том, что именно на этом повороте, в этот момент декомпенсации ребёнок совершает тот шаг, который невозможно сделать в одиночку? Что это за шаг? Ранее он играл с фаллосом, желаемым матерью, с фаллосом, ставшим для него элементом желания матери, без которого ему не обойтись, чтобы завлечь мать. Этот фаллос представляет собой воображаемый элемент. Теперь же ребёнок обнаруживает, что этот воображаемый элемент обладает символическим значением. И именно это является для него непреодолимым.
Другими словами, ребёнок изначально входит в систему означающего или языка, если определить её синхронически, или систему речи, если определить её диахронически, но он входит в неё не в полной мере, его включение ограничено измерением отношений с присутствующей и отсутствующей матерью. Однако этот первый символический опыт является совершенно недостаточным условием. Невозможно выстроить систему взаимосвязей означающего во всей её полноте, располагая лишь фактом присутствия и отсутствия того, кто любим. Мы не можем довольствоваться двумя терминами, нужны другие.
Для функционирования системы символического есть необходимый минимум. Нужно прояснить: это три или четыре. Конечно, трёх недостаточно. Безусловно, Эдип даёт нам три, но определённо подразумевается четвёртый, поскольку ребёнку нужно Эдип перейти. Поэтому кое-кто должен вмешаться, и этот кое-кто - отец.
Нам рассказывают милую историю о том, как вмешивается отец, о соперничестве с ним, о запретном желании матери. Так, когда мы продвигаемся шаг за шагом, мы отчётливо замечаем, что оказываемся в совершенно особенной ситуации. Мы уже обсуждали своеобразную манеру проявлений отца Ганса. Может, степень отцовской несостоятельности играет свою роль? Можем ли мы положиться на те якобы реальные и конкретные характеристики, окончательный смысл которых так трудно уяснить? Поскольку что именно большая или меньшая несостоятельность реального отца может значить?
В этом вопросе каждый довольствуется приблизительным пониманием, и в конце концов нам заявляют, не заостряя на этом внимания и исходя неясно из какой логики, что здесь всё очень противоречиво. Мы же, напротив, увидим, что всё упорядочивается тем обстоятельством, что для ребёнка определённые образы функционируют символически.
Что это значит? Образы, которые в этот момент реальность предлагает маленькому Гансу, будучи, возможно, слишком изобильными, насыщенными, избыточными, находятся в совершенно усвоенном состоянии. Поскольку для него речь идёт о том, как согласовать с миром материнских отношений, в котором он до настоящего момента гармонично пребывал, тот элемент воображаемого начала или нехватки, который делает его для матери таким забавным и даже возбуждающим. Где-то упоминается, что она слегка раздражается, когда отец просит выдворить ребёнка из постели, и она протестует, заигрывает, кокетничает. Это выражение wohl gereizt, переведённое как довольно раздражена, скорее соответствует здесь смыслу весьма возбуждена. Конечно, он не просто так оказался в кровати у матери. Мы выясним, почему именно он оказался там, это одно из основных направлений наблюдения.
Я приведу вам пример того, что я имею в виду, когда говорю, что эти образы возникают прежде всего в отношениях с матерью, но ведь есть ещё и другие, новые, с которыми ребёнок также успешно имеет дело. С тех пор, как у него появляется младшая сестра и в мире, где он находится с матерью, уже не всё так хорошо клеится, возникают представления, образующие антиномичные пары вроде большого и малого или того, что здесь, и того, чего нет здесь, а только кажется, и т.д. Однако в реальности он с этими представлениями вполне справляется и делает это, как мы видим, исключительно хорошо. Так, говоря о младшей сестре, он отмечает, что «у неё ещё нет зубов», то есть прекрасно понимает, что они должны появиться.
Иронизируя, Фрейд делает это косвенно. Не нужно полагать, что этот ребёнок метафизик. Он выражается абсолютно трезво и нормально, он очень быстро осваивает три понятия, каждое из которых не существует само по себе. Во-первых, возникновение,
диахронически, но он входит в неё не в полной мере, его включение ограничено измерением отношений с присутствующей и отсутствующей матерью. Однако этот первый символический опыт является совершенно недостаточным условием. Невозможно выстроить систему взаимосвязей означающего во всей её полноте, располагая лишь фактом присутствия и отсутствия того, кто любим. Мы не можем довольствоваться двумя терминами, нужны другие.
Для функционирования системы символического есть необходимый минимум. Нужно прояснить: это три или четыре. Конечно, трёх недостаточно. Безусловно, Эдип даёт нам три, но определённо подразумевается четвёртый, поскольку ребёнку нужно Эдип перейти. Поэтому кое-кто должен вмешаться, и этот кое-кто - отец.
Нам рассказывают милую историю о том, как вмешивается отец, о соперничестве с ним, о запретном желании матери. Так, когда мы продвигаемся шаг за шагом, мы отчётливо замечаем, что оказываемся в совершенно особенной ситуации. Мы уже обсуждали своеобразную манеру проявлений отца Ганса. Может, степень отцовской несостоятельности играет свою роль? Можем ли мы положиться на те якобы реальные и конкретные характеристики, окончательный смысл которых так трудно уяснить? Поскольку что именно большая или меньшая несостоятельность реального отца может значить?
В этом вопросе каждый довольствуется приблизительным пониманием, и в конце концов нам заявляют, не заостряя на этом внимания и исходя неясно из какой логики, что здесь всё очень противоречиво. Мы же, напротив, увидим, что всё упорядочивается тем обстоятельством, что для ребёнка определённые образы функционируют символически.
Что это значит? Образы, которые в этот момент реальность предлагает маленькому Гансу, будучи, возможно, слишком изобильными, насыщенными, избыточными, находятся в совершенно усвоенном состоянии. Поскольку для него речь идёт о том, как согласовать с миром материнских отношений, в котором он до настоящего момента гармонично пребывал, тот элемент воображаемого начала или нехватки, который делает его для матери таким забавным и даже возбуждающим. Где-то упоминается, что она слегка раздражается, когда отец просит выдворить ребёнка из постели, и она протестует, заигрывает, кокетничает. Это выражение wohl gereizt, переведённое как довольно раздражена, скорее соответствует здесь смыслу весьма возбуждена. Конечно, он не просто так оказался в кровати у матери. Мы выясним, почему именно он оказался там, это одно из основных направлений наблюдения.
Я приведу вам пример того, что я имею в виду, когда говорю, что эти образы возникают прежде всего в отношениях с матерью, но ведь есть ещё и другие, новые, с которыми ребёнок также успешно имеет дело. С тех пор, как у него появляется младшая сестра и в мире, где он находится с матерью, уже не всё так хорошо клеится, возникают представления, образующие антиномичные пары вроде большого и малого или того, что здесь, и того, чего нет здесь, а только кажется, и т.д. Однако в реальности он с этими представлениями вполне справляется и делает это, как мы видим, исключительно хорошо. Так, говоря о младшей сестре, он отмечает, что «у неё ещё нет зубов», то есть прекрасно понимает, что они должны появиться.
Иронизируя, Фрейд делает это косвенно. Не нужно полагать, что этот ребёнок метафизик. Он выражается абсолютно трезво и нормально, он очень быстро осваивает три понятия, каждое из которых не существует само по себе. Во-первых, возникновение, появление чего-то нового. Во-вторых, рост - она вырастет или вырастет то, чего она не имеет, и здесь нет повода для иронии. Наконец, пропорция или размер, как кажется, наиболее простой термин, но который даётся не сразу.
Всё это с ребёнком обсуждается, и может показаться, что ещё слишком рано для того, чтобы он понял разъяснения, которые ему дают. «Есть те, у которых этого нет - у женщин нет фаллоса», - вот что говорит ему отец. Так вот, этот ребёнок, уже доказавший свою способность умело и правильно обращаться с такими понятиями, не удовлетворяется этим и предпринимает ряд обходных манёвров, которые на первый взгляд кажутся ошеломляющими, пугающими, ненормальными. Решение у проблемы, в конце концов, есть, но, чтобы достичь его, ему приходится проследовать путями, сильно отклоняющимися от привычного ему восприятия форм, способных объективировать реальное удовлетворительным образом. Мы постоянно будем свидетелями исчерпания и преодоления воображаемого на пути к символическому, и вы увидите, что оно не может происходить без структуризации в тех, как минимум троичных циклах, различные следствия из которых я вам в следующий раз покажу.
Сразу же приведу вам сегодня один пример.
По инструкциям Фрейда - в следующий раз вы поймёте, что они могут значить, эти инструкции Фрейда - отец вбивает в голову Ганса, что у женщин нет фаллоса и напрасно он его ищет. Утверждать, будто Фрейд действительно предложил отцу сделать такую интерпретацию, было бы слишком, но оставим это пока в стороне.
Как ребёнок реагирует на эту интервенцию отца? Появляется фантазия о двух жирафах.
Глубокой ночью ребёнок в страхе приходит в комнату родителей, сначала он ни о чём не рассказывает и засыпает в их кровати. Ганса переносят обратно в его комнату и на следующий день снова спрашивают о том, что случилось. Он рассказывает о своей фантазии. Там большой жираф, а вот здесь маленький жираф, zerwutzelte, что было переведено как смятый, тогда как это означает скомканный, скатанный в шар, в ком. На вопрос, что это означает, ребёнок делает из листа бумаги комок.
Как это было проинтерпретировано? У отца сразу же не осталось никаких сомнений по поводу этих двух жирафов. Большой символизирует отца. Маленький, которым завладел ребёнок, усевшись на него верхом под громкие крики большого, связан с реакцией на материнский фаллос и отсылает к тоске по матери и её нехватке. Это сразу же обозначено, воспринято, распознано, найдено отцом в качестве значения маленького жирафа, что, впрочем, не мешает ему, не без того, чтобы он уловил противоречие, всё-таки сопоставить жирафов с парой отец-мать. Всё это поднимает наиболее интересные вопросы. Мы можем бесконечно обсуждать, был ли большой жираф отцом, а маленький жираф матерью. На самом деле ребёнок претендует на обладание матерью для того, чтобы спровоцировать раздражение и даже гнев отца. Однако такой гнев никогда не имел места в реальности, отец никогда не позволял себе проявлять гнев, и маленький Ганс пальцем указывает ему на это: «Ты должен гневаться, ты должен ревновать». Он разъясняет ему смысл Эдипа. К сожалению, отец никогда не был Громовержцем.
Задержимся ненадолго на том, что здесь настолько очевидно. Большой и маленький жирафы подобны, один представляет собой двойника другого. Есть сторона большого и маленького, но также всегда есть сторона просто жирафа. Другими словами, мы обнаруживаем здесь нечто совершенно аналогичное тому, о чём я говорил вам в
появление чего-то нового. Во-вторых, рост - она вырастет или вырастет то, чего она не имеет, и здесь нет повода для иронии. Наконец, пропорция или размер, как кажется, наиболее простой термин, но который даётся не сразу.
Всё это с ребёнком обсуждается, и может показаться, что ещё слишком рано для того, чтобы он понял разъяснения, которые ему дают. «Есть те, у которых этого нет - у женщин нет фаллоса», - вот что говорит ему отец. Так вот, этот ребёнок, уже доказавший свою способность умело и правильно обращаться с такими понятиями, не удовлетворяется этим и предпринимает ряд обходных манёвров, которые на первый взгляд кажутся ошеломляющими, пугающими, ненормальными. Решение у проблемы, в конце концов, есть, но, чтобы достичь его, ему приходится проследовать путями, сильно отклоняющимися от привычного ему восприятия форм, способных объективировать реальное удовлетворительным образом. Мы постоянно будем свидетелями исчерпания и преодоления воображаемого на пути к символическому, и вы увидите, что оно не может происходить без структуризации в тех, как минимум троичных циклах, различные следствия из которых я вам в следующий раз покажу.
Сразу же приведу вам сегодня один пример.
По инструкциям Фрейда - в следующий раз вы поймёте, что они могут значить, эти инструкции Фрейда - отец вбивает в голову Ганса, что у женщин нет фаллоса и напрасно он его ищет. Утверждать, будто Фрейд действительно предложил отцу сделать такую интерпретацию, было бы слишком, но оставим это пока в стороне.
Как ребёнок реагирует на эту интервенцию отца? Появляется фантазия о двух жирафах.
Глубокой ночью ребёнок в страхе приходит в комнату родителей, сначала он ни о чём не рассказывает и засыпает в их кровати. Ганса переносят обратно в его комнату и на следующий день снова спрашивают о том, что случилось. Он рассказывает о своей фантазии. Там большой жираф, а вот здесь маленький жираф, zerwutzelte, что было переведено как смятый, тогда как это означает скомканный, скатанный в шар, в ком. На вопрос, что это означает, ребёнок делает из листа бумаги комок.
Как это было проинтерпретировано? У отца сразу же не осталось никаких сомнений по поводу этих двух жирафов. Большой символизирует отца. Маленький, которым завладел ребёнок, усевшись на него верхом под громкие крики большого, связан с реакцией на материнский фаллос и отсылает к тоске по матери и её нехватке. Это сразу же обозначено, воспринято, распознано, найдено отцом в качестве значения маленького жирафа, что, впрочем, не мешает ему, не без того, чтобы он уловил противоречие, всё-таки сопоставить жирафов с парой отец-мать. Всё это поднимает наиболее интересные вопросы. Мы можем бесконечно обсуждать, был ли большой жираф отцом, а маленький жираф матерью. На самом деле ребёнок претендует на обладание матерью для того, чтобы спровоцировать раздражение и даже гнев отца. Однако такой гнев никогда не имел места в реальности, отец никогда не позволял себе проявлять гнев, и маленький Ганс пальцем указывает ему на это: «Ты должен гневаться, ты должен ревновать». Он разъясняет ему смысл Эдипа. К сожалению, отец никогда не был Громовержцем.
Задержимся ненадолго на том, что здесь настолько очевидно. Большой и маленький жирафы подобны, один представляет собой двойника другого. Есть сторона большого и маленького, но также всегда есть сторона просто жирафа. Другими словами, мы обнаруживаем здесь нечто совершенно аналогичное тому, о чём я говорил вам в прошлый раз о ребёнке, который оказывается метонимически задействованным в фаллическом желании матери. Ребёнок в целом - это фаллос. Таким образом, когда дело доходит до возвращения матери её фаллоса, мальчик наделяет фаллическим значением всю мать целиком в качестве двойника. Он производит метонимию матери. Нечто, бывшее до сего момента лишь загадочным и желанным фаллосом, в обработанном и необработанном виде, погружённым в двусмысленность, принятым на веру, задействованным в соблазняющей игре с матерью, с которой мы всё соотносим, начинает артикулироваться как метонимия. И словно этого было мало, чтобы лучше увидеть включение образа в чисто символическую игру, чтобы лучше показать, как совершили мы переход от воображаемого к символическому, и нужен оказался этот маленький жираф, так никем и не понятый, хоть и у всех на виду. Ганс сам демонстрирует нам, что этот жираф не более чем символ, что он лишь рисунок на бумажном листе, который можно смять.
Переход от воображаемого к символическому не может быть представлен лучше, чем в таких, казалось бы, противоречивых и немыслимых деталях. Из того, о чём рассказывают дети, вы всегда делаете нечто, существующее в трех измерениях, хотя есть в них и что-то от символической игры, которая происходит в двух. В Украденном письме я указывал вам на момент, когда в руках королевы письмо становится не более чем скомканным листом бумаги. С помощью того же самого жеста Ганс пытается понять, что означает маленький жираф. Маленький смятый жираф означает нечто, принадлежащее тому же порядку, что и рисунок жирафа, сделанный как-то отцом для Ганса, который я вам здесь представляю, с вивимахером, добавленным самим ребёнком. Этот рисунок уже близок к символу, несмотря на то что он является весьма правдоподобным наброском, и все части расположены на своих местах, однако вивимахер, добавленный жирафу, имеет по-настоящему графический характер: это черта, а в придачу, чтобы мы не смогли это никак проигнорировать, ещё и отделённая от тела жирафа.
прошлый раз о ребёнке, который оказывается метонимически задействованным в фаллическом желании матери. Ребёнок в целом - это фаллос. Таким образом, когда дело доходит до возвращения матери её фаллоса, мальчик наделяет фаллическим значением всю мать целиком в качестве двойника. Он производит метонимию матери. Нечто, бывшее до сего момента лишь загадочным и желанным фаллосом, в обработанном и необработанном виде, погружённым в двусмысленность, принятым на веру, задействованным в соблазняющей игре с матерью, с которой мы всё соотносим, начинает артикулироваться как метонимия. И словно этого было мало, чтобы лучше увидеть включение образа в чисто символическую игру, чтобы лучше показать, как совершили мы переход от воображаемого к символическому, и нужен оказался этот маленький жираф, так никем и не понятый, хоть и у всех на виду. Ганс сам демонстрирует нам, что этот жираф не более чем символ, что он лишь рисунок на бумажном листе, который можно смять.
Переход от воображаемого к символическому не может быть представлен лучше, чем в таких, казалось бы, противоречивых и немыслимых деталях. Из того, о чём рассказывают дети, вы всегда делаете нечто, существующее в трех измерениях, хотя есть в них и что-то от символической игры, которая происходит в двух. В Украденном письме я указывал вам на момент, когда в руках королевы письмо становится не более чем скомканным листом бумаги. С помощью того же самого жеста Ганс пытается понять, что означает маленький жираф. Маленький смятый жираф означает нечто, принадлежащее тому же порядку, что и рисунок жирафа, сделанный как-то отцом для Ганса, который я вам здесь представляю, с вивимахером, добавленным самим ребёнком. Этот рисунок уже близок к символу, несмотря на то что он является весьма правдоподобным наброском, и все части расположены на своих местах, однако вивимахер, добавленный жирафу, имеет по-настоящему графический характер: это черта, а в придачу, чтобы мы не смогли это никак проигнорировать, ещё и отделённая от тела жирафа.

 Заметьте,что это не единственный пункт, в котором мы можем уловить переход от воображаемого к символическому, есть множество других. Мало-помалу мы обнаруживаем параллель между случаем человека-волка и случаем маленького Ганса и можем сравнить пути, на которых в одном и другом случаях возникает фобический образ. Мы ещё не выявили его значения, и для того, чтобы это сделать, необходимо прежде всего обратиться к опыту ребёнка. У человека-волка это, без сомнения, чистый образ, но образ из книги с картинками, объект фобии - это волк, сошедший со страниц книги. Совсем как у Ганса. В его книге с картинками на той же странице, которую мы обсуждали, где аист приносит детей в красной коробке, то есть там, где изображено гнездо аистов на вершине дымоходной трубы, как будто случайно нарисована лошадь, которую подковывают.
Что нам здесь всё время предстоит наблюдать? Нам предстоит наблюдать, коль скоро мы ищем именно их, структуры, включённые в круговую игру дополняющих друг друга логических инструментов и формирующие своего рода круг, в котором маленький Ганс ищет решение. Решение чего? Дело в том, что в этой серии, образованной тремя элементами или инструментами, называемыми мать, ребёнок и фаллос, фаллос перестал быть только тем, с чем играют, но проявил норов, обрёл свои фантазии, свои нужды и претензии, повсюду учинил беспорядок. Речь идёт о том, чтобы понять, как можно навести порядок, то есть как можно исправить положение дел в этом изначально сложившемся трио.
Здесь мы видим появление триады.
Мой пенис закрепился, angewachsen, прирос, глубоко укоренился. Вот форма гарантии. К сожалению, сразу же вслед за уверенностью в его надёжной укоренённости происходит вспышка фобии. Его укоренённость несёт в себе, надо полагать, опасность.
Тогда мы видим появление другого термина - продырявленный. Научившись различать этот термин в соответствующей анализу мифических представлений форме, мы найдём его множество раз. Прежде всего, Ганс в сновидении продырявлен, затем продырявлена кукла, и есть вещи, продырявленные снаружи внутрь и изнутри наружу.
Третий термин, который он находит, является особенно выразительным из-за того, что его невозможно вывести из естественных форм. Этот логический инструмент, введенный им в свой мифический переход, образует, наряду с укоренённостью и зияющей своей пустотой дырой, третью вершину треугольника. Если пенис не укоренён, то больше ничего не остаётся, и нужно что-то посредствующее, позволяющее его устанавливать, снимать и заново устанавливать. Короче говоря, нужно, чтобы он был съёмным. Что для этого приспосабливает ребёнок? Ему подходит винт, который можно прикрутить и открутить. Приходит водопроводчик или сантехник и откручивает ему пенис, чтобы установить другой, размером побольше.
Применение этого логического инструмента, этого мифического элемента, позаимствованного из небогатого опыта ребёнка, приведёт к реальному разрешению проблемы через понимание, что фаллос также является задействованным в символической игре, он может комбинироваться с другими элементами, может быть закреплённым и в то же время остаётся мобильным, циркулирующим, исполняющим функцию посредника. Именно благодаря этому моменту ребёнок сможет получить возможность для первой передышки в этом безумном поиске никогда до конца не удовлетворяющих примирительных мифов и дойти до окончательного найденного им решения, которое, как вы увидите, является близким к разрешению комплекса Эдипа.
Заметьте,что это не единственный пункт, в котором мы можем уловить переход от воображаемого к символическому, есть множество других. Мало-помалу мы обнаруживаем параллель между случаем человека-волка и случаем маленького Ганса и можем сравнить пути, на которых в одном и другом случаях возникает фобический образ. Мы ещё не выявили его значения, и для того, чтобы это сделать, необходимо прежде всего обратиться к опыту ребёнка. У человека-волка это, без сомнения, чистый образ, но образ из книги с картинками, объект фобии - это волк, сошедший со страниц книги. Совсем как у Ганса. В его книге с картинками на той же странице, которую мы обсуждали, где аист приносит детей в красной коробке, то есть там, где изображено гнездо аистов на вершине дымоходной трубы, как будто случайно нарисована лошадь, которую подковывают.
Что нам здесь всё время предстоит наблюдать? Нам предстоит наблюдать, коль скоро мы ищем именно их, структуры, включённые в круговую игру дополняющих друг друга логических инструментов и формирующие своего рода круг, в котором маленький Ганс ищет решение. Решение чего? Дело в том, что в этой серии, образованной тремя элементами или инструментами, называемыми мать, ребёнок и фаллос, фаллос перестал быть только тем, с чем играют, но проявил норов, обрёл свои фантазии, свои нужды и претензии, повсюду учинил беспорядок. Речь идёт о том, чтобы понять, как можно навести порядок, то есть как можно исправить положение дел в этом изначально сложившемся трио.
Здесь мы видим появление триады.
Мой пенис закрепился, angewachsen, прирос, глубоко укоренился. Вот форма гарантии. К сожалению, сразу же вслед за уверенностью в его надёжной укоренённости происходит вспышка фобии. Его укоренённость несёт в себе, надо полагать, опасность.
Тогда мы видим появление другого термина - продырявленный. Научившись различать этот термин в соответствующей анализу мифических представлений форме, мы найдём его множество раз. Прежде всего, Ганс в сновидении продырявлен, затем продырявлена кукла, и есть вещи, продырявленные снаружи внутрь и изнутри наружу.
Третий термин, который он находит, является особенно выразительным из-за того, что его невозможно вывести из естественных форм. Этот логический инструмент, введенный им в свой мифический переход, образует, наряду с укоренённостью и зияющей своей пустотой дырой, третью вершину треугольника. Если пенис не укоренён, то больше ничего не остаётся, и нужно что-то посредствующее, позволяющее его устанавливать, снимать и заново устанавливать. Короче говоря, нужно, чтобы он был съёмным. Что для этого приспосабливает ребёнок? Ему подходит винт, который можно прикрутить и открутить. Приходит водопроводчик или сантехник и откручивает ему пенис, чтобы установить другой, размером побольше.
Применение этого логического инструмента, этого мифического элемента, позаимствованного из небогатого опыта ребёнка, приведёт к реальному разрешению проблемы через понимание, что фаллос также является задействованным в символической игре, он может комбинироваться с другими элементами, может быть закреплённым и в то же время остаётся мобильным, циркулирующим, исполняющим функцию посредника. Именно благодаря этому моменту ребёнок сможет получить возможность для первой передышки в этом безумном поиске никогда до конца не удовлетворяющих примирительных мифов и дойти до окончательного найденного им решения, которое, как вы увидите, является близким к разрешению комплекса Эдипа. Это указывает вам на то, в каком ключе нужно анализировать и применять термины в случае этого ребёнка. Другая проблема касается означающих элементов, которые он заимствует среди символизированных элементов и внедряет в их организацию. Например, лошадь, которую подковывают, представляет собой одну из форм завуалированного решения проблемы закрепления недостающего элемента, который как таковой может быть представлен чем угодно, любым достаточно твёрдым объектом. В конечном итоге окажется, что в этой мифической конструкции объектом, наиболее прямо символизирующим фаллос, является камень. Мы встречаем его повсюду в главной сцене диалога с отцом, в которой, как мы увидим, происходит действительно решающий разговор. Такой же камень представляет собой подкова, которую прибивают к ноге лошади со звуком, становящимся одной из причин паники ребёнка. Особенно его пугает, когда лошадь бьёт землю копытом, к которому прикреплено нечто такое, что не должно быть полностью закреплённым, проблему чего ребёнок в итоге решает с помощью винта.
Короче говоря, это продвижение от воображаемого к символическому представляет собой организацию воображаемого в миф или по меньшей мере ведёт к созданию настоящего, то есть коллективного мифа, напоминая об этом повсюду, приводя на мысль даже системы родства. До этих систем оно, разумеется, не дотягивает, поскольку речь идёт об индивидуальной конструкции, но именно по этому пути к ним всё и движется. Для того, чтобы решение было найдено, нужно осуществить минимально необходимое количество обходных манёвров. Вы можете найти описание остова или, если угодно, метонимии этой модели в моих историях об а, в, Y, 5. Это напоминает сюжет, как если бы для того, чтобы достичь гармонии и покоя, ребёнку в определённом пункте своего пути необходимо было преодолеть несостоятельность или пустоту. Возможно, всем комплексам Эдипа нет надобности проходить через подобное мифическое построение, но им обязательно требуется реализовать символическое преобразование в такой же полноте. Это возможно в другой, более эффективной форме, это возможно в действии. Присутствие отца может, его бытием или небытием, придать ситуации символическое измерение.
В анализе маленького Ганса как раз и происходит преодоление чего-то подобного, и в следующий раз я постараюсь показать вам это в деталях.
27 марта 1957
Это указывает вам на то, в каком ключе нужно анализировать и применять термины в случае этого ребёнка. Другая проблема касается означающих элементов, которые он заимствует среди символизированных элементов и внедряет в их организацию. Например, лошадь, которую подковывают, представляет собой одну из форм завуалированного решения проблемы закрепления недостающего элемента, который как таковой может быть представлен чем угодно, любым достаточно твёрдым объектом. В конечном итоге окажется, что в этой мифической конструкции объектом, наиболее прямо символизирующим фаллос, является камень. Мы встречаем его повсюду в главной сцене диалога с отцом, в которой, как мы увидим, происходит действительно решающий разговор. Такой же камень представляет собой подкова, которую прибивают к ноге лошади со звуком, становящимся одной из причин паники ребёнка. Особенно его пугает, когда лошадь бьёт землю копытом, к которому прикреплено нечто такое, что не должно быть полностью закреплённым, проблему чего ребёнок в итоге решает с помощью винта.
Короче говоря, это продвижение от воображаемого к символическому представляет собой организацию воображаемого в миф или по меньшей мере ведёт к созданию настоящего, то есть коллективного мифа, напоминая об этом повсюду, приводя на мысль даже системы родства. До этих систем оно, разумеется, не дотягивает, поскольку речь идёт об индивидуальной конструкции, но именно по этому пути к ним всё и движется. Для того, чтобы решение было найдено, нужно осуществить минимально необходимое количество обходных манёвров. Вы можете найти описание остова или, если угодно, метонимии этой модели в моих историях об а, в, Y, 5. Это напоминает сюжет, как если бы для того, чтобы достичь гармонии и покоя, ребёнку в определённом пункте своего пути необходимо было преодолеть несостоятельность или пустоту. Возможно, всем комплексам Эдипа нет надобности проходить через подобное мифическое построение, но им обязательно требуется реализовать символическое преобразование в такой же полноте. Это возможно в другой, более эффективной форме, это возможно в действии. Присутствие отца может, его бытием или небытием, придать ситуации символическое измерение.
В анализе маленького Ганса как раз и происходит преодоление чего-то подобного, и в следующий раз я постараюсь показать вам это в деталях.
27 марта 1957
 стараемся уточнить смысл этого различения опытным путём, поскольку нет лучшего способа проверить концепт, чем применить его на практике.
1
Итак, в прошлый раз мы пришли к выводу, что маленький Ганс в определённый момент своей биографии состоит со своей матерью в определённого рода отношениях, фундаментальные условия которых заданы явным присутствием фаллического объекта между ними.
Это нас не удивило. С начала этого года в материале других наблюдений мы уже видели, насколько фаллос как воображаемый материнский объект имеет по-настоящему решающее значение в отношениях мать-ребёнок. Первый этап можно обозначить как усвоение ребёнком своего положения в присутствии матери, требующее с его стороны признания и принятия на себя принципиальной роли этого воображаемого объекта, фаллического объекта, который входит в первичную структуру отношений мать-ребёнок в качестве изначального составляющего элемента.
В этом смысле никакое другое наблюдение не может быть лучше, чем случай маленького Ганса, в котором всё действительно начинается с игры между ним и его матерью - видеть, не видеть, подстерегать фаллос, выслеживать его. Подчеркнём, что здесь мы оказываемся в совершенном недоумении относительно того, что можно назвать верованием Ганса. У нас есть полное впечатление, что к моменту начала наблюдения он уже долгое время имеет, как говорится, своё собственное мнение о том, что происходит в реальности. «Я уже думал обо всем этом», «ich hab’ gedacht», -говорит он, когда родители, оказавшись перед внезапным вопросом ребёнка, вынуждены поспешно отвечать так, чтобы увести его в сторону от обсуждения темы.
Хотя воображаемые отношения преимущественно происходят в реакциях измерения видеть и быть видимым, я хочу ещё раз подчеркнуть, насколько важной уже на этом уровне является интерсубъективная артикуляция, которая, как вы увидите, далека от того, чтобы быть дуальной. Отношения, называемые скоптофилическими, заслуживают нашего внимания по той причине, что две противоположные позиции -показывать и показываться - уже отличают их от первичных воображаемых отношений в режиме захваченности, которые мы могли бы обозначить как взаимное противостояние в зрительном поле.
Я продолжительное время настаивал на этом, когда приводил в пример характерные для мира животных дуэли между соперниками в визуальном измерении, в которых мы видим, как животное, будь то ящерица или рыба, оказывается захваченным определённой типичной реакцией, называемой парадом. Между двумя противниками или партнёрами воздвигается некий ансамбль панцирей, знаков, приспособлений визуального захвата одного и другого - и далее, на одном только этом плане визуального противостояния, один другому уступает, он самоустраняется, снижает подвижность и блёкнет в цвете, он сворачивает себя в поле зрения того, кто занял доминантную позицию. Опыт показывает нам, что речь не всегда идёт о доминировании мужской особи над женской, иногда в подобного рода действиях участвуют два самца. То, что возникает в поле визуальной коммуникации, подготавливает и непосредственно продолжается в акте объятия, даже удушения — это захват одного субъекта, в который попадает другой, что позволяет одному субъекту взять верх над другим.
стараемся уточнить смысл этого различения опытным путём, поскольку нет лучшего способа проверить концепт, чем применить его на практике.
1
Итак, в прошлый раз мы пришли к выводу, что маленький Ганс в определённый момент своей биографии состоит со своей матерью в определённого рода отношениях, фундаментальные условия которых заданы явным присутствием фаллического объекта между ними.
Это нас не удивило. С начала этого года в материале других наблюдений мы уже видели, насколько фаллос как воображаемый материнский объект имеет по-настоящему решающее значение в отношениях мать-ребёнок. Первый этап можно обозначить как усвоение ребёнком своего положения в присутствии матери, требующее с его стороны признания и принятия на себя принципиальной роли этого воображаемого объекта, фаллического объекта, который входит в первичную структуру отношений мать-ребёнок в качестве изначального составляющего элемента.
В этом смысле никакое другое наблюдение не может быть лучше, чем случай маленького Ганса, в котором всё действительно начинается с игры между ним и его матерью - видеть, не видеть, подстерегать фаллос, выслеживать его. Подчеркнём, что здесь мы оказываемся в совершенном недоумении относительно того, что можно назвать верованием Ганса. У нас есть полное впечатление, что к моменту начала наблюдения он уже долгое время имеет, как говорится, своё собственное мнение о том, что происходит в реальности. «Я уже думал обо всем этом», «ich hab’ gedacht», -говорит он, когда родители, оказавшись перед внезапным вопросом ребёнка, вынуждены поспешно отвечать так, чтобы увести его в сторону от обсуждения темы.
Хотя воображаемые отношения преимущественно происходят в реакциях измерения видеть и быть видимым, я хочу ещё раз подчеркнуть, насколько важной уже на этом уровне является интерсубъективная артикуляция, которая, как вы увидите, далека от того, чтобы быть дуальной. Отношения, называемые скоптофилическими, заслуживают нашего внимания по той причине, что две противоположные позиции -показывать и показываться - уже отличают их от первичных воображаемых отношений в режиме захваченности, которые мы могли бы обозначить как взаимное противостояние в зрительном поле.
Я продолжительное время настаивал на этом, когда приводил в пример характерные для мира животных дуэли между соперниками в визуальном измерении, в которых мы видим, как животное, будь то ящерица или рыба, оказывается захваченным определённой типичной реакцией, называемой парадом. Между двумя противниками или партнёрами воздвигается некий ансамбль панцирей, знаков, приспособлений визуального захвата одного и другого - и далее, на одном только этом плане визуального противостояния, один другому уступает, он самоустраняется, снижает подвижность и блёкнет в цвете, он сворачивает себя в поле зрения того, кто занял доминантную позицию. Опыт показывает нам, что речь не всегда идёт о доминировании мужской особи над женской, иногда в подобного рода действиях участвуют два самца. То, что возникает в поле визуальной коммуникации, подготавливает и непосредственно продолжается в акте объятия, даже удушения — это захват одного субъекта, в который попадает другой, что позволяет одному субъекту взять верх над другим. Если здесь есть некоторая биологическая или этологическая отсылка, позволяющая нам отметить роль, которую в воображаемых отношениях играет процесс не парада (parade), но спаривания (pariade), то сделана она мной для того, чтобы отчётливо подчеркнуть, насколько эти вещи изначально отличаются от того, что я назвал здесь восприятием ребёнком материнского воображаемого мира. Речь идёт не столько о том, чтобы видеть и быть захваченным чем-то увиденным, но о том, чтобы искать возможность увидеть, выслеживать то, что одновременно и есть, и нет. Такие отношения сориентированы на то, что, присутствуя, остаётся завуалированным, на то, чтобы с помощью уловки обеспечить присутствие вещи, которая и есть, и нет. Воображаемая драма приобретает ещё более сложный смысл, склоняясь к основополагающей ситуации, характер которой мы не можем не признать решающим, - ситуации внезапности (surprise).
Не упускайте двусмысленность этого термина во французском языке. Внезапность (surprise) связана с неожиданностью, например, в смысле: они были застигнуты врасплох (par surprise), когда говорят, например, о внезапных действия вражеских войск. Так же говорится о застигнутой врасплох Диане в кульминационной точке этого мифа, о котором, как вы понимаете, я вспомнил не просто так, поскольку все актеонические отношения, к которым я обращаюсь в конце своего текста Фрейдовская Вещь, La Chose freudienne, основаны на этом принципиальном моменте. Но есть и другой смысл этого слова. Диана застигнута врасплох, но тем не менее она не удивлена (surprise), тогда как удивление, напротив, не обходится без неожиданно сделанного открытия. Те, кто посещает мою презентацию больных, могут вспомнить, как один из наших пациентов, транссексуал, описал нам по-настоящему мучительный характер того болезненного удивления, которое он испытал в тот день, когда, по его словам, он в первый раз увидел сестру обнажённой.
Таким образом, на высшем градусе видеть и быть увиденным воображаемая диалектика достигает степени дать увидеть и удивиться открытию, когда сброшена вуаль. Только эта диалектика позволяет нам понять фундаментальный смысл акта видения. Она имеет принципиальное значение для образования перверсии и является совершенно очевидной в эксгибиционизме. Техника эксгибиционистского акта заключается в том, что субъект показывает, что он обладает именно тем, чего у другого нет. Заявления эксгибициониста позволяют заключить, что с помощью этого разоблачения он не просто старается поймать другого в ловушку визуальной зачарованности, а получает удовольствие от демонстрации другому того, чего тот предположительно не имеет, и одновременно провоцирует у него стыд за эту нехватку.
Именно на этом фоне разыгрываются все отношения Ганса с его матерью. Мать полностью в это вовлечена и с большим благоволением потакает интересу ребёнка к своему телу. Тем не менее она лишается самообладания, проявляет строгость, возражает, даже осуждает эксгибиционизм, когда маленький Ганс требует с её стороны участия в нём. Если воображаемый объект играет здесь принципиально важную роль, то происходит это по той причине, что он уже задействован в диалектике сокрытого и раскрытого (voilement et dévoilement).
Именно на этом повороте мы встречаем маленького Ганса и задаёмся вопросом, почему он формирует свою фобию примерно год спустя после того, как произошли важнейшие в его жизни вещи, а именно: родилась его младшая сестра и случилось
Если здесь есть некоторая биологическая или этологическая отсылка, позволяющая нам отметить роль, которую в воображаемых отношениях играет процесс не парада (parade), но спаривания (pariade), то сделана она мной для того, чтобы отчётливо подчеркнуть, насколько эти вещи изначально отличаются от того, что я назвал здесь восприятием ребёнком материнского воображаемого мира. Речь идёт не столько о том, чтобы видеть и быть захваченным чем-то увиденным, но о том, чтобы искать возможность увидеть, выслеживать то, что одновременно и есть, и нет. Такие отношения сориентированы на то, что, присутствуя, остаётся завуалированным, на то, чтобы с помощью уловки обеспечить присутствие вещи, которая и есть, и нет. Воображаемая драма приобретает ещё более сложный смысл, склоняясь к основополагающей ситуации, характер которой мы не можем не признать решающим, - ситуации внезапности (surprise).
Не упускайте двусмысленность этого термина во французском языке. Внезапность (surprise) связана с неожиданностью, например, в смысле: они были застигнуты врасплох (par surprise), когда говорят, например, о внезапных действия вражеских войск. Так же говорится о застигнутой врасплох Диане в кульминационной точке этого мифа, о котором, как вы понимаете, я вспомнил не просто так, поскольку все актеонические отношения, к которым я обращаюсь в конце своего текста Фрейдовская Вещь, La Chose freudienne, основаны на этом принципиальном моменте. Но есть и другой смысл этого слова. Диана застигнута врасплох, но тем не менее она не удивлена (surprise), тогда как удивление, напротив, не обходится без неожиданно сделанного открытия. Те, кто посещает мою презентацию больных, могут вспомнить, как один из наших пациентов, транссексуал, описал нам по-настоящему мучительный характер того болезненного удивления, которое он испытал в тот день, когда, по его словам, он в первый раз увидел сестру обнажённой.
Таким образом, на высшем градусе видеть и быть увиденным воображаемая диалектика достигает степени дать увидеть и удивиться открытию, когда сброшена вуаль. Только эта диалектика позволяет нам понять фундаментальный смысл акта видения. Она имеет принципиальное значение для образования перверсии и является совершенно очевидной в эксгибиционизме. Техника эксгибиционистского акта заключается в том, что субъект показывает, что он обладает именно тем, чего у другого нет. Заявления эксгибициониста позволяют заключить, что с помощью этого разоблачения он не просто старается поймать другого в ловушку визуальной зачарованности, а получает удовольствие от демонстрации другому того, чего тот предположительно не имеет, и одновременно провоцирует у него стыд за эту нехватку.
Именно на этом фоне разыгрываются все отношения Ганса с его матерью. Мать полностью в это вовлечена и с большим благоволением потакает интересу ребёнка к своему телу. Тем не менее она лишается самообладания, проявляет строгость, возражает, даже осуждает эксгибиционизм, когда маленький Ганс требует с её стороны участия в нём. Если воображаемый объект играет здесь принципиально важную роль, то происходит это по той причине, что он уже задействован в диалектике сокрытого и раскрытого (voilement et dévoilement).
Именно на этом повороте мы встречаем маленького Ганса и задаёмся вопросом, почему он формирует свою фобию примерно год спустя после того, как произошли важнейшие в его жизни вещи, а именно: родилась его младшая сестра и случилось открытие того, что она, и она тоже, является принципиально значимым элементом в отношениях с матерью.
Мы уже отметили, что эта фобия появляется у ребёнка в процессе глубинных изменений всех его отношений с миром, и она нужна, чтобы признать то, что в конце концов должно быть усвоено, к чему порой субъект идёт всю свою жизнь. Речь идёт о признании того, что в привилегированной области мира, в мире ему подобных существуют субъекты, действительно лишённые этих пресловутых воображаемых фаллосов.
Было бы неправильно полагать, что достаточно иметь наукообразное и чётко сформулированное понятие, чтобы субъект принял нечто на веру. Глубинная сложность отношений между мужчиной и женщиной проистекает именно из того, что мы могли бы назвать на своём грубом языке сопротивлением субъектов мужского пола признанию того, что субъекты женского пола действительно кое-чем обделены и тем более того, что они наделены кое-чем другим.
Вот что должно быть чётко сформулировано и на что нам следует опираться в аналитическом опыте. Зачастую именно на этом уровне коренится устойчивое недопонимание, оказывающее влияние на всю концепцию мира субъекта, особенно в части социальных отношений. У субъектов, которые с улыбкой полагают себя прекрасно принимающими реальность, оно порой просто зашкаливает. Затушёвывание этого факта в нашем опыте показывает, насколько мы не способны извлечь пользу даже из самых элементарных терминов фрейдовского учения. Почему это так трудно признать? Возможно, мы доберёмся до ответа к концу нашего семинара в этом году.
Пока же вернёмся к наблюдению за маленьким Гансом и сформулируем, каким образом возникает проблема подобного признания у этого ребёнка. Почему она становится вдруг насущной, хотя до этого момента гораздо важнее было разыгрывать, что это не так? Для нас лишь задним числом проясняется, почему ему было так важно разыгрывать, что это не так.
Рассмотрим также, почему принятие реального лишения - необходимого для создания пригодных для жизни субъекта условий и возможности его интеграции в сексуальную диалектику способом, позволяющим человеческому существу не просто уживаться с ней, но и проживать - происходит лишь через усвоение данности того факта, что мать уже взрослая, что она уже включена в систему символических отношений, куда вписаны сексуальные отношения между людьми. Нужно, чтобы ребёнок сам пошёл по этому пути и испытал кризис Эдипа, в котором принципиальным моментом является кастрация. Именно это показывает пример маленького Ганса, но, может быть, не полностью и не лучшим образом. Возможно, именно в этой неполноте и проявится отчётливее всего принципиальный ход наблюдения.
Если этот анализ имеет особое значение, то потому, что мы непосредственно наблюдаем, как ребёнок совершает переход от воображаемой диалектики интерсубъективной игры с матерью вокруг фаллоса к игре кастрации в отношениях с отцом. Переход осуществляется последовательностью шагов, которые и представляют собой то, что я назвал сфабрикованными маленьким Гансом мифами.
Почему мы настолько отчётливо это видим? Я уже начинал это формулировать и возвращаюсь сейчас к пункту, на котором мы остановились.
открытие того, что она, и она тоже, является принципиально значимым элементом в отношениях с матерью.
Мы уже отметили, что эта фобия появляется у ребёнка в процессе глубинных изменений всех его отношений с миром, и она нужна, чтобы признать то, что в конце концов должно быть усвоено, к чему порой субъект идёт всю свою жизнь. Речь идёт о признании того, что в привилегированной области мира, в мире ему подобных существуют субъекты, действительно лишённые этих пресловутых воображаемых фаллосов.
Было бы неправильно полагать, что достаточно иметь наукообразное и чётко сформулированное понятие, чтобы субъект принял нечто на веру. Глубинная сложность отношений между мужчиной и женщиной проистекает именно из того, что мы могли бы назвать на своём грубом языке сопротивлением субъектов мужского пола признанию того, что субъекты женского пола действительно кое-чем обделены и тем более того, что они наделены кое-чем другим.
Вот что должно быть чётко сформулировано и на что нам следует опираться в аналитическом опыте. Зачастую именно на этом уровне коренится устойчивое недопонимание, оказывающее влияние на всю концепцию мира субъекта, особенно в части социальных отношений. У субъектов, которые с улыбкой полагают себя прекрасно принимающими реальность, оно порой просто зашкаливает. Затушёвывание этого факта в нашем опыте показывает, насколько мы не способны извлечь пользу даже из самых элементарных терминов фрейдовского учения. Почему это так трудно признать? Возможно, мы доберёмся до ответа к концу нашего семинара в этом году.
Пока же вернёмся к наблюдению за маленьким Гансом и сформулируем, каким образом возникает проблема подобного признания у этого ребёнка. Почему она становится вдруг насущной, хотя до этого момента гораздо важнее было разыгрывать, что это не так? Для нас лишь задним числом проясняется, почему ему было так важно разыгрывать, что это не так.
Рассмотрим также, почему принятие реального лишения - необходимого для создания пригодных для жизни субъекта условий и возможности его интеграции в сексуальную диалектику способом, позволяющим человеческому существу не просто уживаться с ней, но и проживать - происходит лишь через усвоение данности того факта, что мать уже взрослая, что она уже включена в систему символических отношений, куда вписаны сексуальные отношения между людьми. Нужно, чтобы ребёнок сам пошёл по этому пути и испытал кризис Эдипа, в котором принципиальным моментом является кастрация. Именно это показывает пример маленького Ганса, но, может быть, не полностью и не лучшим образом. Возможно, именно в этой неполноте и проявится отчётливее всего принципиальный ход наблюдения.
Если этот анализ имеет особое значение, то потому, что мы непосредственно наблюдаем, как ребёнок совершает переход от воображаемой диалектики интерсубъективной игры с матерью вокруг фаллоса к игре кастрации в отношениях с отцом. Переход осуществляется последовательностью шагов, которые и представляют собой то, что я назвал сфабрикованными маленьким Гансом мифами.
Почему мы настолько отчётливо это видим? Я уже начинал это формулировать и возвращаюсь сейчас к пункту, на котором мы остановились. 2
В прошлый раз мы закончили на захватывающей фантазии маленького Ганса о двух жирафах, которая для нашего семинара может стать иллюстрацией перехода от воображаемого к символическому.
Маленький Ганс, прямо как фокусник, буквально показывает нам, что продублированный образ матери, её метонимия - это всего лишь кусок бумаги, смятый жираф, на которого он садится.
Здесь намечается контур основной схемы и находит своё подтверждение то, что мы на правильном пути. Если бы я специально хотел изобрести метафору перехода от воображаемого к символическому, я бы никогда не смог выдумать такую историю о двух жирафах во всех её подробностях, как это сделал маленький Ганс. Речь идёт о трансформации нарисованного образа в скомканный бумажный шарик, представляющий собой чистый символ, элемент, с которым можно обращаться как с таковым. И он усаживается на мать, которая, наконец, сводится к символу, к клочку бумаги - только он Гансу и остаётся, как Ля Шатру его расписка. Конечно, этого недостаточно, иначе бы он полностью исцелился, однако с помощью этого жеста он показывает нам, от чего он отделывается.
Как здесь не заметить, что спонтанные поступки ребёнка являются чем-то гораздо более прямым и жизненным, нежели умственные потуги взрослого существа после долгих лет усиленной кретинизации в процессе получения так называемого образования.
Посмотрим, что происходит, используя нашу таблицу, как если бы мы уже утвердились в своих представлениях. Что означает признать воображаемого отца в качестве того, кто окончательно устанавливает порядок всего мира, то есть определяет, что никто не обладает фаллосом? Это легко понять. Воображаемый отец - это отец всемогущий, основа миропорядка в общепринятой концепции Бога, гарантия универсального порядка в его наиболее массивных и жёстких элементах реальности, именно он - тот, кто всё создал.
Чтобы убедиться, что я сейчас не фабрикую некий смысл, только чтобы оправдать свою таблицу, вам нужно лишь обратиться к случаю маленького Ганса. Маленький Ганс дважды говорит о Боге и делает это очень забавно. Его отец начинает давать ему разъяснения и добивается некоторого улучшения, впрочем, непродолжительного. 15 марта, когда ребёнок выходит из дома и обнаруживает, что на улице чуть меньше, чем обычно, экипажей и лошадей, он говорит: «Как это мило и умно со стороны Бога, что сегодня меньше лошадей».
Что это значит? Мы об этом ничего не знаем. Значит ли это, что сегодня лошади нам не так нужны? Может быть и так, но gescheit в прямом смысле означает не мило, а хитро. Мы склоняемся к предположению, что Бог избавил его от трудностей, однако, поскольку лошадь представляет собой не только трудность, но и существенный элемент, это означает, что он, Ганс, меньше нуждается сегодня в лошадях. Как бы то ни было, Бог является важным пунктом.
Поразительно, что после встречи с Фрейдом - которая произошла 30 марта, сразу же после того, как он скатал из матери бумажный шарик, от чего не получил полного удовлетворения, но всё-таки встал на верный путь - маленький Ганс ещё раз упоминает Бога. Профессор должен был пообщаться с Богом, чтобы узнать у него то, что сказал
2
В прошлый раз мы закончили на захватывающей фантазии маленького Ганса о двух жирафах, которая для нашего семинара может стать иллюстрацией перехода от воображаемого к символическому.
Маленький Ганс, прямо как фокусник, буквально показывает нам, что продублированный образ матери, её метонимия - это всего лишь кусок бумаги, смятый жираф, на которого он садится.
Здесь намечается контур основной схемы и находит своё подтверждение то, что мы на правильном пути. Если бы я специально хотел изобрести метафору перехода от воображаемого к символическому, я бы никогда не смог выдумать такую историю о двух жирафах во всех её подробностях, как это сделал маленький Ганс. Речь идёт о трансформации нарисованного образа в скомканный бумажный шарик, представляющий собой чистый символ, элемент, с которым можно обращаться как с таковым. И он усаживается на мать, которая, наконец, сводится к символу, к клочку бумаги - только он Гансу и остаётся, как Ля Шатру его расписка. Конечно, этого недостаточно, иначе бы он полностью исцелился, однако с помощью этого жеста он показывает нам, от чего он отделывается.
Как здесь не заметить, что спонтанные поступки ребёнка являются чем-то гораздо более прямым и жизненным, нежели умственные потуги взрослого существа после долгих лет усиленной кретинизации в процессе получения так называемого образования.
Посмотрим, что происходит, используя нашу таблицу, как если бы мы уже утвердились в своих представлениях. Что означает признать воображаемого отца в качестве того, кто окончательно устанавливает порядок всего мира, то есть определяет, что никто не обладает фаллосом? Это легко понять. Воображаемый отец - это отец всемогущий, основа миропорядка в общепринятой концепции Бога, гарантия универсального порядка в его наиболее массивных и жёстких элементах реальности, именно он - тот, кто всё создал.
Чтобы убедиться, что я сейчас не фабрикую некий смысл, только чтобы оправдать свою таблицу, вам нужно лишь обратиться к случаю маленького Ганса. Маленький Ганс дважды говорит о Боге и делает это очень забавно. Его отец начинает давать ему разъяснения и добивается некоторого улучшения, впрочем, непродолжительного. 15 марта, когда ребёнок выходит из дома и обнаруживает, что на улице чуть меньше, чем обычно, экипажей и лошадей, он говорит: «Как это мило и умно со стороны Бога, что сегодня меньше лошадей».
Что это значит? Мы об этом ничего не знаем. Значит ли это, что сегодня лошади нам не так нужны? Может быть и так, но gescheit в прямом смысле означает не мило, а хитро. Мы склоняемся к предположению, что Бог избавил его от трудностей, однако, поскольку лошадь представляет собой не только трудность, но и существенный элемент, это означает, что он, Ганс, меньше нуждается сегодня в лошадях. Как бы то ни было, Бог является важным пунктом.
Поразительно, что после встречи с Фрейдом - которая произошла 30 марта, сразу же после того, как он скатал из матери бумажный шарик, от чего не получил полного удовлетворения, но всё-таки встал на верный путь - маленький Ганс ещё раз упоминает Бога. Профессор должен был пообщаться с Богом, чтобы узнать у него то, что сказал Гансу. Фрейд не упустил случая пощекотать своё самолюбие - его это одновременно позабавило и порадовало. Впрочем, он замечает, что, вероятно, сам в чём-то виноват, потому что из-за собственного бахвальства не преминул занять архиважное положение, с высоты которого изрёк: «Задолго до того, как ты родился, я предвидел, что однажды маленький мальчик будет слишком сильно любить свою мать, и из-за этого у него возникнут трудности с отцом».
Поразительно видеть Фрейда в этой позиции, впрочем, мы совершенно не собираемся его в этом упрекать. Долгое время я обращаю ваше внимание на то, что оригинальное, исключительное измерение, характерное для всех анализов Фрейда, основано на его способности предоставить субъекту толкование, которое не является созданной им формулировкой, но чем-то таким, что действительно обнаружено самим субъектом, будучи изречённым его собственными устами, в том измерении подлинной речи, принципиальной важности которого я вас постоянно учу. Нельзя не заметить, насколько интерпретации Фрейда отличаются от всех, на которые мы оказываемся способны после него. Множество раз мы могли убедиться в том, что Фрейд не пользуется заранее установленными правилами, и в данном случае он действительно занял позицию, которую я бы назвал божественной - он обращается к маленькому Гансу с горы Синай, и тот не преминул его в этом упрекнуть.
Хорошо усвойте, что позиция символического отца в том виде, в котором я обозначил её для вас в символической артикуляции, остаётся завуалированной. Занимая позицию абсолютного господина, Фрейд предстаёт не символическим, но воображаемым отцом, именно так Фрейд подходит к ситуации.
Очень важно иметь в виду особенности отношений Ганса с его аналитиком. Если мы хотим понять этот случай, мы должны отчётливо увидеть некоторую исключительную черту, которая выделяет его из всей массы других детских анализов. Ситуация сложилась таким образом, что элемент символического отца чётко отличим от отца реального и, как вы видите, от отца воображаемого. Вот чему - мы удостоверимся в этом позднее - мы обязаны отсутствием феноменов, например, переноса, так же как феноменов повторения; вот почему перед нами здесь чистая топографическая схема функционирования фантазмов.
Интерес этого наблюдения состоит также в том, чтобы показать нам, что Durcharbeitung, в противоположность общепринятым представлениям, не является простой переработкой, в результате которой то, что усвоено только на интеллектуальном уровне, отпечатывается на коже субъекта, пропитывает её. Durcharbeitung становится необходимой, потому что необходимо, чтобы определённое количество циклов, во многих смыслах этого слова, было пройдено, чтобы символизация воображаемого произошла надлежащим образом. Вот почему мы видим маленького Ганса блуждающим в лабиринте, и мы не можем полностью воссоздать траекторию его движения, поскольку отец постоянно сбивает его с пути своими интервенциями. Как подчёркивает Фрейд, отец даёт свои интерпретации не лучшим и не самым внимательным образом. Тем не менее мы видим, что производится и перерабатывается серия мифологических конструкций, в которых следует выделить их действующие составные элементы. И вместо того, чтобы сделать это, прикрываясь уже известными всем терминами, - комплекс этого, комплекс того, анальные отношения, привязанность к матери - попробуем лучше увидеть, какие функции, показательные и
Гансу. Фрейд не упустил случая пощекотать своё самолюбие - его это одновременно позабавило и порадовало. Впрочем, он замечает, что, вероятно, сам в чём-то виноват, потому что из-за собственного бахвальства не преминул занять архиважное положение, с высоты которого изрёк: «Задолго до того, как ты родился, я предвидел, что однажды маленький мальчик будет слишком сильно любить свою мать, и из-за этого у него возникнут трудности с отцом».
Поразительно видеть Фрейда в этой позиции, впрочем, мы совершенно не собираемся его в этом упрекать. Долгое время я обращаю ваше внимание на то, что оригинальное, исключительное измерение, характерное для всех анализов Фрейда, основано на его способности предоставить субъекту толкование, которое не является созданной им формулировкой, но чем-то таким, что действительно обнаружено самим субъектом, будучи изречённым его собственными устами, в том измерении подлинной речи, принципиальной важности которого я вас постоянно учу. Нельзя не заметить, насколько интерпретации Фрейда отличаются от всех, на которые мы оказываемся способны после него. Множество раз мы могли убедиться в том, что Фрейд не пользуется заранее установленными правилами, и в данном случае он действительно занял позицию, которую я бы назвал божественной - он обращается к маленькому Гансу с горы Синай, и тот не преминул его в этом упрекнуть.
Хорошо усвойте, что позиция символического отца в том виде, в котором я обозначил её для вас в символической артикуляции, остаётся завуалированной. Занимая позицию абсолютного господина, Фрейд предстаёт не символическим, но воображаемым отцом, именно так Фрейд подходит к ситуации.
Очень важно иметь в виду особенности отношений Ганса с его аналитиком. Если мы хотим понять этот случай, мы должны отчётливо увидеть некоторую исключительную черту, которая выделяет его из всей массы других детских анализов. Ситуация сложилась таким образом, что элемент символического отца чётко отличим от отца реального и, как вы видите, от отца воображаемого. Вот чему - мы удостоверимся в этом позднее - мы обязаны отсутствием феноменов, например, переноса, так же как феноменов повторения; вот почему перед нами здесь чистая топографическая схема функционирования фантазмов.
Интерес этого наблюдения состоит также в том, чтобы показать нам, что Durcharbeitung, в противоположность общепринятым представлениям, не является простой переработкой, в результате которой то, что усвоено только на интеллектуальном уровне, отпечатывается на коже субъекта, пропитывает её. Durcharbeitung становится необходимой, потому что необходимо, чтобы определённое количество циклов, во многих смыслах этого слова, было пройдено, чтобы символизация воображаемого произошла надлежащим образом. Вот почему мы видим маленького Ганса блуждающим в лабиринте, и мы не можем полностью воссоздать траекторию его движения, поскольку отец постоянно сбивает его с пути своими интервенциями. Как подчёркивает Фрейд, отец даёт свои интерпретации не лучшим и не самым внимательным образом. Тем не менее мы видим, что производится и перерабатывается серия мифологических конструкций, в которых следует выделить их действующие составные элементы. И вместо того, чтобы сделать это, прикрываясь уже известными всем терминами, - комплекс этого, комплекс того, анальные отношения, привязанность к матери - попробуем лучше увидеть, какие функции, показательные и образные элементы они заключают в себе, будучи при этом строго артикулированными так же, как и древние мифы.
По сложившимся правилам игры мы привыкли постоянно уравнивать: это представляет отца, это представляет мать, это представляет пенис. Тогда как каждый элемент - например, лошадь - можно осмыслить только в его отношении с определённым количеством других таких же означающих элементов. Невозможно соотнести лошадь, равно как и любой другой элемент фрейдовской мифологии, с одним единственным значением. Сначала лошадь - это мать, в итоге лошадь - это отец, промежуточно она может становиться и маленьким Гансом, который действительно время от времени играет в лошадь, и пенисом, который в этой истории тоже много раз был представлен лошадью.
То, что наиболее очевидно проявляется на примере лошади, также справедливо для любого существенного элемента, встречаемого в различных способах того изобильного мифотворчества, которому посвящает себя маленький Ганс. Ванна в какой-то момент была матерью, но в итоге становится задом маленького Ганса - это хорошо понимает как Фрейд, так и отец, да и сам маленький Ганс. Вы можете проделать такую же операцию с каждым элементом случая, с укусом, например, или наготой.
Чтобы вы распознали эти вещи, нужно приложить усилия к тому, чтобы на каждом этапе, в каждый момент наблюдения не пытаться что-то сразу понять. Это принципиальный момент метода. Вам следует придерживаться чёткой рекомендации Фрейда, которая дважды прозвучала в этом наблюдении: не понимать сразу. Лучший способ не понимать заключается в том, чтобы делать маленькие карточки и день за днём записывать на листе бумаги элементы, с которыми имеет дело Ганс, которые нужно принимать как таковые, как означающие. Я настоял на важности, например, совсем один с Мариэль. Если вы ничего не понимаете в нём, вы сохраните этот означающий элемент, и когда, скажем, во время еды, к вам вернётся соображение, вы обнаружите, как напрямую этот элемент сочетается с каким-то другим, который вы могли записать на этом же листке. Что означает не просто быть с кем-то, но быть совсем одному с кем-то? Это означает, что там мог быть ещё кто-то другой.
Метод анализа мифов, о котором идёт речь, предоставил нам Месье Клод Леви-Стросс в статье, опубликованной в Journal of American Folklore за октябрь-ноябрь 1955 года под названием Структура мифов. И теперь становится возможным на практике упорядочить все элементы мифа. Мы можем выстроить их в ряд таким образом, чтобы прочитанные в определённом порядке они смогли образовать последовательность. Однако возврат одних и тех же элементов - не простой возврат, но превращённый -требует их организовать, не просто последовательно выстроить в одну линию, но учесть суперпозицию их линий, как в партитуре, и тогда можно увидеть определённую серию последовательностей, читаемых скорее горизонтально, чем вертикально. Миф прочитывается в определённом направлении, но его смысл или его понимание обнаруживается в суперпозиции аналогичных элементов, которые возвращаются в различных формах, каждый раз преображаясь, безусловно, для того, чтобы проделать определённый путь, как говорил Месье де Ля Палис, из пункта отправления в пункт назначения, интегрируя тем самым в единую систему вещи, которые поначалу казались несовместимыми.
Также в истории маленького Ганса мы исходим из того, что в игру матери и ребёнка вторгается реальный пенис, это является нашим отправным пунктом, и в итоге
образные элементы они заключают в себе, будучи при этом строго артикулированными так же, как и древние мифы.
По сложившимся правилам игры мы привыкли постоянно уравнивать: это представляет отца, это представляет мать, это представляет пенис. Тогда как каждый элемент - например, лошадь - можно осмыслить только в его отношении с определённым количеством других таких же означающих элементов. Невозможно соотнести лошадь, равно как и любой другой элемент фрейдовской мифологии, с одним единственным значением. Сначала лошадь - это мать, в итоге лошадь - это отец, промежуточно она может становиться и маленьким Гансом, который действительно время от времени играет в лошадь, и пенисом, который в этой истории тоже много раз был представлен лошадью.
То, что наиболее очевидно проявляется на примере лошади, также справедливо для любого существенного элемента, встречаемого в различных способах того изобильного мифотворчества, которому посвящает себя маленький Ганс. Ванна в какой-то момент была матерью, но в итоге становится задом маленького Ганса - это хорошо понимает как Фрейд, так и отец, да и сам маленький Ганс. Вы можете проделать такую же операцию с каждым элементом случая, с укусом, например, или наготой.
Чтобы вы распознали эти вещи, нужно приложить усилия к тому, чтобы на каждом этапе, в каждый момент наблюдения не пытаться что-то сразу понять. Это принципиальный момент метода. Вам следует придерживаться чёткой рекомендации Фрейда, которая дважды прозвучала в этом наблюдении: не понимать сразу. Лучший способ не понимать заключается в том, чтобы делать маленькие карточки и день за днём записывать на листе бумаги элементы, с которыми имеет дело Ганс, которые нужно принимать как таковые, как означающие. Я настоял на важности, например, совсем один с Мариэль. Если вы ничего не понимаете в нём, вы сохраните этот означающий элемент, и когда, скажем, во время еды, к вам вернётся соображение, вы обнаружите, как напрямую этот элемент сочетается с каким-то другим, который вы могли записать на этом же листке. Что означает не просто быть с кем-то, но быть совсем одному с кем-то? Это означает, что там мог быть ещё кто-то другой.
Метод анализа мифов, о котором идёт речь, предоставил нам Месье Клод Леви-Стросс в статье, опубликованной в Journal of American Folklore за октябрь-ноябрь 1955 года под названием Структура мифов. И теперь становится возможным на практике упорядочить все элементы мифа. Мы можем выстроить их в ряд таким образом, чтобы прочитанные в определённом порядке они смогли образовать последовательность. Однако возврат одних и тех же элементов - не простой возврат, но превращённый -требует их организовать, не просто последовательно выстроить в одну линию, но учесть суперпозицию их линий, как в партитуре, и тогда можно увидеть определённую серию последовательностей, читаемых скорее горизонтально, чем вертикально. Миф прочитывается в определённом направлении, но его смысл или его понимание обнаруживается в суперпозиции аналогичных элементов, которые возвращаются в различных формах, каждый раз преображаясь, безусловно, для того, чтобы проделать определённый путь, как говорил Месье де Ля Палис, из пункта отправления в пункт назначения, интегрируя тем самым в единую систему вещи, которые поначалу казались несовместимыми.
Также в истории маленького Ганса мы исходим из того, что в игру матери и ребёнка вторгается реальный пенис, это является нашим отправным пунктом, и в итоге реальный пенис удаётся удовлетворительным образом разместить, и маленький Ганс может жить дальше без тревоги. Я сказал удовлетворительным, но не должным образом, поскольку может быть найдено ещё более полное решение, и мы ещё в этом убедимся. Комплекс Эдипа у маленького Ганса, по всей видимости, не достигает наиболее полного разрешения. Пройденного пути оказывается достаточно лишь для того, чтобы освободить от вмешательства фобического элемента, сделать необязательным сопряжение воображаемого с тревогой, называемой фобией, и уменьшить её.
На самом деле, если сразу перейти к эпилогу, заметьте, что в момент, когда Фрейд встречает Ганса в возрасте девятнадцати лет, тот ничего не помнит. Ему дают прочитать его историю, которая полностью им забыта. Фрейд замечательно сравнивает это забвение с тем, что происходит, когда субъект просыпается ночью, вспоминает сновидение и даже начинает анализировать его, - нам это знакомо - остаток ночи проводит за этим занятием, а на утро не помнит ничего: ни сновидения, ни анализа. Это весьма заманчивое сравнение, и оно позволяет нам вместе с Фрейдом увидеть, что в случае маленького Ганса - мы можем это ощутимо уловить - нет ничего сопоставимого с интеграцией или реинтеграцией субъектом своей истории, которая воссоздаётся посредством устранения амнезии с сохранением восстановленных элементов. Речь, напротив, идёт о совершенно особой деятельности на рубеже воображаемого и символического, принадлежащей тому же порядку, что и сновидение. В этой мифологизации, о которой говорится на протяжении всего наблюдения, сновидения играют важную экономическую роль, совпадающую по всем пунктам с ролью фантазий, и даже простых игр, и выдумок Ганса.
Не будем забывать, как Фрейд говорит нам мимоходом о том, что, когда Ганс читал свою историю, он всё-таки вспомнил некоторые моменты, по поводу которых сказал: «Действительно, это может иметь ко мне какое-то отношение». Речь шла о том, что касалось младшей сестры, и фантазиях, связанных с отношениями с ней. Родители Ганса на тот момент развелись, что можно было предвидеть ещё по ходу наблюдения, и Ганс не стал от этого более несчастным. Его единственной раной была младшая сестра, с которой он с тех пор был разлучён. Младшей сестре было уготовано судьбой представлять для него удалённый пункт, расположенный по другую сторону того, что доступно в любви, идеализированный объект любви, который в начале нашего анализа нашёл своё выражение в формуле girl = phallus, который в виде характерной черты (у нас нет сомнений на этот счёт, хотя это только прогноз) отметит своим стилем всю любовную жизнь маленького Ганса.
Несмотря на то, что анализ был проведён довольно умело, он не был, похоже, доведён до конца, установившиеся в результате объектные отношения полностью удовлетворительными назвать нельзя.
3
Но вернемся к исходной точке, к Фрейду, к отцу ребёнка, который является его учеником, и к инструкциям Фрейда, который, как мы видели, берёт здесь на себя свою собственную роль. Как он посоветует своему представителю вести себя? Он даст ему две рекомендации.
реальный пенис удаётся удовлетворительным образом разместить, и маленький Ганс может жить дальше без тревоги. Я сказал удовлетворительным, но не должным образом, поскольку может быть найдено ещё более полное решение, и мы ещё в этом убедимся. Комплекс Эдипа у маленького Ганса, по всей видимости, не достигает наиболее полного разрешения. Пройденного пути оказывается достаточно лишь для того, чтобы освободить от вмешательства фобического элемента, сделать необязательным сопряжение воображаемого с тревогой, называемой фобией, и уменьшить её.
На самом деле, если сразу перейти к эпилогу, заметьте, что в момент, когда Фрейд встречает Ганса в возрасте девятнадцати лет, тот ничего не помнит. Ему дают прочитать его историю, которая полностью им забыта. Фрейд замечательно сравнивает это забвение с тем, что происходит, когда субъект просыпается ночью, вспоминает сновидение и даже начинает анализировать его, - нам это знакомо - остаток ночи проводит за этим занятием, а на утро не помнит ничего: ни сновидения, ни анализа. Это весьма заманчивое сравнение, и оно позволяет нам вместе с Фрейдом увидеть, что в случае маленького Ганса - мы можем это ощутимо уловить - нет ничего сопоставимого с интеграцией или реинтеграцией субъектом своей истории, которая воссоздаётся посредством устранения амнезии с сохранением восстановленных элементов. Речь, напротив, идёт о совершенно особой деятельности на рубеже воображаемого и символического, принадлежащей тому же порядку, что и сновидение. В этой мифологизации, о которой говорится на протяжении всего наблюдения, сновидения играют важную экономическую роль, совпадающую по всем пунктам с ролью фантазий, и даже простых игр, и выдумок Ганса.
Не будем забывать, как Фрейд говорит нам мимоходом о том, что, когда Ганс читал свою историю, он всё-таки вспомнил некоторые моменты, по поводу которых сказал: «Действительно, это может иметь ко мне какое-то отношение». Речь шла о том, что касалось младшей сестры, и фантазиях, связанных с отношениями с ней. Родители Ганса на тот момент развелись, что можно было предвидеть ещё по ходу наблюдения, и Ганс не стал от этого более несчастным. Его единственной раной была младшая сестра, с которой он с тех пор был разлучён. Младшей сестре было уготовано судьбой представлять для него удалённый пункт, расположенный по другую сторону того, что доступно в любви, идеализированный объект любви, который в начале нашего анализа нашёл своё выражение в формуле girl = phallus, который в виде характерной черты (у нас нет сомнений на этот счёт, хотя это только прогноз) отметит своим стилем всю любовную жизнь маленького Ганса.
Несмотря на то, что анализ был проведён довольно умело, он не был, похоже, доведён до конца, установившиеся в результате объектные отношения полностью удовлетворительными назвать нельзя.
3
Но вернемся к исходной точке, к Фрейду, к отцу ребёнка, который является его учеником, и к инструкциям Фрейда, который, как мы видели, берёт здесь на себя свою собственную роль. Как он посоветует своему представителю вести себя? Он даст ему две рекомендации. Первая рекомендация состоит из двух частей. Однажды, проинформированный о состоянии маленького Ганса, о его болезненных и тревожных переживаниях, Фрейд советует отцу объяснить ребёнку, что его фобия - это глупость, eine Dummheit, и что эта глупость связана с его желанием сблизиться со своей матерью. Вдобавок Ганса в течение некоторого времени очень занимает Wiwimacher, нужно убедить его, что, по его же собственным представлениям, это не очень правильно, unrecht, и именно из-за этого лошадь такая злая и хочет его укусить.
Это имеет далеко идущие последствия, поскольку прямо выводит на чувство вины. Этот прямой ход, с одной стороны, снижает чувство вины, поскольку ребёнку говорится о том, что это совершенно естественные и нормальные вещи, просто нужно навести в них порядок и немного контролировать, но, с другой стороны, акцентирует элемент запрета, по крайней мере относительного запрета, на мастурбационное удовлетворение. Мы увидим, каким будет результат.
Вторая рекомендация ещё более характерна для языка, который использует Фрейд. Поскольку удовлетворение маленького Ганса очевидно связано с обнаружением - именно по этой причине я принялся за диалектику открытия и внезапного появления -скрытого объекта, то есть пениса или фаллоса матери, то мы отнимем у него это желание, отняв у него предмет удовлетворения: «Вы скажете ему, что этого желанного фаллоса не существует». Буквально так это сформулировано Фрейдом в тексте случая на страницах 263 и 264 в томе Gesammelte Werke. Трудно найти лучший пример вмешательства воображаемого отца. Тот, кто в этом мире распоряжается, сам говорит, что искать здесь нечего.
Здесь же мы видим, насколько реальный отец не способен исполнить подобную функцию. Когда он пытается это сделать, Ганс реагирует совершенно иначе, чем предполагается, так же неожиданно, как это произошло в истории о двух жирафах. Сразу после подтверждения своего согласия с отсутствием фаллоса он придумывает следующую историю, которая просто прекрасна - он рассказывает, что видел, как мать, в рубашке и совсем голая, показала ему свой Wiwimacher, и он сделал то же самое, и свидетелем тому, что сделала мать, была няня, та самая Грета.
Великолепный ответ, идеально соответствующий тому, что я только что постарался для вас сформулировать. Дело именно в том, чтобы увидеть то, что сокрыто как сокрытое. Мать одновременно голая и в рубашке, точно как в истории про Альфонса Алле, который воскликнул, воздев руки к небу: «Посмотрите на эту женщину, она ведь под одеждой голая!» Мысль, чьё значение и влияние на метафизическую подоплёку вашего социального поведения вы, возможно, всё время недооцениваете, хотя для понимания человеческих отношений она принципиально важна.
В этой связи отец маленького Ганса, который не отличается способностью к восприятию чересчур замысловатых идей, говорит ему: «Но возможно либо одно, либо другое - она или голая, или в рубашке». В этом-то и вся проблема, что для Ганса она и голая, и в рубашке, как и для всех вас, здесь находящихся. Отсюда происходит невозможность утвердить порядок мира посредством авторитарного вмешательства. Очевидно, что воображаемый отец существует давно, существовал всегда, это некая форма боженьки, что, однако, не даёт нам способов решить свои проблемы, в чём мы непрерывно на собственном опыте убеждаемся.
Перед этой попыткой отец сделал предварительный подход, постаравшись по совету Фрейда снизить вину маленького Ганса. Он дал разъяснение по поводу связи
Первая рекомендация состоит из двух частей. Однажды, проинформированный о состоянии маленького Ганса, о его болезненных и тревожных переживаниях, Фрейд советует отцу объяснить ребёнку, что его фобия - это глупость, eine Dummheit, и что эта глупость связана с его желанием сблизиться со своей матерью. Вдобавок Ганса в течение некоторого времени очень занимает Wiwimacher, нужно убедить его, что, по его же собственным представлениям, это не очень правильно, unrecht, и именно из-за этого лошадь такая злая и хочет его укусить.
Это имеет далеко идущие последствия, поскольку прямо выводит на чувство вины. Этот прямой ход, с одной стороны, снижает чувство вины, поскольку ребёнку говорится о том, что это совершенно естественные и нормальные вещи, просто нужно навести в них порядок и немного контролировать, но, с другой стороны, акцентирует элемент запрета, по крайней мере относительного запрета, на мастурбационное удовлетворение. Мы увидим, каким будет результат.
Вторая рекомендация ещё более характерна для языка, который использует Фрейд. Поскольку удовлетворение маленького Ганса очевидно связано с обнаружением - именно по этой причине я принялся за диалектику открытия и внезапного появления -скрытого объекта, то есть пениса или фаллоса матери, то мы отнимем у него это желание, отняв у него предмет удовлетворения: «Вы скажете ему, что этого желанного фаллоса не существует». Буквально так это сформулировано Фрейдом в тексте случая на страницах 263 и 264 в томе Gesammelte Werke. Трудно найти лучший пример вмешательства воображаемого отца. Тот, кто в этом мире распоряжается, сам говорит, что искать здесь нечего.
Здесь же мы видим, насколько реальный отец не способен исполнить подобную функцию. Когда он пытается это сделать, Ганс реагирует совершенно иначе, чем предполагается, так же неожиданно, как это произошло в истории о двух жирафах. Сразу после подтверждения своего согласия с отсутствием фаллоса он придумывает следующую историю, которая просто прекрасна - он рассказывает, что видел, как мать, в рубашке и совсем голая, показала ему свой Wiwimacher, и он сделал то же самое, и свидетелем тому, что сделала мать, была няня, та самая Грета.
Великолепный ответ, идеально соответствующий тому, что я только что постарался для вас сформулировать. Дело именно в том, чтобы увидеть то, что сокрыто как сокрытое. Мать одновременно голая и в рубашке, точно как в истории про Альфонса Алле, который воскликнул, воздев руки к небу: «Посмотрите на эту женщину, она ведь под одеждой голая!» Мысль, чьё значение и влияние на метафизическую подоплёку вашего социального поведения вы, возможно, всё время недооцениваете, хотя для понимания человеческих отношений она принципиально важна.
В этой связи отец маленького Ганса, который не отличается способностью к восприятию чересчур замысловатых идей, говорит ему: «Но возможно либо одно, либо другое - она или голая, или в рубашке». В этом-то и вся проблема, что для Ганса она и голая, и в рубашке, как и для всех вас, здесь находящихся. Отсюда происходит невозможность утвердить порядок мира посредством авторитарного вмешательства. Очевидно, что воображаемый отец существует давно, существовал всегда, это некая форма боженьки, что, однако, не даёт нам способов решить свои проблемы, в чём мы непрерывно на собственном опыте убеждаемся.
Перед этой попыткой отец сделал предварительный подход, постаравшись по совету Фрейда снизить вину маленького Ганса. Он дал разъяснение по поводу связи лошади с тем, что запретно - с прикосновением руками к пенису. Мы, через двадцать или тридцать лет, будучи уже другими аналитиками, благодаря полученному опыту хорошо знаем, что эта интерпретация, которая, в общем, имеет своей целью облегчить тревогу от чувства вины, всегда ведёт к неудаче, мы никогда не подходим к вопросу вины напрямую, не подвергая её предварительно метаболическим преобразованиям. Именно это не преминуло произойти с маленьким Гансом. Когда отец говорит ему, что лошадь - лишь пугающая замена того, на что ему не стоит обращать так много внимания, ребёнок, который до этого момента боялся лошадей, теперь обязан на них смотреть.
Задержимся на мгновение, чтобы рассмотреть этот механизм, заслуживающий нашего внимания. Что означает сказанное? То, что ему можно смотреть на лошадей. Как в тоталитарных системах, определяющихся тем, что всё разрешённое является обязательным, он воспринимает это разрешение как приказ. Маленькому Гансу разрешают подходить к лошадям, но в итоге возникает другая проблема: он чувствует себя обязанным на них смотреть.
Что может означать этот механизм, который я свёл к формуле «то, что разрешено, становится обязательным»? Мы имеем некоторый переход - нечто прежде запрещённое становится разрешённым и обязательным. Получается нечто наподобие механизма, сохраняющего в другой форме право на то, что было запрещено. Другими словами, то, на что сейчас следует смотреть, и есть то самое, на что прежде смотреть не следовало.
Что касается лошади, то мы уже знаем, что она кое-что защищает, поскольку фобия представляет собой форпост, защиту от тревоги. Лошадь отмечает собой предел, порог - это суть её функции. С другой стороны, возникает новый элемент, который путает субъекту карты, а именно реальный пенис. Говорит ли это о том, что лошадь является реальным пенисом? Определённо, нет. В дальнейшем большое количество примеров подтвердит вам, что лошадь очень далека от того, чтобы быть реальным пенисом, поскольку в преобразованиях мифологии Ганса она становится также и матерью, и отцом, и самим маленьким Гансом при случае. Обратимся здесь к важному понятию, обладающему символической функцией, которое я развивал на семинаре в позапрошлом году, опираясь на игру слов Ангелуса Силезиуса Ort - Wort, и скажем, что речь идёт о том месте, где, рискуя спровоцировать страх и тревогу, и должен расположиться реальный пенис.
Вместе с этим первым вкладом отца, пока ещё мало обнадёживающим, мы всё-таки замечаем у ребёнка появление означающей структуры. Она противостоит императивным вмешательствам отца, но будет тем не менее реагировать на интерпретации, пусть даже такие неуклюжие и путанные, порождая в ответ серию мифических образований, которые посредством ряда трансформаций мало-помалу интегрируют в систему Ганса новый элемент, выталкивающий его за пределы интерсубъективных уловок, в ходе которых Ганс застаёт врасплох, даёт застать врасплох себя самого, представляет отсутствующим и в то же время, по правилам этой игры, всегда присутствующим первый элемент своих отношений с матерью - тот третий, фаллический, объект, который в конечном итоге должен быть сам по себе интегрирован. Этот новый и неудобный элемент, с некоторого времени вступивший в игру, представляет собой, как вы знаете, его собственный пенис, его реальный пенис с его собственными реакциями, которые грозят разрушить всё в целом. Это явно и есть тот элемент, что привносит в серию воображаемых созданий Ганса беспорядок и смуту.
лошади с тем, что запретно - с прикосновением руками к пенису. Мы, через двадцать или тридцать лет, будучи уже другими аналитиками, благодаря полученному опыту хорошо знаем, что эта интерпретация, которая, в общем, имеет своей целью облегчить тревогу от чувства вины, всегда ведёт к неудаче, мы никогда не подходим к вопросу вины напрямую, не подвергая её предварительно метаболическим преобразованиям. Именно это не преминуло произойти с маленьким Гансом. Когда отец говорит ему, что лошадь - лишь пугающая замена того, на что ему не стоит обращать так много внимания, ребёнок, который до этого момента боялся лошадей, теперь обязан на них смотреть.
Задержимся на мгновение, чтобы рассмотреть этот механизм, заслуживающий нашего внимания. Что означает сказанное? То, что ему можно смотреть на лошадей. Как в тоталитарных системах, определяющихся тем, что всё разрешённое является обязательным, он воспринимает это разрешение как приказ. Маленькому Гансу разрешают подходить к лошадям, но в итоге возникает другая проблема: он чувствует себя обязанным на них смотреть.
Что может означать этот механизм, который я свёл к формуле «то, что разрешено, становится обязательным»? Мы имеем некоторый переход - нечто прежде запрещённое становится разрешённым и обязательным. Получается нечто наподобие механизма, сохраняющего в другой форме право на то, что было запрещено. Другими словами, то, на что сейчас следует смотреть, и есть то самое, на что прежде смотреть не следовало.
Что касается лошади, то мы уже знаем, что она кое-что защищает, поскольку фобия представляет собой форпост, защиту от тревоги. Лошадь отмечает собой предел, порог - это суть её функции. С другой стороны, возникает новый элемент, который путает субъекту карты, а именно реальный пенис. Говорит ли это о том, что лошадь является реальным пенисом? Определённо, нет. В дальнейшем большое количество примеров подтвердит вам, что лошадь очень далека от того, чтобы быть реальным пенисом, поскольку в преобразованиях мифологии Ганса она становится также и матерью, и отцом, и самим маленьким Гансом при случае. Обратимся здесь к важному понятию, обладающему символической функцией, которое я развивал на семинаре в позапрошлом году, опираясь на игру слов Ангелуса Силезиуса Ort - Wort, и скажем, что речь идёт о том месте, где, рискуя спровоцировать страх и тревогу, и должен расположиться реальный пенис.
Вместе с этим первым вкладом отца, пока ещё мало обнадёживающим, мы всё-таки замечаем у ребёнка появление означающей структуры. Она противостоит императивным вмешательствам отца, но будет тем не менее реагировать на интерпретации, пусть даже такие неуклюжие и путанные, порождая в ответ серию мифических образований, которые посредством ряда трансформаций мало-помалу интегрируют в систему Ганса новый элемент, выталкивающий его за пределы интерсубъективных уловок, в ходе которых Ганс застаёт врасплох, даёт застать врасплох себя самого, представляет отсутствующим и в то же время, по правилам этой игры, всегда присутствующим первый элемент своих отношений с матерью - тот третий, фаллический, объект, который в конечном итоге должен быть сам по себе интегрирован. Этот новый и неудобный элемент, с некоторого времени вступивший в игру, представляет собой, как вы знаете, его собственный пенис, его реальный пенис с его собственными реакциями, которые грозят разрушить всё в целом. Это явно и есть тот элемент, что привносит в серию воображаемых созданий Ганса беспорядок и смуту. Поскольку сегодня 3 апреля, перейдём сразу же к событиям 3 апреля 1908 года, когда отец и ребёнок обсуждают, глядя в окно, происходящее во дворе напротив. Во дворе напротив уже задействованы означающие элементы, которые первыми поддержат Ганса в его проблеме и с помощью которых он создаст свою первую мифическую конструкцию «под знаком средства передвижения», как говорит нам Фрейд.
Вы помните, что он постоянно видит лошадей и движение экипажей, из которых разгружают вещи, видит детей, забирающихся на тюки, и так далее. Чему всё это послужит? Можете ли вы представить, что имело место загодя обеспеченное вековечным воображаемым отцом соответствие между средствами передвижения в эпоху правления императора Франца-Иосифа в Вене в период до 1914 года и влечениями, природными тенденциями, возникающими в установленном в процессе инстинктивного развития порядке? Дело обстоит совершенно противоположным образом. Эти элементы уже располагают своим местом в порядке реальности, но ребёнок пользуется ими как элементами, необходимыми для того, чтобы разыграть свои перестановки.
Я всегда возвращаюсь к тому, что использование означающего можно осмыслить, только если исходить из этого - только если принять в качестве основополагающей игры означающего перестановку. Какими бы цивилизованными и образованными вы ни были, ваша неуклюжесть в обыденной жизни, многообразие возможных перестановок ставит вас неизменно в тупик. Знаете, у меня есть галстук, у которого одна сторона немного светлее другой, и чтобы завязать его так, чтобы более светлая сторона оказалась лицевой, а более тёмная - обратной, мне необходимо мысленно просчитать перестановку, и я всегда ошибаюсь.
Порядок перестановок - вот что Ганс задействует в своих построениях. Не пытайтесь сразу понять, что означает лошадь, и экипаж, и маленький Ганс верхом, и разгрузка. Маленький Ганс хочет подняться в экипаж, но он боится. Чего он боится? Что экипаж тронется до того, как он сойдет на перрон. Не стоит поспешно отвечать: «Мы знаем, что он боится разлучиться с матерью», - маленький Ганс вас сразу разубедит. Он говорит: «Если я не успею сойти, я возьму извозчика и вернусь». Он прекрасно ориентируется в реальности. Соответственно, дело в другом. Важнее тот факт, что в экипаже он находится перед лицом чего-то, от чего тот может отделиться, по отношению к чему тот может переместиться.
Когда вы распознаете этот элемент, вы сможете его обнаружить в массе эпизодов случая маленького Ганса, например в его гораздо более поздней фантазии о поездке в Гмунден, где он с отцом также поднимается в поезд, а потом они не успевают одеться, чтобы с него сойти. Будет и много других, таких как одна из последних фантазий маленького Ганса, датированная 22-ым апреля, в которой он в совершенно голом виде торжественно посажен ямщиком в экипаж, не запряжённый лошадьми, проводит в нём ночь, чтобы наутро продолжить своё путешествие на том же самом экипаже, заплатив пятьдесят тысяч флоринов ямщику. Вы не можете пройти мимо очевидного сходства между этими моментами из разных фантазий маленького Ганса.
В этом же ключе вы можете рассмотреть фантазию о смелой и прекрасной маленькой Анне, где Ганс путешествует в экипаже, очень похожем на все предыдущие, поскольку он также запряжён вызывающими тревогу лошадьми. В рамках этого первого
Поскольку сегодня 3 апреля, перейдём сразу же к событиям 3 апреля 1908 года, когда отец и ребёнок обсуждают, глядя в окно, происходящее во дворе напротив. Во дворе напротив уже задействованы означающие элементы, которые первыми поддержат Ганса в его проблеме и с помощью которых он создаст свою первую мифическую конструкцию «под знаком средства передвижения», как говорит нам Фрейд.
Вы помните, что он постоянно видит лошадей и движение экипажей, из которых разгружают вещи, видит детей, забирающихся на тюки, и так далее. Чему всё это послужит? Можете ли вы представить, что имело место загодя обеспеченное вековечным воображаемым отцом соответствие между средствами передвижения в эпоху правления императора Франца-Иосифа в Вене в период до 1914 года и влечениями, природными тенденциями, возникающими в установленном в процессе инстинктивного развития порядке? Дело обстоит совершенно противоположным образом. Эти элементы уже располагают своим местом в порядке реальности, но ребёнок пользуется ими как элементами, необходимыми для того, чтобы разыграть свои перестановки.
Я всегда возвращаюсь к тому, что использование означающего можно осмыслить, только если исходить из этого - только если принять в качестве основополагающей игры означающего перестановку. Какими бы цивилизованными и образованными вы ни были, ваша неуклюжесть в обыденной жизни, многообразие возможных перестановок ставит вас неизменно в тупик. Знаете, у меня есть галстук, у которого одна сторона немного светлее другой, и чтобы завязать его так, чтобы более светлая сторона оказалась лицевой, а более тёмная - обратной, мне необходимо мысленно просчитать перестановку, и я всегда ошибаюсь.
Порядок перестановок - вот что Ганс задействует в своих построениях. Не пытайтесь сразу понять, что означает лошадь, и экипаж, и маленький Ганс верхом, и разгрузка. Маленький Ганс хочет подняться в экипаж, но он боится. Чего он боится? Что экипаж тронется до того, как он сойдет на перрон. Не стоит поспешно отвечать: «Мы знаем, что он боится разлучиться с матерью», - маленький Ганс вас сразу разубедит. Он говорит: «Если я не успею сойти, я возьму извозчика и вернусь». Он прекрасно ориентируется в реальности. Соответственно, дело в другом. Важнее тот факт, что в экипаже он находится перед лицом чего-то, от чего тот может отделиться, по отношению к чему тот может переместиться.
Когда вы распознаете этот элемент, вы сможете его обнаружить в массе эпизодов случая маленького Ганса, например в его гораздо более поздней фантазии о поездке в Гмунден, где он с отцом также поднимается в поезд, а потом они не успевают одеться, чтобы с него сойти. Будет и много других, таких как одна из последних фантазий маленького Ганса, датированная 22-ым апреля, в которой он в совершенно голом виде торжественно посажен ямщиком в экипаж, не запряжённый лошадьми, проводит в нём ночь, чтобы наутро продолжить своё путешествие на том же самом экипаже, заплатив пятьдесят тысяч флоринов ямщику. Вы не можете пройти мимо очевидного сходства между этими моментами из разных фантазий маленького Ганса.
В этом же ключе вы можете рассмотреть фантазию о смелой и прекрасной маленькой Анне, где Ганс путешествует в экипаже, очень похожем на все предыдущие, поскольку он также запряжён вызывающими тревогу лошадьми. В рамках этого первого мифа, который мы можем назвать мифом об экипаже, Анна поедет верхом на одной из лошадей.
Вы пытаетесь понять, как это связано, - именно об этом идёт речь, мы постоянно говорим о лошади, но она может быть с экипажем или без - каким образом различные означающие элементы, и ямщики, и оказавшийся закреплённым в некотором плане экипаж, получают разные значения по ходу развития сюжета. Вы пытаетесь понять, что в этом является наиболее важным и что влияет на продвижение Ганса. Играет ли свою рольозначающее, как я показал это в своём Семинаре «Об украденном письме», или дело в чём-то другом? Или это перемещение означающего элемента на различных персон, которые оказываются в его тени и в его распоряжении? Не связан ли прогресс с кружением означающего вокруг различных персон, к которым субъект испытывает интерес, и которые вовлечены в перестановочный механизм? Или прогресс состоит в чём-то противоположном? В данном случае для нас не ясно, в чём может заключаться прогресс, если только это не прогресс в порядке означающего.
Можно сказать, что в окружающей Ганса реальности нет ни одного элемента, с которым он был бы не в силах справиться; в этом наблюдении нет и следа того, что можно было бы назвать регрессией, и если вы полагаете, что регрессия имеет место, когда Ганс создаёт невообразимую фантасмагорию lumpf, то вы глубоко заблуждаетесь - это потрясающий мифический розыгрыш, не имеющий никакого отношения к регрессии. От начала и до конца наблюдения маленький Ганс непоколебимо защищает, если можно так выразиться, своё право на мастурбацию. Если есть нечто, в целом характеризующее прогресс маленького Ганса, то это именно его неуклонность - Фрейд также это подчёркивает. Как раз потому, что генитальный элемент у такого субъекта действительно прочный, настоящий, укоренённый, очень сильный, и возникает у него не истерия, а фобия. Это очень чётко сформулировано в наблюдении.
Мы постараемся разобрать это в следующий раз. Мы увидим, что маленький Ганс использует лишь один миф как единственный элемент алфавита, чтобы решить свои проблемы, то есть чтобы перейти от фаллического восприятия отношений со своей матерью к кастрированному восприятию взаимосвязей с родительской четой в целом. В наблюдении описана история с ванной и гаечным ключом, которая целиком вращается вокруг того, что я назвал логической функцией сфабрикованных деталей. Нельзя не отметить манеру, в которой этот ребёнок применяет в качестве логических инструментов элементы, сгруппированные вокруг изощрённых способов человеческой адаптации. Среди таких противопоставляемых друг другу элементов находятся, например, то, что укоренилось или принадлежит по природе, то продырявленное, тот страшный полюс, перед которым замирает охваченный страхом ребёнок, с одной стороны, и то, что прикручено, прижато, как в другом мифе о ванной и кране, с помощью плоскогубцев, с другой.
Весь прогресс, достигнутый Гансом в процессе наблюдения, прослеживается во всех подробностях в этой мифологической структуризации, то есть в использовании воображаемых элементов для исчерпания определённого количества операций символического обмена. Именно это сделает ненужным тот подающий сигнал о пределе пороговый элемент, ту первую символическую структуризацию реальности, которой и была фобия.
3 апреля 1957
мифа, который мы можем назвать мифом об экипаже, Анна поедет верхом на одной из лошадей.
Вы пытаетесь понять, как это связано, - именно об этом идёт речь, мы постоянно говорим о лошади, но она может быть с экипажем или без - каким образом различные означающие элементы, и ямщики, и оказавшийся закреплённым в некотором плане экипаж, получают разные значения по ходу развития сюжета. Вы пытаетесь понять, что в этом является наиболее важным и что влияет на продвижение Ганса. Играет ли свою рольозначающее, как я показал это в своём Семинаре «Об украденном письме», или дело в чём-то другом? Или это перемещение означающего элемента на различных персон, которые оказываются в его тени и в его распоряжении? Не связан ли прогресс с кружением означающего вокруг различных персон, к которым субъект испытывает интерес, и которые вовлечены в перестановочный механизм? Или прогресс состоит в чём-то противоположном? В данном случае для нас не ясно, в чём может заключаться прогресс, если только это не прогресс в порядке означающего.
Можно сказать, что в окружающей Ганса реальности нет ни одного элемента, с которым он был бы не в силах справиться; в этом наблюдении нет и следа того, что можно было бы назвать регрессией, и если вы полагаете, что регрессия имеет место, когда Ганс создаёт невообразимую фантасмагорию lumpf, то вы глубоко заблуждаетесь - это потрясающий мифический розыгрыш, не имеющий никакого отношения к регрессии. От начала и до конца наблюдения маленький Ганс непоколебимо защищает, если можно так выразиться, своё право на мастурбацию. Если есть нечто, в целом характеризующее прогресс маленького Ганса, то это именно его неуклонность - Фрейд также это подчёркивает. Как раз потому, что генитальный элемент у такого субъекта действительно прочный, настоящий, укоренённый, очень сильный, и возникает у него не истерия, а фобия. Это очень чётко сформулировано в наблюдении.
Мы постараемся разобрать это в следующий раз. Мы увидим, что маленький Ганс использует лишь один миф как единственный элемент алфавита, чтобы решить свои проблемы, то есть чтобы перейти от фаллического восприятия отношений со своей матерью к кастрированному восприятию взаимосвязей с родительской четой в целом. В наблюдении описана история с ванной и гаечным ключом, которая целиком вращается вокруг того, что я назвал логической функцией сфабрикованных деталей. Нельзя не отметить манеру, в которой этот ребёнок применяет в качестве логических инструментов элементы, сгруппированные вокруг изощрённых способов человеческой адаптации. Среди таких противопоставляемых друг другу элементов находятся, например, то, что укоренилось или принадлежит по природе, то продырявленное, тот страшный полюс, перед которым замирает охваченный страхом ребёнок, с одной стороны, и то, что прикручено, прижато, как в другом мифе о ванной и кране, с помощью плоскогубцев, с другой.
Весь прогресс, достигнутый Гансом в процессе наблюдения, прослеживается во всех подробностях в этой мифологической структуризации, то есть в использовании воображаемых элементов для исчерпания определённого количества операций символического обмена. Именно это сделает ненужным тот подающий сигнал о пределе пороговый элемент, ту первую символическую структуризацию реальности, которой и была фобия.
3 апреля 1957

 Впрочем, следует отметить, что по ходу наблюдения Фрейд, как и отец, пребывает в сомнениях, противоречивом понимании и даже в замешательстве по поводу интерпретации некоторых элементов. Взрослые, как оказывается, совершенно напрасно давят на ребёнка, предлагая ему разнообразные эквиваленты и всевозможные решения, и получают от него только уклончивые ответы, намёки и отговорки. Иногда возникает впечатление, что ребёнок в некотором смысле потешается над ними.
Вообще говоря, это не вызывает сомнений. Пародийный характер некоторых выдумок ребёнка налицо. В первую очередь мне приходит в голову всё то, что касается сочинённого Гансом настолько шикарного, настолько богатого, насыщенного юмористическими элементами мифа об аисте - он заходит, снимает свою шляпу, достаёт ключ из кармана и т.д. Эта настолько карикатурная пародия неизменно поражает наблюдателей.
Следует ли в таком случае поставить вопрос о недостаточности или даже незавершённости наблюдения? Совершенно наоборот, в нашей перспективе это приобретает значение, находит своё место и ведёт в самую сердцевину вопроса. Эти двусмысленности представляют собой характерную для наблюдения наглядную фазу, путь, следуя которому мы можем найти способ для осмысления того, о чём идёт речь в фобии, настолько же простой, насколько и насыщенной, с одной стороны, и с другой стороны, в самой по себе аналитической работе. Будучи фрейдовским, то есть вдумчивым, наблюдение этого случая наилучшим образом иллюстрирует тот факт, что означающее как таковое отличается от означаемого.
Строение симптоматического означающего по самой природе своей таково, что в процессе развития и эволюции оно покрывает множество самых разнообразных означаемых. В этом состоит не просто его природа, но его функция.
Означающий аппарат случая как совокупность означающих элементов, представленный нам в этом фрагменте наблюдения, таков, что, если мы не хотим, чтобы это наблюдение оставалось для нас загадкой, нам придется следовать ряду правил. Действительно, не понятно, почему путаным или даже провальным считается наблюдение именно этого случая, а не наблюдения того или иного автора, на которые мы привыкли ссылаться. Тем не менее нас не может не поражать произвольный, требовательный, систематический характер аналитических интерпретаций, особенно тех, которые получает ребёнок. Свидетельство этому здесь перед нами именно по причине поразительного богатства и сложности наблюдения и благодаря тому, что предоставленное нам в регистре произведённых образований отличается редкостным изобилием. Попав в это измерение, определённо ощущаешь, как легко в нём можно заблудиться. Вот почему я хотел бы предложить вам по этому поводу правила, которые могут быть сформулированы приблизительно в следующем виде.
Эти правила, будь то анализ ребёнка или взрослого, касаются всякого элемента, который мы можем рассматривать как означающее в том смысле, которого мы здесь придерживаемся, то есть речь может идти об объекте, отношении, симптоматическом акте независимо от того, насколько они просты или запутаны.
Подумайте о первом появлении лошади. Это происходит через некоторое время после того, как у ребёнка возникает тревога. Лошадь играет здесь роль, которую следует определить и которая уже весьма отчётливо отмечена диалектическим характером. Это достаточно ощутимо в следующих обстоятельствах. Тревога возникает, когда уходит мать, именно в тот момент ребёнок боится, что в комнату войдёт лошадь. Но с другой
Впрочем, следует отметить, что по ходу наблюдения Фрейд, как и отец, пребывает в сомнениях, противоречивом понимании и даже в замешательстве по поводу интерпретации некоторых элементов. Взрослые, как оказывается, совершенно напрасно давят на ребёнка, предлагая ему разнообразные эквиваленты и всевозможные решения, и получают от него только уклончивые ответы, намёки и отговорки. Иногда возникает впечатление, что ребёнок в некотором смысле потешается над ними.
Вообще говоря, это не вызывает сомнений. Пародийный характер некоторых выдумок ребёнка налицо. В первую очередь мне приходит в голову всё то, что касается сочинённого Гансом настолько шикарного, настолько богатого, насыщенного юмористическими элементами мифа об аисте - он заходит, снимает свою шляпу, достаёт ключ из кармана и т.д. Эта настолько карикатурная пародия неизменно поражает наблюдателей.
Следует ли в таком случае поставить вопрос о недостаточности или даже незавершённости наблюдения? Совершенно наоборот, в нашей перспективе это приобретает значение, находит своё место и ведёт в самую сердцевину вопроса. Эти двусмысленности представляют собой характерную для наблюдения наглядную фазу, путь, следуя которому мы можем найти способ для осмысления того, о чём идёт речь в фобии, настолько же простой, насколько и насыщенной, с одной стороны, и с другой стороны, в самой по себе аналитической работе. Будучи фрейдовским, то есть вдумчивым, наблюдение этого случая наилучшим образом иллюстрирует тот факт, что означающее как таковое отличается от означаемого.
Строение симптоматического означающего по самой природе своей таково, что в процессе развития и эволюции оно покрывает множество самых разнообразных означаемых. В этом состоит не просто его природа, но его функция.
Означающий аппарат случая как совокупность означающих элементов, представленный нам в этом фрагменте наблюдения, таков, что, если мы не хотим, чтобы это наблюдение оставалось для нас загадкой, нам придется следовать ряду правил. Действительно, не понятно, почему путаным или даже провальным считается наблюдение именно этого случая, а не наблюдения того или иного автора, на которые мы привыкли ссылаться. Тем не менее нас не может не поражать произвольный, требовательный, систематический характер аналитических интерпретаций, особенно тех, которые получает ребёнок. Свидетельство этому здесь перед нами именно по причине поразительного богатства и сложности наблюдения и благодаря тому, что предоставленное нам в регистре произведённых образований отличается редкостным изобилием. Попав в это измерение, определённо ощущаешь, как легко в нём можно заблудиться. Вот почему я хотел бы предложить вам по этому поводу правила, которые могут быть сформулированы приблизительно в следующем виде.
Эти правила, будь то анализ ребёнка или взрослого, касаются всякого элемента, который мы можем рассматривать как означающее в том смысле, которого мы здесь придерживаемся, то есть речь может идти об объекте, отношении, симптоматическом акте независимо от того, насколько они просты или запутаны.
Подумайте о первом появлении лошади. Это происходит через некоторое время после того, как у ребёнка возникает тревога. Лошадь играет здесь роль, которую следует определить и которая уже весьма отчётливо отмечена диалектическим характером. Это достаточно ощутимо в следующих обстоятельствах. Тревога возникает, когда уходит мать, именно в тот момент ребёнок боится, что в комнату войдёт лошадь. Но с другой стороны, кто входит в комнату? Он сам, маленький Ганс. То есть имеет место очень противоречивое двойственное отношение, которое посредством чувственной тональности тревоги связано с функцией матери, с одной стороны, но и с маленьким Гансом посредством его движения и его действия, с другой. Таким образом, лошадь с момента своего появления нагружена глубокой двусмысленностью. Это уже знак, который, как типичное означающее, годится на всё. В наблюдении случая маленького Ганса это обнаруживается на каждом шагу.
Итак, мы устанавливаем следующее правило: никакой означающий элемент, объект, отношение, симптоматический акт, например, в неврозе не может рассматриваться как имеющий одно единственное значение.
Это является следствием того, что касается темы текущего года. Означающий элемент не является эквивалентом какого бы то ни было объекта или отношения и даже действия из числа принадлежащих нашему регистру воображаемого, на который опирается понятие объектных отношений в том виде, в котором оно применяется сейчас, подразумевая нормирование, прогресс в жизни субъекта, генетическую предопределённость и целесообразность развития. Безусловно, это понятие, расположенное в регистре воображаемого, не лишено смысла, но оно преподносит неразрешимые противоречия, когда мы пытаемся его как-то артикулировать. Мне достаточно прочитать вам отрывки из двух сборников, вышедших в начале этого года, чтобы вам показалось, будто я их высмеиваю. Противоречия в заигрывании с этим понятием бросаются в глаза с тех пор, как, полагаясь на идею развития, его стараются вписать в порядок прегенитальных отношений, которые генетализируются.
Таким образом, если мы следуем нашему золотому правилу, опирающемуся на представление о структуре символической деятельности, означающие элементы изначально следует определять в их отношениях с другими означающими элементами. Именно это даёт основания для предпринятого нами сближения с недавно появившейся теорией мифа.
Той, которая чрезвычайно точно соответствует нашему способу иметь дело с фактами и артикулировать наблюдения. Чем руководствуется Месье Леви-Стросс в своей статье в Journal of American Folklore? С помощью чего раскрывается представление о структурном изучении мифа в его тексте? С помощью заимствованного у одного из его товарищей, Хокарта, замечания о том, что если и есть нечто такое, что необходимо пересмотреть в первую очередь, то это сама по себе позиция, которая сохраняется на протяжении многих лет в угоду соблюдению некоей антиинтеллектуальной гигиены, состоящей в отказе от психологических интерпретаций в предположительно интеллектуальной области в пользу их размещения в поле, определяемом как аффективное. «В этой позиции, - категорически заявляет этот автор, - к присущим психологической школе заблуждениям ... добавляется также ошибочное суждение о том, что запутанные эмоции могут порождать ясные идеи».
То, что здесь названо психологической школой, пытается найти источник мифологии в своеобразной общечеловеческой философской константе. Мало того, она совершает ошибку, пытаясь вывести из этого источника чётко определённые и ясно очерченные идеи, с которыми мы всегда имеем дело как в мифах, так и в симптоматических образованиях. Она возводит к смутному импульсу то, что чаще всего выражается пациентом в чётко артикулированной форме. В этой артикуляции и заключается парадокс феномена и представляет его нам в паразитарном виде. Нужно
стороны, кто входит в комнату? Он сам, маленький Ганс. То есть имеет место очень противоречивое двойственное отношение, которое посредством чувственной тональности тревоги связано с функцией матери, с одной стороны, но и с маленьким Гансом посредством его движения и его действия, с другой. Таким образом, лошадь с момента своего появления нагружена глубокой двусмысленностью. Это уже знак, который, как типичное означающее, годится на всё. В наблюдении случая маленького Ганса это обнаруживается на каждом шагу.
Итак, мы устанавливаем следующее правило: никакой означающий элемент, объект, отношение, симптоматический акт, например, в неврозе не может рассматриваться как имеющий одно единственное значение.
Это является следствием того, что касается темы текущего года. Означающий элемент не является эквивалентом какого бы то ни было объекта или отношения и даже действия из числа принадлежащих нашему регистру воображаемого, на который опирается понятие объектных отношений в том виде, в котором оно применяется сейчас, подразумевая нормирование, прогресс в жизни субъекта, генетическую предопределённость и целесообразность развития. Безусловно, это понятие, расположенное в регистре воображаемого, не лишено смысла, но оно преподносит неразрешимые противоречия, когда мы пытаемся его как-то артикулировать. Мне достаточно прочитать вам отрывки из двух сборников, вышедших в начале этого года, чтобы вам показалось, будто я их высмеиваю. Противоречия в заигрывании с этим понятием бросаются в глаза с тех пор, как, полагаясь на идею развития, его стараются вписать в порядок прегенитальных отношений, которые генетализируются.
Таким образом, если мы следуем нашему золотому правилу, опирающемуся на представление о структуре символической деятельности, означающие элементы изначально следует определять в их отношениях с другими означающими элементами. Именно это даёт основания для предпринятого нами сближения с недавно появившейся теорией мифа.
Той, которая чрезвычайно точно соответствует нашему способу иметь дело с фактами и артикулировать наблюдения. Чем руководствуется Месье Леви-Стросс в своей статье в Journal of American Folklore? С помощью чего раскрывается представление о структурном изучении мифа в его тексте? С помощью заимствованного у одного из его товарищей, Хокарта, замечания о том, что если и есть нечто такое, что необходимо пересмотреть в первую очередь, то это сама по себе позиция, которая сохраняется на протяжении многих лет в угоду соблюдению некоей антиинтеллектуальной гигиены, состоящей в отказе от психологических интерпретаций в предположительно интеллектуальной области в пользу их размещения в поле, определяемом как аффективное. «В этой позиции, - категорически заявляет этот автор, - к присущим психологической школе заблуждениям ... добавляется также ошибочное суждение о том, что запутанные эмоции могут порождать ясные идеи».
То, что здесь названо психологической школой, пытается найти источник мифологии в своеобразной общечеловеческой философской константе. Мало того, она совершает ошибку, пытаясь вывести из этого источника чётко определённые и ясно очерченные идеи, с которыми мы всегда имеем дело как в мифах, так и в симптоматических образованиях. Она возводит к смутному импульсу то, что чаще всего выражается пациентом в чётко артикулированной форме. В этой артикуляции и заключается парадокс феномена и представляет его нам в паразитарном виде. Нужно лишь не путать его с игрой разума, с потоком дедуктивных умозаключений. Оценить его можно, таким образом, лишь в давно преодолённой перспективе бредовой рационализации, например, или симптома. Наша перспектива, напротив, даёт нам представление о том, что субъект вовлекается в игру означающего, которая уводит его далеко за пределы того, что он может постичь интеллектуально, но у игры этой есть тем не менее свои правила.
Я хотел бы показать вам это с помощью образа. Когда маленький Ганс мало-помалу выводит на наше обозрение свои фантазмы, что мы видим в нашей перспективе, стоит лишь нам открыть глаза? Когда мы приступаем к осмыслению истории развития невроза у субъекта, когда мы рассматриваем, каким способом субъект оказывается в него вовлечён и им захвачен, то, как правило, что мы видим? Субъект не входит в него прямиком, он входит в него, некоторым образом, пятясь назад. С момента, когда тень лошади нависает над маленьким Гансом, он постепенно входит в обстановку, которая упорядочена, организована, выстроена вокруг него, но которая захватывает его гораздо больше, чем развивает. Что поражает, так это артикуляция, в которой этот бред получает своё развитие.
Я сказал бред - и это почти оговорка, случайный ляп, поскольку то, о чём идёт речь, не имеет ничего общего с психозом, но сам термин не является здесь неуместным. Никоим образом нельзя полагаться на то, что может быть выведено из расплывчатого материала эмоций. У нас складывается противоположное впечатление, что умозрительное построение - если мы можем использовать это выражение в случае маленького Ганса - располагает своей собственной мотивацией, своим собственным планом, своей собственной требовательностью. Возможно, это соответствует той или иной потребности или функции, но точно не объясняется какими-то особенными побуждениями, порывами, эмоциональными всплесками, которые можно было бы как-то в этом построении учесть или даже просто выразить. Речь идёт о совершенно другом механизме, понимание которого требует структурного изучения мифа. Его первый шаг состоит в том, чтобы никогда не принимать во внимание какой бы то ни было означающий элемент независимо от возникающих в его окружении других, которые некоторым образом его раскрывают, я имею в виду, развивают его в ряд последовательных противоречий, расположенных, самое главное, в комбинаторном порядке.
То, возникновение чего мы видим у маленького Ганса, не является темами, более или менее соответствующими неким аффективным или психологическим эквивалентам, это группы означающих элементов, последовательно переходящих из одной системы в другую. Возьмём для иллюстрации один пример.
Первые попытки разъяснений отца, направляемые Фрейдом, высвобождают этот особенно болезненный элемент, связанный с лошадью, что вынуждает Ганса обязательно на неё смотреть. В дальнейшем ребёнок испытывает облегчение благодаря запрету, который отец налагает на мастурбацию. Мы вплотную подошли к первой попытке проанализировать озабоченность Ганса по поводу его писающего органа или, как он его называет, Wiwimacher. Путём Aufklarung, реального разъяснения, отец старается наиболее прямо присоединиться к тому единственному, на что, по его мнению, реально опирается тревога ребёнка: он рассказывает ребёнку - и это Фрейд побудил его сделать интерпретацию в таком смысле - что у маленьких девочек этого нет, а у него это есть. Ганс проявляет понимание и в манере, значение которой не
лишь не путать его с игрой разума, с потоком дедуктивных умозаключений. Оценить его можно, таким образом, лишь в давно преодолённой перспективе бредовой рационализации, например, или симптома. Наша перспектива, напротив, даёт нам представление о том, что субъект вовлекается в игру означающего, которая уводит его далеко за пределы того, что он может постичь интеллектуально, но у игры этой есть тем не менее свои правила.
Я хотел бы показать вам это с помощью образа. Когда маленький Ганс мало-помалу выводит на наше обозрение свои фантазмы, что мы видим в нашей перспективе, стоит лишь нам открыть глаза? Когда мы приступаем к осмыслению истории развития невроза у субъекта, когда мы рассматриваем, каким способом субъект оказывается в него вовлечён и им захвачен, то, как правило, что мы видим? Субъект не входит в него прямиком, он входит в него, некоторым образом, пятясь назад. С момента, когда тень лошади нависает над маленьким Гансом, он постепенно входит в обстановку, которая упорядочена, организована, выстроена вокруг него, но которая захватывает его гораздо больше, чем развивает. Что поражает, так это артикуляция, в которой этот бред получает своё развитие.
Я сказал бред - и это почти оговорка, случайный ляп, поскольку то, о чём идёт речь, не имеет ничего общего с психозом, но сам термин не является здесь неуместным. Никоим образом нельзя полагаться на то, что может быть выведено из расплывчатого материала эмоций. У нас складывается противоположное впечатление, что умозрительное построение - если мы можем использовать это выражение в случае маленького Ганса - располагает своей собственной мотивацией, своим собственным планом, своей собственной требовательностью. Возможно, это соответствует той или иной потребности или функции, но точно не объясняется какими-то особенными побуждениями, порывами, эмоциональными всплесками, которые можно было бы как-то в этом построении учесть или даже просто выразить. Речь идёт о совершенно другом механизме, понимание которого требует структурного изучения мифа. Его первый шаг состоит в том, чтобы никогда не принимать во внимание какой бы то ни было означающий элемент независимо от возникающих в его окружении других, которые некоторым образом его раскрывают, я имею в виду, развивают его в ряд последовательных противоречий, расположенных, самое главное, в комбинаторном порядке.
То, возникновение чего мы видим у маленького Ганса, не является темами, более или менее соответствующими неким аффективным или психологическим эквивалентам, это группы означающих элементов, последовательно переходящих из одной системы в другую. Возьмём для иллюстрации один пример.
Первые попытки разъяснений отца, направляемые Фрейдом, высвобождают этот особенно болезненный элемент, связанный с лошадью, что вынуждает Ганса обязательно на неё смотреть. В дальнейшем ребёнок испытывает облегчение благодаря запрету, который отец налагает на мастурбацию. Мы вплотную подошли к первой попытке проанализировать озабоченность Ганса по поводу его писающего органа или, как он его называет, Wiwimacher. Путём Aufklarung, реального разъяснения, отец старается наиболее прямо присоединиться к тому единственному, на что, по его мнению, реально опирается тревога ребёнка: он рассказывает ребёнку - и это Фрейд побудил его сделать интерпретацию в таком смысле - что у маленьких девочек этого нет, а у него это есть. Ганс проявляет понимание и в манере, значение которой не ускользает от Фрейда, подчёркивает, что его «делатель пипи» angewachsen, является вросшим, укоренённым и будет расти вместе с ним.
Не намечается ли здесь нечто такое, что отменяет надобность фобической поддержки? Так бы оно и было, если бы речь шла о реальном, если бы фобия была связана с восприятием реального, которое к этому моменту ещё не было полностью осознано. В этот момент мы и видим появление фантазма о большом жирафе и маленьком жирафе.
Я уже показывал вам, что эта фантазия переносит нас в поле творчества, стиль и символическая взыскательность которого являются совершенно поразительными. Повторю для тех, кто этого не слышал - я придаю большое значение, и так может быть только в нашей перспективе, тому факту, что Ганс не видит никакого противоречия или неоднозначности в том, что один из жирафов, маленький, может быть смятым. И смятый жираф - это жираф, которого можно смять, поскольку он сделан из листа бумаги; Ганс нам это демонстрирует. Это вмешательство подталкивает объект, который до этого момента обладал воображаемой функцией, к его радикальной символизации, осуществляемой самим субъектом, подчёркнутой последующим жестом овладения и захвата, если так можно выразиться, символической позиции - он усаживается на маленького смятого жирафа, невзирая на крики и протесты большого. Это приносит Гансу особое удовлетворение. Это не сновидение, это - фантазия, созданная им самим; Ганс приходит в комнату своих родителей, чтобы рассказать о ней, и развивает её.
В очередной раз мы остаёмся в недоумении относительно того, о чём идёт речь. Становится заметным колебание смысла самого наблюдения. Сначала, в понимании отца, большой и маленький жирафы - это отец и мать. Тем не менее он совершенно определённо говорит, что большой жираф - это мать, а маленький - её член, ihr Glied. Вот другая форма или значение взаимосвязи двух означающих. И это ещё не всё. Отец предпринимает новое вмешательство, говоря матери: «До свидания, большой жираф». Ребёнок, принимавший до сих пор другую интерпретацию, отвечает словами, во французском переводе утрачивающими своё значение - он не говорит: «не так ли?», как это переведено на французский, он говорит: «неправда, Nicht wahr». И добавляет: «Маленький жираф - это Анна?»
Что мы здесь наблюдаем? К чему здесь этот другой способ интерпретации? Действительно ли это Анна и её Krawall? Ведь мы увидим в дальнейшем, что маленькая Анна, похоже, сильно раздражает Ганса своими криками, которые мы, привыкнув быть внимательными к означающим элементам, не можем не идентифицировать с криком матери в этом фантазме.
Что в конечном итоге означает постоянная неоднозначность, в которой мы оказываемся в части интерпретации двух условий символических отношений? Шутка или даже насмешка, которая звучит в словах Ганса «неправда», сама по себе указывает нам на смехотворность усилий отца попарно сопоставить символические термины с воображаемыми или реальными элементами, которые они призваны представить. Отец выбирает ложный путь, и Ганс постоянно ему на это намекает, говорит: «Это не так и никогда так не будет».
Почему так никогда не будет? Потому что это связано с тем, с чем Ганс имеет дело, когда возникает фобия, с тем, с чем ему приходится разбираться в тот момент, о котором мы говорим. Речь идёт именно об образовании особых связей, которые до сих пор не
ускользает от Фрейда, подчёркивает, что его «делатель пипи» angewachsen, является вросшим, укоренённым и будет расти вместе с ним.
Не намечается ли здесь нечто такое, что отменяет надобность фобической поддержки? Так бы оно и было, если бы речь шла о реальном, если бы фобия была связана с восприятием реального, которое к этому моменту ещё не было полностью осознано. В этот момент мы и видим появление фантазма о большом жирафе и маленьком жирафе.
Я уже показывал вам, что эта фантазия переносит нас в поле творчества, стиль и символическая взыскательность которого являются совершенно поразительными. Повторю для тех, кто этого не слышал - я придаю большое значение, и так может быть только в нашей перспективе, тому факту, что Ганс не видит никакого противоречия или неоднозначности в том, что один из жирафов, маленький, может быть смятым. И смятый жираф - это жираф, которого можно смять, поскольку он сделан из листа бумаги; Ганс нам это демонстрирует. Это вмешательство подталкивает объект, который до этого момента обладал воображаемой функцией, к его радикальной символизации, осуществляемой самим субъектом, подчёркнутой последующим жестом овладения и захвата, если так можно выразиться, символической позиции - он усаживается на маленького смятого жирафа, невзирая на крики и протесты большого. Это приносит Гансу особое удовлетворение. Это не сновидение, это - фантазия, созданная им самим; Ганс приходит в комнату своих родителей, чтобы рассказать о ней, и развивает её.
В очередной раз мы остаёмся в недоумении относительно того, о чём идёт речь. Становится заметным колебание смысла самого наблюдения. Сначала, в понимании отца, большой и маленький жирафы - это отец и мать. Тем не менее он совершенно определённо говорит, что большой жираф - это мать, а маленький - её член, ihr Glied. Вот другая форма или значение взаимосвязи двух означающих. И это ещё не всё. Отец предпринимает новое вмешательство, говоря матери: «До свидания, большой жираф». Ребёнок, принимавший до сих пор другую интерпретацию, отвечает словами, во французском переводе утрачивающими своё значение - он не говорит: «не так ли?», как это переведено на французский, он говорит: «неправда, Nicht wahr». И добавляет: «Маленький жираф - это Анна?»
Что мы здесь наблюдаем? К чему здесь этот другой способ интерпретации? Действительно ли это Анна и её Krawall? Ведь мы увидим в дальнейшем, что маленькая Анна, похоже, сильно раздражает Ганса своими криками, которые мы, привыкнув быть внимательными к означающим элементам, не можем не идентифицировать с криком матери в этом фантазме.
Что в конечном итоге означает постоянная неоднозначность, в которой мы оказываемся в части интерпретации двух условий символических отношений? Шутка или даже насмешка, которая звучит в словах Ганса «неправда», сама по себе указывает нам на смехотворность усилий отца попарно сопоставить символические термины с воображаемыми или реальными элементами, которые они призваны представить. Отец выбирает ложный путь, и Ганс постоянно ему на это намекает, говорит: «Это не так и никогда так не будет».
Почему так никогда не будет? Потому что это связано с тем, с чем Ганс имеет дело, когда возникает фобия, с тем, с чем ему приходится разбираться в тот момент, о котором мы говорим. Речь идёт именно об образовании особых связей, которые до сих пор не были им налажены и которые обладают подлинным значением символических отношений.
Человек, будучи человеком, стоит перед лицом проблем, которые как таковые являются проблемами означающих. Означающее, в действительности, вводится в реальное самим своим существованием в качестве означающего, потому что есть слова, которые произносятся, потому что есть фразы, которые формулируются и складываются с помощью переходных элементов, сочетаются связками порядка почему и потому что. Именно существование означающего создаёт в мире человека возможность привнесения нового смысла. Используя термины, которые я недавно применил в конце небольшого введения в первом выпуске Психоанализа, символ придаёт вещам диаметрально противоположный ход, чтобы придавать им другой смысл. Таким образом, это проблемы производства смыслов со всей присущей им свободой и неоднозначностью и всегда открытой возможностью произвольно свести всё на нет.
Острота всегда возникает совершенно произвольно, и Ганс ведёт себя как Шалтай-Болтай в Алисе в Стране Чудес. В любой момент он может сказать: «Всё так, потому что я так постановил, потому что я здесь хозяин». Это не мешает ему полностью посвятить себя решению проблемы, которая возникает у него в связи с необходимостью пересмотреть до сих пор имевший место способ отношений с материнским миром, организованным диалектикой игры в приманку между ним и его матерью, на важность которой я вам уже указывал. У кого из них двоих есть фаллос, а у кого нет? Чего желает мать, когда она желает чего-то, кроме меня, ребёнка? Вот до чего ребёнок дошел и чего он не может больше держаться.
Функция мифа вписывается именно сюда. Как нам показывает структурный анализ, который как раз и является корректным анализом, миф всегда представляет собой попытку сформулировать решение проблемы. Речь идёт о переходе от одного вышеупомянутого способа понимания субъектом взаимоотношений с миром или обществом к другому - трансформация обусловлена появлением новых элементов, вступающих в противоречие с первой формулировкой. Они, некоторым образом, требуют перехода, который как таковой невозможен, который является тупиком. Вот в чём заключается структура мифа.
Так же и Ганс сталкивается с элементами, требующими пересмотра первого наброска символической системы, которая структурировала его отношения с матерью. И это связано с возникновением фобии, но гораздо больше с развитием всего того, что она привносит в качестве означающих элементов. Вот с чем сталкивается Ганс. Вот почему все попытки фрагментарного прочтения, беспрерывно возобновляемые отцом, кажутся ему смехотворными.
2
По поводу стиля ответов Ганса я не могу удержаться, чтобы не обратить ваше внимание на эту невероятную, замечательную работу Фрейда под названием Witz, которая до сих пор незаслуженно мало применяется в нашем опыте.
Это произведение абсолютно не имеет аналогов в том, что можно назвать психологической философией. Я не знаю ни одного произведения, обладающего такой же новизной и чёткой ясностью. Все произведения о смехе, написанные Бергсоном или другими авторами, оказываются никудышно блёклыми по сравнению с этим.
были им налажены и которые обладают подлинным значением символических отношений.
Человек, будучи человеком, стоит перед лицом проблем, которые как таковые являются проблемами означающих. Означающее, в действительности, вводится в реальное самим своим существованием в качестве означающего, потому что есть слова, которые произносятся, потому что есть фразы, которые формулируются и складываются с помощью переходных элементов, сочетаются связками порядка почему и потому что. Именно существование означающего создаёт в мире человека возможность привнесения нового смысла. Используя термины, которые я недавно применил в конце небольшого введения в первом выпуске Психоанализа, символ придаёт вещам диаметрально противоположный ход, чтобы придавать им другой смысл. Таким образом, это проблемы производства смыслов со всей присущей им свободой и неоднозначностью и всегда открытой возможностью произвольно свести всё на нет.
Острота всегда возникает совершенно произвольно, и Ганс ведёт себя как Шалтай-Болтай в Алисе в Стране Чудес. В любой момент он может сказать: «Всё так, потому что я так постановил, потому что я здесь хозяин». Это не мешает ему полностью посвятить себя решению проблемы, которая возникает у него в связи с необходимостью пересмотреть до сих пор имевший место способ отношений с материнским миром, организованным диалектикой игры в приманку между ним и его матерью, на важность которой я вам уже указывал. У кого из них двоих есть фаллос, а у кого нет? Чего желает мать, когда она желает чего-то, кроме меня, ребёнка? Вот до чего ребёнок дошел и чего он не может больше держаться.
Функция мифа вписывается именно сюда. Как нам показывает структурный анализ, который как раз и является корректным анализом, миф всегда представляет собой попытку сформулировать решение проблемы. Речь идёт о переходе от одного вышеупомянутого способа понимания субъектом взаимоотношений с миром или обществом к другому - трансформация обусловлена появлением новых элементов, вступающих в противоречие с первой формулировкой. Они, некоторым образом, требуют перехода, который как таковой невозможен, который является тупиком. Вот в чём заключается структура мифа.
Так же и Ганс сталкивается с элементами, требующими пересмотра первого наброска символической системы, которая структурировала его отношения с матерью. И это связано с возникновением фобии, но гораздо больше с развитием всего того, что она привносит в качестве означающих элементов. Вот с чем сталкивается Ганс. Вот почему все попытки фрагментарного прочтения, беспрерывно возобновляемые отцом, кажутся ему смехотворными.
2
По поводу стиля ответов Ганса я не могу удержаться, чтобы не обратить ваше внимание на эту невероятную, замечательную работу Фрейда под названием Witz, которая до сих пор незаслуженно мало применяется в нашем опыте.
Это произведение абсолютно не имеет аналогов в том, что можно назвать психологической философией. Я не знаю ни одного произведения, обладающего такой же новизной и чёткой ясностью. Все произведения о смехе, написанные Бергсоном или другими авторами, оказываются никудышно блёклыми по сравнению с этим. Witz Фрейда прямо, без обиняков и умозаключений второстепенной важности указывает на суть природы феномена. Так же, как и с первой главы Толкования сновидений, на передний план выведено то, что сновидение - это ребус, но никто этого не усвоил, и данная формула так и остаётся непонятой; аналогичным образом, похоже, не усвоено и то, что анализ остроты начинается с зарисовки анализа феномена сгущения в образовании слова фамиллионерно, основанном на означающем, появившемся в результате взаимного наложения фамильярно и миллионер. Весь последующий ход мысли Фрейда состоит в демонстрации эффекта уничтожения, по-настоящему разрушительного, подрывного характера игры означающего по отношению к тому, что можно назвать реальным существованием. В игре с означающим человек ставит на карту весь свой мир до самого его основания. Суть остроты и то, в чём состоит её отличие от комического, - это её способность играть на заложенной в любом смысле подоплёке бессмыслицы.
Всегда есть возможность поставить под сомнение любой смысл, поскольку он опирается на использование означающего. На самом деле такое использование само по себе глубоко парадоксально по отношению к любому возможному значению, поскольку само такое использование и создаёт то, что оно предназначено поддержать.
Различие между остротой и комическим совершенно ясно, но в своей книге Фрейд касается его лишь во вторую очередь, чтобы по контрасту с остротой выявить суть комического. Сначала он вводит промежуточные понятия и обращает наше внимание на неоднозначное измерение наивного, почему я и делаю это отступление.
С одной стороны, совершенно очевидно, что в проявлениях наивного может возникать комический эффект, который, поскольку он существует, нужно обозначить. Но, с другой стороны, вы прекрасно видите, в какой степени наивное является интерсубъективным. Это мы предполагаем, что ребёнок наивен, но не без того, чтобы не испытывать по этому поводу некоторых сомнений. Почему?
Возьмём пример. Фрейд иллюстрирует наивность историей о детях, которые устраивают большое вечернее мероприятие для взрослых, где обещают показать им маленькую театральную постановку. В кукольном театре начинается действие. Юные авторы и актёры, говорит Фрейд, рассказывают историю о муже и жене, которые живут в полной нищете, они ищут выход из своего положения, и муж отправляется в дальние страны, он возвращается, совершив великие подвиги и очень разбогатев. Он сообщает о своём благосостоянии жене, которая, выслушав его, открывает занавес в глубине сцены и говорит: «Смотри, я тоже хорошо поработала, пока тебя не было». Зрители видят десять кукол, выстроенных в ряд.
Вот такой пример даёт Фрейд для иллюстрации наивного. Чтобы уловить в этом форму комического, можно сказать, что разрядка возникает из-за неожиданной экономии, случившейся благодаря упомянутому рассказу. В других обстоятельствах, прозвучав из менее наивных уст, он вызвал бы напряжение, порождающее, возможно, даже неловкость. Смех вызывает тот факт, что ребёнок, не испытывая по этому поводу ни малейшего неудобства, переступает границу дозволенного. Это становится очень забавным (drôle), принимая во внимание те странные ассоциации, которые могут в связи с этим словом возникать.
Здесь мы находимся в сопредельной комическому зоне. Экономия, о которой идёт речь, касается тонкого процесса преобразования, которому должна была бы подвергнуться эта конструкция для того, чтобы быть высказанной взрослым. Ребёнок
Witz Фрейда прямо, без обиняков и умозаключений второстепенной важности указывает на суть природы феномена. Так же, как и с первой главы Толкования сновидений, на передний план выведено то, что сновидение - это ребус, но никто этого не усвоил, и данная формула так и остаётся непонятой; аналогичным образом, похоже, не усвоено и то, что анализ остроты начинается с зарисовки анализа феномена сгущения в образовании слова фамиллионерно, основанном на означающем, появившемся в результате взаимного наложения фамильярно и миллионер. Весь последующий ход мысли Фрейда состоит в демонстрации эффекта уничтожения, по-настоящему разрушительного, подрывного характера игры означающего по отношению к тому, что можно назвать реальным существованием. В игре с означающим человек ставит на карту весь свой мир до самого его основания. Суть остроты и то, в чём состоит её отличие от комического, - это её способность играть на заложенной в любом смысле подоплёке бессмыслицы.
Всегда есть возможность поставить под сомнение любой смысл, поскольку он опирается на использование означающего. На самом деле такое использование само по себе глубоко парадоксально по отношению к любому возможному значению, поскольку само такое использование и создаёт то, что оно предназначено поддержать.
Различие между остротой и комическим совершенно ясно, но в своей книге Фрейд касается его лишь во вторую очередь, чтобы по контрасту с остротой выявить суть комического. Сначала он вводит промежуточные понятия и обращает наше внимание на неоднозначное измерение наивного, почему я и делаю это отступление.
С одной стороны, совершенно очевидно, что в проявлениях наивного может возникать комический эффект, который, поскольку он существует, нужно обозначить. Но, с другой стороны, вы прекрасно видите, в какой степени наивное является интерсубъективным. Это мы предполагаем, что ребёнок наивен, но не без того, чтобы не испытывать по этому поводу некоторых сомнений. Почему?
Возьмём пример. Фрейд иллюстрирует наивность историей о детях, которые устраивают большое вечернее мероприятие для взрослых, где обещают показать им маленькую театральную постановку. В кукольном театре начинается действие. Юные авторы и актёры, говорит Фрейд, рассказывают историю о муже и жене, которые живут в полной нищете, они ищут выход из своего положения, и муж отправляется в дальние страны, он возвращается, совершив великие подвиги и очень разбогатев. Он сообщает о своём благосостоянии жене, которая, выслушав его, открывает занавес в глубине сцены и говорит: «Смотри, я тоже хорошо поработала, пока тебя не было». Зрители видят десять кукол, выстроенных в ряд.
Вот такой пример даёт Фрейд для иллюстрации наивного. Чтобы уловить в этом форму комического, можно сказать, что разрядка возникает из-за неожиданной экономии, случившейся благодаря упомянутому рассказу. В других обстоятельствах, прозвучав из менее наивных уст, он вызвал бы напряжение, порождающее, возможно, даже неловкость. Смех вызывает тот факт, что ребёнок, не испытывая по этому поводу ни малейшего неудобства, переступает границу дозволенного. Это становится очень забавным (drôle), принимая во внимание те странные ассоциации, которые могут в связи с этим словом возникать.
Здесь мы находимся в сопредельной комическому зоне. Экономия, о которой идёт речь, касается тонкого процесса преобразования, которому должна была бы подвергнуться эта конструкция для того, чтобы быть высказанной взрослым. Ребёнок прямо переносит нас на вершину абсурда. Он производит своего рода наивную остроту. По поводу этой забавной истории, вызывающей смех, поскольку звучит она из уст ребёнка, взрослым остаётся лишь восторженно воскликнуть: «Какие эти детишки всё-таки уморительные!» При всей своей невинности они с первого взгляда находят то, что взрослый может обнаружить, лишь приложив гораздо больше усилий, и что потребует от него дополнительной тонкой обработки для того, чтобы оно могло быть представлено в качестве забавной шутки.
Но у взрослого остаётся сомнение в том, что невежество, которому дано здесь угодить в цель, является полным. Мы рассматриваем эти детские истории, вызывающие некоторый конфуз, провоцирующий наш смех, в перспективе наивного. Но мы хорошо знаем, что не всегда эту наивность следует понимать буквально. Можно быть наивным и можно притворяться наивным. Приписывая детской комедийной игре притворную наивность, мы тем самым наделяем её характером наиболее тенденциозной остроты, Witz, как говорит об этом Фрейд. Достаточно предположения, что эта наивность не полная, чтобы дети одержали верх и стали хозяевами игры.
Другими словами, Фрейд подчёркивает - я прошу вас обратиться к тексту - что острота всегда предполагает участие третьего лица. Некто высказывает остроту кому-то другому. Вне зависимости от того, присутствуют ли в действительности трое, эта троица необходима, чтобы острота вызвала смех, тогда как для комического довольно двоих. Комическое может возникнуть между двумя. Когда один видит, как другой падает, например, или каким-то нарочитым и неуклюжим образом пытается совершить простое действие, уже этого самого по себе может быть достаточно, говорит нам Фрейд. Наивность же, напротив, в большей или меньшей степени предполагает участие, хотя бы и виртуальное, третьего лица. Нет оснований полагать, что помимо этого ребёнка, которого мы считаем наивным, там нет Другого - и вообще-то, он там есть - мы так смеёмся только потому, что подразумеваем его присутствие. В конце концов, вполне может статься, что ребёнок напускает на себя наивный вид, то есть он притворяется.
Это измерение символического является именно тем, что так хорошо ощущается в постоянных розыгрышах и высмеивании отца, которое сопровождает все высказывания Ганса и задаёт им тон.
Отец спрашивает своего сына: «Что ты подумал, когда увидел, как лошадь упала?» Ганс говорит нам, что подхватил глупость именно в связи с этим падением. «Ты подумал, - ведя себя как слон в посудной лавке, говорит отец, - что лошадь умерла». Как позже отмечает отец, сначала Ганс с совершенно серьезным видом отвечает: «Да, я действительно так и подумал». А потом вдруг оживляется, смеётся - это записано - и говорит: «Ну нет, это неправда, это просто шутка, Spass, я её только что придумал».
Наблюдение испещрено маленькими штрихами такого рода. Это был только один пример. После того как Фрейд увлёкся на мгновение трагическим отзвуком падения лошади, - можно ли быть уверенным, что этот трагический отзвук, как и многое другое, имеет место в психологии маленького Ганса? - он переключается на другой, отцовский, образ: отец с усами и в очках, которого он видит на консультации рядом с Гансом. С одной стороны, очень нарядный, забавный маленький весельчак, а рядом с ним -полноватый, щеголеватый, сверкающий своими очками и исполненный добрыми намерениями его отец. Некоторое время Фрейд колеблется. Когда они задаются вопросом пресловутой черноты у лошадиного рта и думают, а что бы это могло значить, Фрейд говорит: «Ну вот, вытянутая голова, это ведь осёл». А когда я говорю осёл...
прямо переносит нас на вершину абсурда. Он производит своего рода наивную остроту. По поводу этой забавной истории, вызывающей смех, поскольку звучит она из уст ребёнка, взрослым остаётся лишь восторженно воскликнуть: «Какие эти детишки всё-таки уморительные!» При всей своей невинности они с первого взгляда находят то, что взрослый может обнаружить, лишь приложив гораздо больше усилий, и что потребует от него дополнительной тонкой обработки для того, чтобы оно могло быть представлено в качестве забавной шутки.
Но у взрослого остаётся сомнение в том, что невежество, которому дано здесь угодить в цель, является полным. Мы рассматриваем эти детские истории, вызывающие некоторый конфуз, провоцирующий наш смех, в перспективе наивного. Но мы хорошо знаем, что не всегда эту наивность следует понимать буквально. Можно быть наивным и можно притворяться наивным. Приписывая детской комедийной игре притворную наивность, мы тем самым наделяем её характером наиболее тенденциозной остроты, Witz, как говорит об этом Фрейд. Достаточно предположения, что эта наивность не полная, чтобы дети одержали верх и стали хозяевами игры.
Другими словами, Фрейд подчёркивает - я прошу вас обратиться к тексту - что острота всегда предполагает участие третьего лица. Некто высказывает остроту кому-то другому. Вне зависимости от того, присутствуют ли в действительности трое, эта троица необходима, чтобы острота вызвала смех, тогда как для комического довольно двоих. Комическое может возникнуть между двумя. Когда один видит, как другой падает, например, или каким-то нарочитым и неуклюжим образом пытается совершить простое действие, уже этого самого по себе может быть достаточно, говорит нам Фрейд. Наивность же, напротив, в большей или меньшей степени предполагает участие, хотя бы и виртуальное, третьего лица. Нет оснований полагать, что помимо этого ребёнка, которого мы считаем наивным, там нет Другого - и вообще-то, он там есть - мы так смеёмся только потому, что подразумеваем его присутствие. В конце концов, вполне может статься, что ребёнок напускает на себя наивный вид, то есть он притворяется.
Это измерение символического является именно тем, что так хорошо ощущается в постоянных розыгрышах и высмеивании отца, которое сопровождает все высказывания Ганса и задаёт им тон.
Отец спрашивает своего сына: «Что ты подумал, когда увидел, как лошадь упала?» Ганс говорит нам, что подхватил глупость именно в связи с этим падением. «Ты подумал, - ведя себя как слон в посудной лавке, говорит отец, - что лошадь умерла». Как позже отмечает отец, сначала Ганс с совершенно серьезным видом отвечает: «Да, я действительно так и подумал». А потом вдруг оживляется, смеётся - это записано - и говорит: «Ну нет, это неправда, это просто шутка, Spass, я её только что придумал».
Наблюдение испещрено маленькими штрихами такого рода. Это был только один пример. После того как Фрейд увлёкся на мгновение трагическим отзвуком падения лошади, - можно ли быть уверенным, что этот трагический отзвук, как и многое другое, имеет место в психологии маленького Ганса? - он переключается на другой, отцовский, образ: отец с усами и в очках, которого он видит на консультации рядом с Гансом. С одной стороны, очень нарядный, забавный маленький весельчак, а рядом с ним -полноватый, щеголеватый, сверкающий своими очками и исполненный добрыми намерениями его отец. Некоторое время Фрейд колеблется. Когда они задаются вопросом пресловутой черноты у лошадиного рта и думают, а что бы это могло значить, Фрейд говорит: «Ну вот, вытянутая голова, это ведь осёл». А когда я говорю осёл... Всё-таки эта неуловимая чернота возле рта лошади представляет собой зияние реального, всегда скрытое за вуалью и за зеркалом, и оно всегда появляется на фоне в виде пятна. Откровенно говоря, возникает своего рода короткое замыкание между божественным характером профессорского превосходства, который не без юмора подчёркивает Фрейд, и тем суждением, которое, судя по признаниям современников, всегда было готово сорваться у Фрейда с губ и которое выражается во французском написании третьей буквой алфавита с последующим троеточием. Ну и м...к, думает Фрейд, говоря себе, что находящееся перед ним пересекается и сходится с интуитивным видением бездонности открывающейся перед ним глубины.
Нет никаких сомнений, что в таких условиях маленький Ганс проявляет себя в игре достаточно хорошо, когда приходит в себя, смеётся и неожиданно отменяет всю длинную тираду, которую сказал отцу. У нас создаётся впечатление, что он говорит ему: «Я вижу, к чему ты клонишь». Поначалу он допускает, что слово «умереть» означает то же, что и «упасть», но потом он говорит себе: «Ты повторяешь мне урок Профессора». Действительно, Профессор намекнул именно на то, что Ганс очень зол на отца и желает ему смерти.
Этот эпизод вносит свой вклад в наши правила. Прежде всего, необходимо воспринимать означающие в их принципиально комбинаторном качестве. Набор означающих вступает в игру, перестраивая реальное, внедряя в него новые комбинаторные отношения. Возвращаясь к нашей отсылке к первому номеру Психоанализа, стоит заметить, что символ функции означающего нашёл своё место на его обложке не просто так. Означающее представляет собой мост в область значений. Следовательно, ситуации не воспроизводятся им, а трансформируются, воссоздаются.
Вот о чём идёт речь, именно поэтому в своих вопросах мы всегда должны ориентироваться на означающее.
3
В разговоре о маленьком Гансе мы должны быть внимательны даже к тому, в какой последовательности он использует означающее, с чего начинает и к чему приходит.
Я имею в виду очерёдность этапов, которые он проходит за первые пять месяцев 1908 года. Мы видим, что маленький Ганс интересуется тем, что загружается и разгружается, или тем, что вдруг более или менее резко приходит в движение и может преждевременно тронуться и отойти от платформы. С этим связаны разнообразные фантазматические означающие элементы, которые вращаются вокруг темы движения, точнее, вокруг того, что в теме движения является модификацией, развитием, вообще-то говоря, мастурбации. Это сущностный элемент структуризации первых фантазмов, затем постепенно возникают другие, среди которых мы не можем не обратить особое внимание на панталоны матери: одни жёлтые, другие чёрные.
За пределами тех перспектив, которые я пытаюсь для вас открыть, этот отрывок необъясним. Отец, так сказать, расписывается в своём бессилии. Что касается Фрейда, то он, хотя и говорит, что отец напрочь затоптал все следы, тем не менее намечает для нас некоторые перспективы в примечании в конце текста. Отец, очевидно, упустил фундаментальную оппозицию, связанную с разницей звука мочеиспускания мужчины и женщины.
Кажется, что Ганс рассказывает об очень непонятных вещах. В процессе носки панталоны чернеют, говорит он, причём из прежних его слов следует, что когда они
Всё-таки эта неуловимая чернота возле рта лошади представляет собой зияние реального, всегда скрытое за вуалью и за зеркалом, и оно всегда появляется на фоне в виде пятна. Откровенно говоря, возникает своего рода короткое замыкание между божественным характером профессорского превосходства, который не без юмора подчёркивает Фрейд, и тем суждением, которое, судя по признаниям современников, всегда было готово сорваться у Фрейда с губ и которое выражается во французском написании третьей буквой алфавита с последующим троеточием. Ну и м...к, думает Фрейд, говоря себе, что находящееся перед ним пересекается и сходится с интуитивным видением бездонности открывающейся перед ним глубины.
Нет никаких сомнений, что в таких условиях маленький Ганс проявляет себя в игре достаточно хорошо, когда приходит в себя, смеётся и неожиданно отменяет всю длинную тираду, которую сказал отцу. У нас создаётся впечатление, что он говорит ему: «Я вижу, к чему ты клонишь». Поначалу он допускает, что слово «умереть» означает то же, что и «упасть», но потом он говорит себе: «Ты повторяешь мне урок Профессора». Действительно, Профессор намекнул именно на то, что Ганс очень зол на отца и желает ему смерти.
Этот эпизод вносит свой вклад в наши правила. Прежде всего, необходимо воспринимать означающие в их принципиально комбинаторном качестве. Набор означающих вступает в игру, перестраивая реальное, внедряя в него новые комбинаторные отношения. Возвращаясь к нашей отсылке к первому номеру Психоанализа, стоит заметить, что символ функции означающего нашёл своё место на его обложке не просто так. Означающее представляет собой мост в область значений. Следовательно, ситуации не воспроизводятся им, а трансформируются, воссоздаются.
Вот о чём идёт речь, именно поэтому в своих вопросах мы всегда должны ориентироваться на означающее.
3
В разговоре о маленьком Гансе мы должны быть внимательны даже к тому, в какой последовательности он использует означающее, с чего начинает и к чему приходит.
Я имею в виду очерёдность этапов, которые он проходит за первые пять месяцев 1908 года. Мы видим, что маленький Ганс интересуется тем, что загружается и разгружается, или тем, что вдруг более или менее резко приходит в движение и может преждевременно тронуться и отойти от платформы. С этим связаны разнообразные фантазматические означающие элементы, которые вращаются вокруг темы движения, точнее, вокруг того, что в теме движения является модификацией, развитием, вообще-то говоря, мастурбации. Это сущностный элемент структуризации первых фантазмов, затем постепенно возникают другие, среди которых мы не можем не обратить особое внимание на панталоны матери: одни жёлтые, другие чёрные.
За пределами тех перспектив, которые я пытаюсь для вас открыть, этот отрывок необъясним. Отец, так сказать, расписывается в своём бессилии. Что касается Фрейда, то он, хотя и говорит, что отец напрочь затоптал все следы, тем не менее намечает для нас некоторые перспективы в примечании в конце текста. Отец, очевидно, упустил фундаментальную оппозицию, связанную с разницей звука мочеиспускания мужчины и женщины.
Кажется, что Ганс рассказывает об очень непонятных вещах. В процессе носки панталоны чернеют, говорит он, причём из прежних его слов следует, что когда они жёлтые, они имеют для него одно значение, а когда чёрные - другое; когда они не на матери, ему хочется плеваться, а когда они на матери, ему не хочется плеваться. Короче говоря, Фрейд настаивает на том, что, без всяких сомнений, Ганс хочет здесь нам показать, что панталоны имеют для него совершенно разное значение в зависимости от того, надеты они на мать или нет.
Таким образом, мы имеем достаточно указаний на то, что сам Фрейд склоняется к полной диалектизации, если можно так выразиться, того, что означает эта пара жёлтых и чёрных панталон. Во время долгого и подробного разговора, в процессе которого маленький Ганс и его отец пытаются сообща разобраться в вопросе, эта пара может пригодиться только для того, чтобы выявить ряд противоположностей, которые следует искать в чертах, которые поначалу могут оказаться незамеченными, по крайней мере они совершенно точно останутся незамеченными, если грубо идентифицировать жёлтые панталоны с мочой, например, а чёрные панталоны - с калом, который в языке Ганса обозначен как loumf.
На самом деле ошибочно идентифицировать loumf с калом, тем самым недооценивая этот важный для Ганса элемент. Мы располагаем свидетельством самого отца о том, что loumf является модификацией слова Strumpf, что означает чёрный чулок, который в другом месте наблюдения ассоциируется маленьким Гансом с чёрной блузкой. Необходимо исходить из сущностной функции одежды, которая заключается в том, чтобы скрывать. Также одежда представляет собой экран, на который проецируется главный объект доэдипального исследования Ганса, а именно отсутствующий фаллос. То, что экскременты могут быть обозначены термином, связанным с символизацией нехватки объекта, достаточно хорошо демонстрирует, что инстинктивные отношения, анальность, задействованная в механизме дефекации, имеет меньшее значение по сравнению с символической функцией, которая здесь снова доминирует.
Символическая функция связана для маленького Ганса с сущностным для него вопрошанием: «Что утрачено? Что может появиться из дыры?» Это первые элементы того, что мы можем назвать символическим инструментарием, и в дальнейшем они будут интегрированы в развитие мифической конструкции маленького Ганса в форме ванны, которую в первом сновидении отвинчивает водопроводчик. Позднее и его зад тоже будет отвинчен, как и его пенис, к большой радости отца, и нужно сказать, что и Фрейда тоже.
Эти люди так торопятся навязать свое представление маленькому Гансу, что не дают ему договорить про отвинчивание своего маленького пениса и сообщают ему единственно возможное объяснение, которое состоит в том, что речь идёт о получении им большего пениса. Маленький Ганс вообще об этом не говорил, и мы не знаем, сказал бы он такое, будь у него возможность. Нет никаких подтверждений того, что он это говорил. Маленький Ганс говорил только о замене своего зада. Вот тот случай, где мы можем затронуть тему контрпереноса. Именно отец выдвигает идею о том, что замена осуществляется для того, чтобы он получил больший пенис. Вот пример ошибки, которую делают постоянно. Со времён Фрейда мы не упускаем возможность увековечить традицию искать в поисках интерпретации какую-то аффективную тенденцию, которая бы сказанное оправдывала и мотивировала, тогда как оно между тем имеет свои собственные законы, свою собственную структуру, свое собственное тяготение и должно быть изучено как таковое.
жёлтые, они имеют для него одно значение, а когда чёрные - другое; когда они не на матери, ему хочется плеваться, а когда они на матери, ему не хочется плеваться. Короче говоря, Фрейд настаивает на том, что, без всяких сомнений, Ганс хочет здесь нам показать, что панталоны имеют для него совершенно разное значение в зависимости от того, надеты они на мать или нет.
Таким образом, мы имеем достаточно указаний на то, что сам Фрейд склоняется к полной диалектизации, если можно так выразиться, того, что означает эта пара жёлтых и чёрных панталон. Во время долгого и подробного разговора, в процессе которого маленький Ганс и его отец пытаются сообща разобраться в вопросе, эта пара может пригодиться только для того, чтобы выявить ряд противоположностей, которые следует искать в чертах, которые поначалу могут оказаться незамеченными, по крайней мере они совершенно точно останутся незамеченными, если грубо идентифицировать жёлтые панталоны с мочой, например, а чёрные панталоны - с калом, который в языке Ганса обозначен как loumf.
На самом деле ошибочно идентифицировать loumf с калом, тем самым недооценивая этот важный для Ганса элемент. Мы располагаем свидетельством самого отца о том, что loumf является модификацией слова Strumpf, что означает чёрный чулок, который в другом месте наблюдения ассоциируется маленьким Гансом с чёрной блузкой. Необходимо исходить из сущностной функции одежды, которая заключается в том, чтобы скрывать. Также одежда представляет собой экран, на который проецируется главный объект доэдипального исследования Ганса, а именно отсутствующий фаллос. То, что экскременты могут быть обозначены термином, связанным с символизацией нехватки объекта, достаточно хорошо демонстрирует, что инстинктивные отношения, анальность, задействованная в механизме дефекации, имеет меньшее значение по сравнению с символической функцией, которая здесь снова доминирует.
Символическая функция связана для маленького Ганса с сущностным для него вопрошанием: «Что утрачено? Что может появиться из дыры?» Это первые элементы того, что мы можем назвать символическим инструментарием, и в дальнейшем они будут интегрированы в развитие мифической конструкции маленького Ганса в форме ванны, которую в первом сновидении отвинчивает водопроводчик. Позднее и его зад тоже будет отвинчен, как и его пенис, к большой радости отца, и нужно сказать, что и Фрейда тоже.
Эти люди так торопятся навязать свое представление маленькому Гансу, что не дают ему договорить про отвинчивание своего маленького пениса и сообщают ему единственно возможное объяснение, которое состоит в том, что речь идёт о получении им большего пениса. Маленький Ганс вообще об этом не говорил, и мы не знаем, сказал бы он такое, будь у него возможность. Нет никаких подтверждений того, что он это говорил. Маленький Ганс говорил только о замене своего зада. Вот тот случай, где мы можем затронуть тему контрпереноса. Именно отец выдвигает идею о том, что замена осуществляется для того, чтобы он получил больший пенис. Вот пример ошибки, которую делают постоянно. Со времён Фрейда мы не упускаем возможность увековечить традицию искать в поисках интерпретации какую-то аффективную тенденцию, которая бы сказанное оправдывала и мотивировала, тогда как оно между тем имеет свои собственные законы, свою собственную структуру, свое собственное тяготение и должно быть изучено как таковое. В заключение скажем, что в мифологическом развитии симптоматической системы означающих всегда нужно иметь в виду одновременно внутреннюю согласованность системы, имеющую место в каждый момент, и её диахронический, то есть прямой ход во времени. Развитие какой-либо мифической системы у невротика - то, что я как-то назвал индивидуальным мифом невротика - представляется как выход, как постепенное развитие ряда опосредований, связанных означающей цепочкой, фундаментальная организация которой представляет собой замкнутый круг. Исходный и конечный пункты тесно связаны, не совпадая, тем не менее, друг с другом. Тупик, всегда расположенный в начале, каким бы он ни был, обнаруживается в конце в обращённой форме, в качестве решения с противоположным знаком. Тупик, с которого мы начинаем, всегда оказывается в конце осуществлённого в означающей системе перемещения.
Я проиллюстрирую это для вас в процессе нашего дальнейшего движения после каникул, исходя из данности, которая предоставлена маленькому Гансу.
Она принята изначально в обманчивых отношениях, в которых поначалу разворачивается игра фаллоса. Этого достаточно, чтобы поддерживать между ним и матерью поступательное движение, целью, намерением, смыслом которого является совершенная идентификация с объектом материнской любви. Тогда и появляется новый элемент.
В этом я согласен с авторами, с отцом Ганса и Фрейдом. Есть проблема, важность которой в развитии ребенка невозможно переоценить, она основана на том, что в воображаемом порядке не предусмотрено, не установлено заранее и никак не организовано ничего такого, что помогло бы субъекту признать факт, с которым он в двух или трёх острых моментах своего детского развития сталкивается - с феноменом роста. Поскольку в плане воображаемого ничто заранее не предустановлено, один самостоятельный, хотя для ребенка тесно связанный в воображении с ростом, феномен привносит существенный элемент расстройства, привносит в тот самый момент, когда ребёнок впервые сталкивается с явлением роста - это феномен эрекции.
Когда во время первых мастурбаций или детских эрекций маленький пенис превращается в большой, это не что иное, как одна из основных тем воображаемых фантазий Алисы в Стране Чудес, что придаёт этому произведениюисключительную ценность для изучения детского воображения. Именно с такого рода проблемой сталкивается Ганс, а именно с необходимостью признания факта существования реального пениса, факта отдельного существования не только пениса, который сам по себе может становиться больше или меньше, но также и пениса, принадлежащего как маленьким, так и большим и взрослым.
Прямо говоря, проблема развития Ганса связана с отсутствием пениса у самого большого и взрослого, то есть у отца. Фобия возникает именно в силу того, что Ганс должен столкнуться со своим Эдиповым комплексом в ситуации, которая требует особенно трудной символизации.
Но то, что фобия развивается так, как это происходит, и анализ производит такое изобилие мифической продукции, указывает нам, самой патологичностью своей обнаруживая норму, на сложность явления, возникающего, когда у ребёнка появляется необходимость интегрировать реальное своей генитальности, а также подчёркивает принципиально символический характер этого переходного момента.
10 апреля 1957
В заключение скажем, что в мифологическом развитии симптоматической системы означающих всегда нужно иметь в виду одновременно внутреннюю согласованность системы, имеющую место в каждый момент, и её диахронический, то есть прямой ход во времени. Развитие какой-либо мифической системы у невротика - то, что я как-то назвал индивидуальным мифом невротика - представляется как выход, как постепенное развитие ряда опосредований, связанных означающей цепочкой, фундаментальная организация которой представляет собой замкнутый круг. Исходный и конечный пункты тесно связаны, не совпадая, тем не менее, друг с другом. Тупик, всегда расположенный в начале, каким бы он ни был, обнаруживается в конце в обращённой форме, в качестве решения с противоположным знаком. Тупик, с которого мы начинаем, всегда оказывается в конце осуществлённого в означающей системе перемещения.
Я проиллюстрирую это для вас в процессе нашего дальнейшего движения после каникул, исходя из данности, которая предоставлена маленькому Гансу.
Она принята изначально в обманчивых отношениях, в которых поначалу разворачивается игра фаллоса. Этого достаточно, чтобы поддерживать между ним и матерью поступательное движение, целью, намерением, смыслом которого является совершенная идентификация с объектом материнской любви. Тогда и появляется новый элемент.
В этом я согласен с авторами, с отцом Ганса и Фрейдом. Есть проблема, важность которой в развитии ребенка невозможно переоценить, она основана на том, что в воображаемом порядке не предусмотрено, не установлено заранее и никак не организовано ничего такого, что помогло бы субъекту признать факт, с которым он в двух или трёх острых моментах своего детского развития сталкивается - с феноменом роста. Поскольку в плане воображаемого ничто заранее не предустановлено, один самостоятельный, хотя для ребенка тесно связанный в воображении с ростом, феномен привносит существенный элемент расстройства, привносит в тот самый момент, когда ребёнок впервые сталкивается с явлением роста - это феномен эрекции.
Когда во время первых мастурбаций или детских эрекций маленький пенис превращается в большой, это не что иное, как одна из основных тем воображаемых фантазий Алисы в Стране Чудес, что придаёт этому произведениюисключительную ценность для изучения детского воображения. Именно с такого рода проблемой сталкивается Ганс, а именно с необходимостью признания факта существования реального пениса, факта отдельного существования не только пениса, который сам по себе может становиться больше или меньше, но также и пениса, принадлежащего как маленьким, так и большим и взрослым.
Прямо говоря, проблема развития Ганса связана с отсутствием пениса у самого большого и взрослого, то есть у отца. Фобия возникает именно в силу того, что Ганс должен столкнуться со своим Эдиповым комплексом в ситуации, которая требует особенно трудной символизации.
Но то, что фобия развивается так, как это происходит, и анализ производит такое изобилие мифической продукции, указывает нам, самой патологичностью своей обнаруживая норму, на сложность явления, возникающего, когда у ребёнка появляется необходимость интегрировать реальное своей генитальности, а также подчёркивает принципиально символический характер этого переходного момента.
10 апреля 1957
 результатом является переориентация означаемого, его новая поляризация или воссоздание вновь после кризиса?
Мы так ставим вопрос, поскольку уверены, что он сам напрашивается быть поставленным именно таким образом. Действительно, если мы обращаем внимание на возбуждение мифотворческой активности у ребёнка или, употребив равнозначный, более распространённый, но менее подходящий термин, на инфантильные сексуальные теории, то именно потому, что и то и другое является не просто разновидностью пустых, бесполезных грёз, но несёт в себе динамический элемент. Вот о чём идёт речь в истории маленького Ганса, без чего это наблюдение не имеет никакого смысла.
В случае маленького Ганса мы должны подойти к этой функции означающего без предвзятых представлений, поскольку это наблюдение в числе прочих является наиболее показательным. Потому что оно осуществляется в чудесный период появления нового, когда, если я могу так выразиться, дух изобретателя и тех, кто за ним следует, ещё не успел обремениться разнообразными табу, ещё не прибегает к ссылкам на реальное с опорой на предрассудки, которые каким-то образом находят поддержку в теоретических положениях минувших дней, поставленных под сомнение и потерявших свою ценность в свете совершившегося открытия. Случай маленького Ганса в своей свежести по-прежнему сохраняет всю свою разоблачающую, я бы даже сказал, взрывную мощь.
В ходе этой сложной эволюции диалог Ганса с отцом неотделим от вышеупомянутого возбуждения мифотворческой активности. Каждое вмешательство отца её стимулирует, подстёгивает, она постоянно возобновляется, вновь разгорается. Но, как недвусмысленно отмечает Фрейд, у неё есть свои законы и свои собственные интересы. Ганс далеко не всегда выдаёт то, и даже всегда далеко не то, чего мы ожидаем. Он высказывает удивительные вещи, которые, хотя Фрейд и говорит нам, что предвидел их достаточно хорошо, во всяком случае, для отца были неожиданностью. Но, кроме этого, Ганс говорит и нечто такое, чего не мог предугадать и сам Фрейд, который не скрывает, что множество элементов так и остаются для него необъяснимыми, не поддающимися интерпретации.
Обязательно ли нам все их интерпретировать? Порой мы оказываемся способны продвинуться чуть дальше в интерпретации, выработанной отцом Ганса вместе с Фрейдом. Но сейчас мы постараемся воссоздать собственные законы притяжения или внутренней связности означающего, сгруппированного вокруг лошади.
Фрейд прямо говорит нам об этом, и мы могли бы поддаться соблазну определить фобию посредством её объекта, в данном случае лошади, если бы не заметили, что лошадь выходит далеко за рамки того, чем является сама по себе. В гораздо большей степени она является чем-то вроде геральдической фигуры, которая обладает преимущественным, центральным положением в целом поле, нагруженном всевозможными импликациями, означающими импликациями прежде всего.
Сейчас нам потребуются некоторые ориентиры, чтобы наметить маршрут предстоящего нам пути.
Мы не изобретаем ничего нового, поскольку Фрейд сам прямо это сформулировал. Этот отрывок идёт следом после первого диалога с отцом, в котором Ганс выводит из фобии то, что я назвал означающими импликациями. Ганс сумел сконструировать фантазию, изрядно наделённую мифическим или даже романтическим аспектом, ибо касалась она не только прошлого, но и того, что он хотел бы с этой лошадью или в связи
результатом является переориентация означаемого, его новая поляризация или воссоздание вновь после кризиса?
Мы так ставим вопрос, поскольку уверены, что он сам напрашивается быть поставленным именно таким образом. Действительно, если мы обращаем внимание на возбуждение мифотворческой активности у ребёнка или, употребив равнозначный, более распространённый, но менее подходящий термин, на инфантильные сексуальные теории, то именно потому, что и то и другое является не просто разновидностью пустых, бесполезных грёз, но несёт в себе динамический элемент. Вот о чём идёт речь в истории маленького Ганса, без чего это наблюдение не имеет никакого смысла.
В случае маленького Ганса мы должны подойти к этой функции означающего без предвзятых представлений, поскольку это наблюдение в числе прочих является наиболее показательным. Потому что оно осуществляется в чудесный период появления нового, когда, если я могу так выразиться, дух изобретателя и тех, кто за ним следует, ещё не успел обремениться разнообразными табу, ещё не прибегает к ссылкам на реальное с опорой на предрассудки, которые каким-то образом находят поддержку в теоретических положениях минувших дней, поставленных под сомнение и потерявших свою ценность в свете совершившегося открытия. Случай маленького Ганса в своей свежести по-прежнему сохраняет всю свою разоблачающую, я бы даже сказал, взрывную мощь.
В ходе этой сложной эволюции диалог Ганса с отцом неотделим от вышеупомянутого возбуждения мифотворческой активности. Каждое вмешательство отца её стимулирует, подстёгивает, она постоянно возобновляется, вновь разгорается. Но, как недвусмысленно отмечает Фрейд, у неё есть свои законы и свои собственные интересы. Ганс далеко не всегда выдаёт то, и даже всегда далеко не то, чего мы ожидаем. Он высказывает удивительные вещи, которые, хотя Фрейд и говорит нам, что предвидел их достаточно хорошо, во всяком случае, для отца были неожиданностью. Но, кроме этого, Ганс говорит и нечто такое, чего не мог предугадать и сам Фрейд, который не скрывает, что множество элементов так и остаются для него необъяснимыми, не поддающимися интерпретации.
Обязательно ли нам все их интерпретировать? Порой мы оказываемся способны продвинуться чуть дальше в интерпретации, выработанной отцом Ганса вместе с Фрейдом. Но сейчас мы постараемся воссоздать собственные законы притяжения или внутренней связности означающего, сгруппированного вокруг лошади.
Фрейд прямо говорит нам об этом, и мы могли бы поддаться соблазну определить фобию посредством её объекта, в данном случае лошади, если бы не заметили, что лошадь выходит далеко за рамки того, чем является сама по себе. В гораздо большей степени она является чем-то вроде геральдической фигуры, которая обладает преимущественным, центральным положением в целом поле, нагруженном всевозможными импликациями, означающими импликациями прежде всего.
Сейчас нам потребуются некоторые ориентиры, чтобы наметить маршрут предстоящего нам пути.
Мы не изобретаем ничего нового, поскольку Фрейд сам прямо это сформулировал. Этот отрывок идёт следом после первого диалога с отцом, в котором Ганс выводит из фобии то, что я назвал означающими импликациями. Ганс сумел сконструировать фантазию, изрядно наделённую мифическим или даже романтическим аспектом, ибо касалась она не только прошлого, но и того, что он хотел бы с этой лошадью или в связи с этой лошадью сделать. Без всяких сомнений, эта фантазия сопровождает и регулирует его тревогу, но также обладает своей собственной конструктивной силой. После разговора Ганса с отцом, к которому мы подошли сейчас, Фрейд обращает внимание на то, что фобия здесь набирает ход, она развивается и обнаруживает различные фазы. Он пишет об этом: «Так мы видим, насколько сильно распространилась эта фобия. Она переходит на лошадь, а также и на экипаж, а также и на то, что лошади падают, и на то, что лошади кусаются, и на лошадей определённой породы, и на телеги, нагруженные или нет», - и так далее и тому подобное, таков тон Фрейда. «Скажем так, все эти особенности, по сути, касаются того, что изначально тревога не имела ничего общего с лошадьми, но была транспонирована на них вторично и закрепилась теперь - не на лошади, но, более точно, на комплексе лошади - на элементах комплекса лошади, которые оказались пригодными для определённых переносов».
Таким образом, Фрейд чётко формулирует, что мы располагаем двумя полюсами. Первым является полюс означающего, он будет служить опорой для всей серии переносов, то есть для переработки означаемого во всевозможных перестановках означающего. В принципе, - мы можем принимать это в качестве рабочей гипотезы до тех пор, пока это будет соответствовать всем условиям нашего опыта, - в итоге означаемое будет отличаться от того, каким было в начале. В означаемом произойдут некоторые перемены. В результате воздействия означающего поле означаемого будет либо реорганизовано, либо некоторым образом расширится.
Почему лошадь? К ней можно многое подверстать. Образ лошади распространён скорее в мифологии, легендах, волшебных сказках, там, где мотивы грёз наиболее устойчивы и непрозрачны. Кошмар на английском звучит как nightmare, что может означать ночная кобыла. Вся книга Месье Джонса о кошмарах основана на этом. Он показывает нам, что неслучайно ночная кобыла является не только устрашающим знаком появления ночной ведьмы, но что ночная кобыла, mare, приходит, чтобы заменить её. Конечно, Джонс по старой доброй привычке рыщет на стороне означаемого, из-за чего приходит к выводу, что всё есть во всём. Нет такого бога ни в античной, ни в современной мифологии, который избежал бы участи в некотором смысле оказаться лошадью. Минерва и Гиппий, Марс, Один, Гермес, Зевс - все имели лошадей, все были лошадьми, каждый был лошадью в этой книге. Исходя из этого, не сложно прийти к тому, что корень MR, от которого во французском языке образованы такие слова, как mère, mara, mer, уже самом по себе включает это значение, найти которое тем более просто, что оно есть повсюду.
Совершенно очевидно, что мы не следуем этим путём. Понятно, что лошадь располагает к проведению подобных аналогий, которые действительно формируют её образ в качестве вместилища, подходящего для символизации природных элементов, выступающих на переднем плане детского беспокойства в тот самый поворотный момент, когда мы видим маленького Ганса. Но мы не станем полагать, что всё объясняется только этим. Я стараюсь акцентировать ваше внимание на том, что всегда и везде опускается. Я подчёркиваю, что в критический момент развития маленького Ганса появляется определённое означающее, исполняющее функцию поляризации, перекристаллизации. Безусловно, это проявляет себя как патология, но тем не менее обладает и структурообразующим значением. С этого момента с помощью лошади начинается разметка внешнего мира сигнальными ориентирами. Я напоминаю вам, что позднее Фрейд, говоря о фобии маленького Ганса, скажет о сигнальной функции
с этой лошадью сделать. Без всяких сомнений, эта фантазия сопровождает и регулирует его тревогу, но также обладает своей собственной конструктивной силой. После разговора Ганса с отцом, к которому мы подошли сейчас, Фрейд обращает внимание на то, что фобия здесь набирает ход, она развивается и обнаруживает различные фазы. Он пишет об этом: «Так мы видим, насколько сильно распространилась эта фобия. Она переходит на лошадь, а также и на экипаж, а также и на то, что лошади падают, и на то, что лошади кусаются, и на лошадей определённой породы, и на телеги, нагруженные или нет», - и так далее и тому подобное, таков тон Фрейда. «Скажем так, все эти особенности, по сути, касаются того, что изначально тревога не имела ничего общего с лошадьми, но была транспонирована на них вторично и закрепилась теперь - не на лошади, но, более точно, на комплексе лошади - на элементах комплекса лошади, которые оказались пригодными для определённых переносов».
Таким образом, Фрейд чётко формулирует, что мы располагаем двумя полюсами. Первым является полюс означающего, он будет служить опорой для всей серии переносов, то есть для переработки означаемого во всевозможных перестановках означающего. В принципе, - мы можем принимать это в качестве рабочей гипотезы до тех пор, пока это будет соответствовать всем условиям нашего опыта, - в итоге означаемое будет отличаться от того, каким было в начале. В означаемом произойдут некоторые перемены. В результате воздействия означающего поле означаемого будет либо реорганизовано, либо некоторым образом расширится.
Почему лошадь? К ней можно многое подверстать. Образ лошади распространён скорее в мифологии, легендах, волшебных сказках, там, где мотивы грёз наиболее устойчивы и непрозрачны. Кошмар на английском звучит как nightmare, что может означать ночная кобыла. Вся книга Месье Джонса о кошмарах основана на этом. Он показывает нам, что неслучайно ночная кобыла является не только устрашающим знаком появления ночной ведьмы, но что ночная кобыла, mare, приходит, чтобы заменить её. Конечно, Джонс по старой доброй привычке рыщет на стороне означаемого, из-за чего приходит к выводу, что всё есть во всём. Нет такого бога ни в античной, ни в современной мифологии, который избежал бы участи в некотором смысле оказаться лошадью. Минерва и Гиппий, Марс, Один, Гермес, Зевс - все имели лошадей, все были лошадьми, каждый был лошадью в этой книге. Исходя из этого, не сложно прийти к тому, что корень MR, от которого во французском языке образованы такие слова, как mère, mara, mer, уже самом по себе включает это значение, найти которое тем более просто, что оно есть повсюду.
Совершенно очевидно, что мы не следуем этим путём. Понятно, что лошадь располагает к проведению подобных аналогий, которые действительно формируют её образ в качестве вместилища, подходящего для символизации природных элементов, выступающих на переднем плане детского беспокойства в тот самый поворотный момент, когда мы видим маленького Ганса. Но мы не станем полагать, что всё объясняется только этим. Я стараюсь акцентировать ваше внимание на том, что всегда и везде опускается. Я подчёркиваю, что в критический момент развития маленького Ганса появляется определённое означающее, исполняющее функцию поляризации, перекристаллизации. Безусловно, это проявляет себя как патология, но тем не менее обладает и структурообразующим значением. С этого момента с помощью лошади начинается разметка внешнего мира сигнальными ориентирами. Я напоминаю вам, что позднее Фрейд, говоря о фобии маленького Ганса, скажет о сигнальной функции лошади. Эти сигнальные ориентиры перестроят для Ганса мир, глубоко прочертив всевозможные границы, свойства и функции которых мы теперь должны понять.
Будучи установленными, эти границы сразу же учреждают, посредством фантазма или желания, это мы ещё увидим, как возможность их преодоления, так и препятствие, запрет, останавливающий субъекта на подступах к пределу. Всё это осуществляется с помощью одного означающего, лошади.
Чтобы понять функцию лошади, не следует искать эквивалента лошади, как если бы ею был сам маленький Ганс, или мать маленького Ганса, или отец маленького Ганса. Последовательно ею становится и всё это, и ещё многие другие вещи. Лошадью может быть всё перечисленное, лошадью может быть всё, что угодно. В целях реструктуризации своего мира маленький Ганс примеривает к нему означающую систему, согласованную с лошадью. В процессе таких последовательно производимых примерок лошадь в тот или иной момент покрывает те или иные основные элементы, образующие мир маленького Ганса, а именно: его отца, его мать, его самого, его младшую сестру Анну, его маленьких друзей, придуманных девочек и многое другое. Функция лошади как средоточия фобии заключается в том, чтобы быть новым термином, которому свойственно быть тёмным, незнамо каким. Эту игру слов можно довести до конца, назвав его в каком-то смысле незначащим (insignifiant). В этом заключается его наиболее принципиальная функция - он играет роль плуга, задача которого заново вспахать поле реального.
Мы можем предположить необходимость этого.
2
До того, как появилась лошадь, у маленького Ганса всё шло очень хорошо.
Лошадь появляется во вторую очередь, вслед за тревогой. Фрейд подчёркивает, что лошадь обретает свою функцию чуть позже появления смутного сигнала тревоги. И проследив до конца за всем, что случится с лошадью по ходу развития этой функции, мы придём к её пониманию.
Итак, ситуация маленького Ганса резко ухудшилась. И почему? До определённого момента, который наступает 5 или 6 февраля, то есть примерно за три месяца до пятого дня рождения Ганса, всё выглядит весьма сносно. Для наиболее точного соответствия терминам разбираемого нами случая скажем, что между ребёнком и его матерью происходит основанная на соблазнении игра в приманку, которая до сих пор вполне всех удовлетворяла. Любовные отношения с матерью вводят ребёнка в динамику воображаемого, в которой он мало-помалу осваивается. Чтобы ввести отношения с грудью под другим углом, представив её как лоно, я бы даже сказал, что он в воображаемое проникает. В начале наблюдения мы постоянно видим игру Ганса с потаённым объектом в режиме его бесконечного сокрытия и раскрытия. Однако на фоне таких отношений с матерью, которые до сих пор были основаны на этой игре, на фоне диалога вокруг символического присутствия и отсутствия происходят некоторые вещи, которые вводят определённые элементы реального. И вот внезапно для Ганса оказываются нарушены все правила игры.
Происходят две вещи. Первая, когда он наиболее готов раскрыть карты и сорвать банк, я имею в виду, по-настоящему доблестно показать наконец свой маленький жезл, его осекают. Мать буквально говорит ему не только о том, что это недопустимо, но и о
лошади. Эти сигнальные ориентиры перестроят для Ганса мир, глубоко прочертив всевозможные границы, свойства и функции которых мы теперь должны понять.
Будучи установленными, эти границы сразу же учреждают, посредством фантазма или желания, это мы ещё увидим, как возможность их преодоления, так и препятствие, запрет, останавливающий субъекта на подступах к пределу. Всё это осуществляется с помощью одного означающего, лошади.
Чтобы понять функцию лошади, не следует искать эквивалента лошади, как если бы ею был сам маленький Ганс, или мать маленького Ганса, или отец маленького Ганса. Последовательно ею становится и всё это, и ещё многие другие вещи. Лошадью может быть всё перечисленное, лошадью может быть всё, что угодно. В целях реструктуризации своего мира маленький Ганс примеривает к нему означающую систему, согласованную с лошадью. В процессе таких последовательно производимых примерок лошадь в тот или иной момент покрывает те или иные основные элементы, образующие мир маленького Ганса, а именно: его отца, его мать, его самого, его младшую сестру Анну, его маленьких друзей, придуманных девочек и многое другое. Функция лошади как средоточия фобии заключается в том, чтобы быть новым термином, которому свойственно быть тёмным, незнамо каким. Эту игру слов можно довести до конца, назвав его в каком-то смысле незначащим (insignifiant). В этом заключается его наиболее принципиальная функция - он играет роль плуга, задача которого заново вспахать поле реального.
Мы можем предположить необходимость этого.
2
До того, как появилась лошадь, у маленького Ганса всё шло очень хорошо.
Лошадь появляется во вторую очередь, вслед за тревогой. Фрейд подчёркивает, что лошадь обретает свою функцию чуть позже появления смутного сигнала тревоги. И проследив до конца за всем, что случится с лошадью по ходу развития этой функции, мы придём к её пониманию.
Итак, ситуация маленького Ганса резко ухудшилась. И почему? До определённого момента, который наступает 5 или 6 февраля, то есть примерно за три месяца до пятого дня рождения Ганса, всё выглядит весьма сносно. Для наиболее точного соответствия терминам разбираемого нами случая скажем, что между ребёнком и его матерью происходит основанная на соблазнении игра в приманку, которая до сих пор вполне всех удовлетворяла. Любовные отношения с матерью вводят ребёнка в динамику воображаемого, в которой он мало-помалу осваивается. Чтобы ввести отношения с грудью под другим углом, представив её как лоно, я бы даже сказал, что он в воображаемое проникает. В начале наблюдения мы постоянно видим игру Ганса с потаённым объектом в режиме его бесконечного сокрытия и раскрытия. Однако на фоне таких отношений с матерью, которые до сих пор были основаны на этой игре, на фоне диалога вокруг символического присутствия и отсутствия происходят некоторые вещи, которые вводят определённые элементы реального. И вот внезапно для Ганса оказываются нарушены все правила игры.
Происходят две вещи. Первая, когда он наиболее готов раскрыть карты и сорвать банк, я имею в виду, по-настоящему доблестно показать наконец свой маленький жезл, его осекают. Мать буквально говорит ему не только о том, что это недопустимо, но и о том, что это Schweinerei, свинство, нечто отвратительное. Мы не можем не признать это одним из важнейших элементов. Фрейд, кстати, подчёркивает, что последствия обесценивающего вмешательства возникают не сразу же, но в последействии. Он подчёркивает буквальный смысл термина задним числом, après coup, который я уже устал повторять, продвигая его на передний план аналитической мысли. Он говорит: nachträgliche Gehorsam, послушание задним числом. Gehör означает слух, внимание. Gehorsam - подчинение, покорность. И такие угрозы, и такой резкий отказ доходят не сразу, но через некоторое время.
Чтобы избежать предвзятости в суждениях, мне следует отметить, что в игре участвует не только означающее, есть также и реальный элемент сравнения, Vergleichung. Фрейд подчёркивает его присутствие, и не только между строк. При помощи элементов, позволяющих сравнить большое и малое, Ганс сумел получить представление о крошечном, смехотворно недостаточном размере своего органа. Именно этот реальный элемент избыточно дополняет, усугубляет тот резкий отказ, который до самого основания потряс структуру его отношений с матерью.
Добавим к этому второй элемент - присутствие младшей сестры Анны. Сначала она рассматривается с различных сторон и под множеством углов, что соответствует разным способам её ассимиляции. Но она всё больше и больше удостоверяет полноценное присутствие другого элемента, который тоже способен поставить под сомнение всю структуру, принципы и основания этой игры, возможно, делая саму её порой бесполезной. Те, кто работает с детьми, прекрасно знают эти распространённые в опыте факты, которые нам постоянно поставляет анализ детей.
В данный момент нас занимает то, каким образом в этих условиях будет действовать означающее. Что здесь нужно предпринять? Следует обратиться к текстам, научиться читать и строить конструкции. Когда вещи перерабатываются с участием тех же самых элементов, но заново, иным способом скомпонованных, нужно уметь фиксировать их такими, какие они есть, без того, чтобы искать отдалённые аналогии и совершать попытки экстраполяции предполагаемых нами внутренних событий субъекта. Это не символ чего-то такого, что ему самому предстоит обдумать, как мы обычно говорим об этом на обыденном языке, а нечто другое - это законы, в которых заявляет о себе структура не реального, а символического, законы, которые друг с другом взаимодействуют. Они действуют совершенно независимо и автономно. По крайней мере некоторое время нам нужно рассматривать их в таком ключе, чтобы увидеть, действительно ли в данном случае имеет место подобная операция перестановки или реорганизации.
Сейчас я собираюсь вам это показать.
22-го марта, как в каждое воскресение - это важный момент - отец привозит своего маленького Ганса к бабушке в Линц. Посмотрите, как выглядит местность.1
1 Ring написано с большой буквы. Это сокращённое название кольцевой улицы Рингштрассе, одной из центральных улиц Вены, которая охватывет центральный район "Внутренний город", по нем. Innere Stadt
том, что это Schweinerei, свинство, нечто отвратительное. Мы не можем не признать это одним из важнейших элементов. Фрейд, кстати, подчёркивает, что последствия обесценивающего вмешательства возникают не сразу же, но в последействии. Он подчёркивает буквальный смысл термина задним числом, après coup, который я уже устал повторять, продвигая его на передний план аналитической мысли. Он говорит: nachträgliche Gehorsam, послушание задним числом. Gehör означает слух, внимание. Gehorsam - подчинение, покорность. И такие угрозы, и такой резкий отказ доходят не сразу, но через некоторое время.
Чтобы избежать предвзятости в суждениях, мне следует отметить, что в игре участвует не только означающее, есть также и реальный элемент сравнения, Vergleichung. Фрейд подчёркивает его присутствие, и не только между строк. При помощи элементов, позволяющих сравнить большое и малое, Ганс сумел получить представление о крошечном, смехотворно недостаточном размере своего органа. Именно этот реальный элемент избыточно дополняет, усугубляет тот резкий отказ, который до самого основания потряс структуру его отношений с матерью.
Добавим к этому второй элемент - присутствие младшей сестры Анны. Сначала она рассматривается с различных сторон и под множеством углов, что соответствует разным способам её ассимиляции. Но она всё больше и больше удостоверяет полноценное присутствие другого элемента, который тоже способен поставить под сомнение всю структуру, принципы и основания этой игры, возможно, делая саму её порой бесполезной. Те, кто работает с детьми, прекрасно знают эти распространённые в опыте факты, которые нам постоянно поставляет анализ детей.
В данный момент нас занимает то, каким образом в этих условиях будет действовать означающее. Что здесь нужно предпринять? Следует обратиться к текстам, научиться читать и строить конструкции. Когда вещи перерабатываются с участием тех же самых элементов, но заново, иным способом скомпонованных, нужно уметь фиксировать их такими, какие они есть, без того, чтобы искать отдалённые аналогии и совершать попытки экстраполяции предполагаемых нами внутренних событий субъекта. Это не символ чего-то такого, что ему самому предстоит обдумать, как мы обычно говорим об этом на обыденном языке, а нечто другое - это законы, в которых заявляет о себе структура не реального, а символического, законы, которые друг с другом взаимодействуют. Они действуют совершенно независимо и автономно. По крайней мере некоторое время нам нужно рассматривать их в таком ключе, чтобы увидеть, действительно ли в данном случае имеет место подобная операция перестановки или реорганизации.
Сейчас я собираюсь вам это показать.
22-го марта, как в каждое воскресение - это важный момент - отец привозит своего маленького Ганса к бабушке в Линц. Посмотрите, как выглядит местность.1
1 Ring написано с большой буквы. Это сокращённое название кольцевой улицы Рингштрассе, одной из центральных улиц Вены, которая охватывет центральный район "Внутренний город", по нем. Innere Stadt
 Центральная часть Вены располагается на берегу одного из рукавов Дуная. Именно в этом, замкнутом в кольцо, районе города находится дом родителей Ганса.
Центральная часть Вены располагается на берегу одного из рукавов Дуная. Именно в этом, замкнутом в кольцо, районе города находится дом родителей Ганса. Возле дома располагается таможня, чуть дальше - знаменитый железнодорожный вокзал, который часто упоминается в наблюдении, а напротив - прекрасный Музей искусства и промышленности, Museum für Kunst und Industrie. Именно на этот вокзал Ганс задумает отправиться, когда достигнет некоторого прогресса и сможет преодолеть пространство перед домом. Всё указывает на то, что дом находится в самом конце улицы
Возле дома располагается таможня, чуть дальше - знаменитый железнодорожный вокзал, который часто упоминается в наблюдении, а напротив - прекрасный Музей искусства и промышленности, Museum für Kunst und Industrie. Именно на этот вокзал Ганс задумает отправиться, когда достигнет некоторого прогресса и сможет преодолеть пространство перед домом. Всё указывает на то, что дом находится в самом конце улицы позади таможни, поскольку однажды упоминается близость путей Nordbahn, которая располагается на другом берегу Дунайского канала. В Вене пересекается несколько железных дорог с востока, запада, севера и юга, и есть несколько небольших локальных железнодорожных маршрутов, в частности, путь, пролегающий в низине, возможно, тот самый, на который сбросилась юная гомосексуальная пациентка, упомянутая мной в начале этого года. В том, что касается приключений маленького Ганса, нас интересуют две дороги. Одна железная дорога, Verbindungsbahn, соединяет Nordbahn с Sudbahnstation. На её путях, неподалёку от своего дома маленький Ганс видит вагонетки, - дрезины, как уточняет Фрейд - на которых он так хочет прокатиться. Эта дорога через некоторое расстояние достигает другого вокзала, и именно по ней поезда, местами уходя под землю, идут в сторону Линца.
В воскресение, 22 марта, отец предлагает маленькому Гансу чуть более сложный, чем обычно, маршрут.
позади таможни, поскольку однажды упоминается близость путей Nordbahn, которая располагается на другом берегу Дунайского канала. В Вене пересекается несколько железных дорог с востока, запада, севера и юга, и есть несколько небольших локальных железнодорожных маршрутов, в частности, путь, пролегающий в низине, возможно, тот самый, на который сбросилась юная гомосексуальная пациентка, упомянутая мной в начале этого года. В том, что касается приключений маленького Ганса, нас интересуют две дороги. Одна железная дорога, Verbindungsbahn, соединяет Nordbahn с Sudbahnstation. На её путях, неподалёку от своего дома маленький Ганс видит вагонетки, - дрезины, как уточняет Фрейд - на которых он так хочет прокатиться. Эта дорога через некоторое расстояние достигает другого вокзала, и именно по ней поезда, местами уходя под землю, идут в сторону Линца.
В воскресение, 22 марта, отец предлагает маленькому Гансу чуть более сложный, чем обычно, маршрут. Они едут по другой дороге Stadtbahn до станции в Шёнбрунне, который представляет собой Венский Версаль. Там есть зоопарк, в который маленький Ганс идёт со своим отцом и который сыграл в этом случае такую важную роль. Это Версаль, но гораздо меньшего масштаба. Возможно, династия Габсбургов была более близкой к своему народу, чем династия Бурбонов: хорошо видно, что даже когда город был много меньше, парк был заключён в тесных границах. После прогулки в парке Шёнбрунна они воспользовались трамваем на паровом ходу, - тогда это был маршрут номер 60 - на котором они приезжают в Линц. Чтобы вы представили порядок величин, от Вены до Линца почти такое же расстояние, как от Парижа до Вокрессона (около 14 км.). Дальше этот трамвай следует до Мауэра и Мёдлинга. Когда они ехали сразу к бабушке, они пользовались трамваем, который идёт намного южнее и приходит прямо в Линц. Есть и другая линия, которая соединяет эту прямую линию со Stadtbahn 'ом. Встречаются они на знаменитом вокзале Санкт-Вейт.
Эта схема позволит нам понять, что говорит маленький Ганс в тот день, когда он в своей фантазии едет из Линца домой на поезде со своей бабушкой, когда он скажет, что
Они едут по другой дороге Stadtbahn до станции в Шёнбрунне, который представляет собой Венский Версаль. Там есть зоопарк, в который маленький Ганс идёт со своим отцом и который сыграл в этом случае такую важную роль. Это Версаль, но гораздо меньшего масштаба. Возможно, династия Габсбургов была более близкой к своему народу, чем династия Бурбонов: хорошо видно, что даже когда город был много меньше, парк был заключён в тесных границах. После прогулки в парке Шёнбрунна они воспользовались трамваем на паровом ходу, - тогда это был маршрут номер 60 - на котором они приезжают в Линц. Чтобы вы представили порядок величин, от Вены до Линца почти такое же расстояние, как от Парижа до Вокрессона (около 14 км.). Дальше этот трамвай следует до Мауэра и Мёдлинга. Когда они ехали сразу к бабушке, они пользовались трамваем, который идёт намного южнее и приходит прямо в Линц. Есть и другая линия, которая соединяет эту прямую линию со Stadtbahn 'ом. Встречаются они на знаменитом вокзале Санкт-Вейт.
Эта схема позволит нам понять, что говорит маленький Ганс в тот день, когда он в своей фантазии едет из Линца домой на поезде со своей бабушкой, когда он скажет, что уехал на поезде с бабушкой, а отец, опоздав на него, садится на второй поезд, прибывающий из Санкт-Вейта. Эта связка образует виртуальную петлю - линии друг с другом не пересекаются, но обе позволяют добраться до Линца.
Несколько дней спустя, во время разговора с отцом о жирафах, маленький Ганс выдаёт нечто из разряда того множества вещей, о которых, как он говорит, он думает. Даже когда ему настойчиво предлагают признать, что жирафы ему приснились, он подчёркивает, что речь идёт о том, что он о них подумал: «Nein, nicht geträumt; ich hab 'mir's gedacht», «нет, не приснились, я о них подумал».
Существенным моментом здесь является вмешательство Verkehrkomplex, транспортного комплекса. Сам Фрейд указывает на это - совершенно естественно, говорит он, что при сложившемся положении вещей всё, что касается Pferderkomplex, комплекса лошадей, то есть всё, что касается лошадей и того, что с ними связано, гораздо шире системы транспорта. Другими словами, на горизонте круговых лошадиных маршрутов лежат круговые маршруты железных дорог.
Это настолько очевидно, что в первом же разговоре с отцом, в котором Ганс рассказывает о подробностях переживаемой им фобии, фигурируют элементы местности перед домом, двор и очень широкая аллея. Понятно, почему для маленького Ганса так важно их пересечь. Перед домом загружаются и разгружаются запряжённые лошадьми телеги, они выстраиваются в линию вдоль разгрузочного пандуса.
Так, с первого же рассказа маленького Ганса о своей фобии лошадей, соприкосновение системы кругооборота лошадей и системы круговой организации железных дорог обнаруживается совершенно ясно.
Lagerhaus
EZ?Za—Wgc, Vcrl;’dunKsnni[le
H-f+i I I I I I I I I t / -ьн-нч-н
Hanscnsgeplanter Weg KAMPE
DE CHAn-GEMENT
Что говорит маленький Ганс 5 апреля? Что он безумно хотел бы взобраться на телегу, где он видел играющих на тюках и поклаже детей. Он быстро, geschwind (проворно, шустро), мог бы перепрыгнуть с неё на доску, то есть на погрузочную платформу. Чего он боится? Что лошади могут в этот момент тронуться и помешают ему исполнить свою маленькую затею: забравшись на телегу, потом быстро с неё спрыгнуть на платформу.
Всё-таки это должно иметь какой-то смысл. Чтобы понять этот или какой-либо другой смысл в системе функционирования означающего, не следует задаваться вопросами типа: что здесь вообще делает эта доска? Чем бы могла быть телега? Чем бы могла быть лошадь? Конечно, лошадь представляет некоторую вещь, и однажды, исходя из её функции, мы сможем в конце концов понять, чему она послужила. Но пока мы ничего не можем об этом знать.
уехал на поезде с бабушкой, а отец, опоздав на него, садится на второй поезд, прибывающий из Санкт-Вейта. Эта связка образует виртуальную петлю - линии друг с другом не пересекаются, но обе позволяют добраться до Линца.
Несколько дней спустя, во время разговора с отцом о жирафах, маленький Ганс выдаёт нечто из разряда того множества вещей, о которых, как он говорит, он думает. Даже когда ему настойчиво предлагают признать, что жирафы ему приснились, он подчёркивает, что речь идёт о том, что он о них подумал: «Nein, nicht geträumt; ich hab 'mir's gedacht», «нет, не приснились, я о них подумал».
Существенным моментом здесь является вмешательство Verkehrkomplex, транспортного комплекса. Сам Фрейд указывает на это - совершенно естественно, говорит он, что при сложившемся положении вещей всё, что касается Pferderkomplex, комплекса лошадей, то есть всё, что касается лошадей и того, что с ними связано, гораздо шире системы транспорта. Другими словами, на горизонте круговых лошадиных маршрутов лежат круговые маршруты железных дорог.
Это настолько очевидно, что в первом же разговоре с отцом, в котором Ганс рассказывает о подробностях переживаемой им фобии, фигурируют элементы местности перед домом, двор и очень широкая аллея. Понятно, почему для маленького Ганса так важно их пересечь. Перед домом загружаются и разгружаются запряжённые лошадьми телеги, они выстраиваются в линию вдоль разгрузочного пандуса.
Так, с первого же рассказа маленького Ганса о своей фобии лошадей, соприкосновение системы кругооборота лошадей и системы круговой организации железных дорог обнаруживается совершенно ясно.
Lagerhaus
EZ?Za—Wgc, Vcrl;’dunKsnni[le
H-f+i I I I I I I I I t / -ьн-нч-н
Hanscnsgeplanter Weg KAMPE
DE CHAn-GEMENT
Что говорит маленький Ганс 5 апреля? Что он безумно хотел бы взобраться на телегу, где он видел играющих на тюках и поклаже детей. Он быстро, geschwind (проворно, шустро), мог бы перепрыгнуть с неё на доску, то есть на погрузочную платформу. Чего он боится? Что лошади могут в этот момент тронуться и помешают ему исполнить свою маленькую затею: забравшись на телегу, потом быстро с неё спрыгнуть на платформу.
Всё-таки это должно иметь какой-то смысл. Чтобы понять этот или какой-либо другой смысл в системе функционирования означающего, не следует задаваться вопросами типа: что здесь вообще делает эта доска? Чем бы могла быть телега? Чем бы могла быть лошадь? Конечно, лошадь представляет некоторую вещь, и однажды, исходя из её функции, мы сможем в конце концов понять, чему она послужила. Но пока мы ничего не можем об этом знать. Обратим внимание на лошадь. Отец обращает на неё внимание, и все остальные тоже обращают на неё внимание, кроме аналитиков, которые, бесконечно перечитывая случай маленького Ганса, пытаются вычитать в нём что-то другое, Три очерка по теории сексуальности, например. Отец проявляет интерес и спрашивает у маленького Ганса о причинах его страха: «Может быть, это, например, потому что ты бы не смог вернуться?» «Вовсе нет, - говорит маленький Ганс. - Я хорошо знаю, где живу, я могу сказать адрес, и меня привезут обратно. Я бы мог вернуться даже с телегой». Здесь нет трудности.
Похоже, никто не обращает на это внимания, но поразительно, что если маленький Ганс чего-то и боится, то вовсе не того, что было бы нам так на руку. Это могло бы даже вести к пониманию вещей, к которому я вроде бы вас подталкиваю - Ганс действительно влеком сложившейся ситуацией, и история с телегой может послужить этому прекрасной метафорой. Ан нет - он не сомневается, что всегда сможет вернуться к отправной точке. И если мы обладаем некоторым, пусть даже маломальским, соображением, мы можем сказать себе, что всё дело в этом: что тут ни сделаешь, выхода всё равно нет. Это только намёк, который делаю мимоходом. Возможно, таким образом, мы придерживаемся слишком тонкого и недостаточно строгого подхода.
Скорее, нам стоит иметь в виду, что в наблюдении есть ситуации, которые нельзя с этим не сопоставить. И здесь нам следует задержаться, поскольку сейчас становится очевидным, что дело касается самой феноменологии фобии. Здесь мы обнаруживаем абсолютную двусмысленность между тем, чего желают, и тем, чего боятся. Мы могли бы предположить, что маленький Ганс тревожится оттого, что телега неожиданно тронется и увезёт его, но, согласно его собственным разъяснениям, эта вероятность теряет своё значение, поскольку он вполне уверен, что всегда сможет вернуться. Что тогда может означать его желание выйти в некотором смысле за предел?
Предварительно мы можем сохранить формулу он хочет выйти за предел как часть своего рода элементарной конструкции. Если порядок всей его системы будет нарушен в силу несоблюдения правил игры, он может оказаться в просто невыносимой для себя ситуации, где наиболее нестерпимым элементом будет то, что он больше не знает, где ему себя поместить.
Посему я попробую привлечь другие элементы, которые некоторым образом воспроизводят то, на что указывает фантазм фобического страха.
Первый фантазм. Маленький Ганс вместе с лошадьми отправляется в путь, доска погрузочной платформы удаляется, и он возвращается, чтобы воссоединиться со своей матерью. Является ли это для него наиболее желанным или наиболее страшным, кто знает?
Когда мы читаем и перечитываем случай, мы встречаем как минимум ещё две истории.
Прежде всего, фантазм, момент появления которого имеет значение. Датирован он 11 апреля. И на этот раз Ганс в пути, он едет с отцом в вагоне поезда по железной дороге. Они приезжают на станцию в Гмунден, где собираются провести летние каникулы, собирают вещи и одеваются. Похоже, сбор и погрузка багажа в ту эпоху, которая была, возможно, менее непринуждённой, чем наша, всегда требовали особого внимания. Фрейд в случае юной гомосексуальной пациентки даже доходит до сравнения подобной ситуации с продвижением анализа - первый этап анализа соответствует сбору багажа, второй - его погрузке на поезд. Ганс и его отец не успевают одеться до отправления.
Обратим внимание на лошадь. Отец обращает на неё внимание, и все остальные тоже обращают на неё внимание, кроме аналитиков, которые, бесконечно перечитывая случай маленького Ганса, пытаются вычитать в нём что-то другое, Три очерка по теории сексуальности, например. Отец проявляет интерес и спрашивает у маленького Ганса о причинах его страха: «Может быть, это, например, потому что ты бы не смог вернуться?» «Вовсе нет, - говорит маленький Ганс. - Я хорошо знаю, где живу, я могу сказать адрес, и меня привезут обратно. Я бы мог вернуться даже с телегой». Здесь нет трудности.
Похоже, никто не обращает на это внимания, но поразительно, что если маленький Ганс чего-то и боится, то вовсе не того, что было бы нам так на руку. Это могло бы даже вести к пониманию вещей, к которому я вроде бы вас подталкиваю - Ганс действительно влеком сложившейся ситуацией, и история с телегой может послужить этому прекрасной метафорой. Ан нет - он не сомневается, что всегда сможет вернуться к отправной точке. И если мы обладаем некоторым, пусть даже маломальским, соображением, мы можем сказать себе, что всё дело в этом: что тут ни сделаешь, выхода всё равно нет. Это только намёк, который делаю мимоходом. Возможно, таким образом, мы придерживаемся слишком тонкого и недостаточно строгого подхода.
Скорее, нам стоит иметь в виду, что в наблюдении есть ситуации, которые нельзя с этим не сопоставить. И здесь нам следует задержаться, поскольку сейчас становится очевидным, что дело касается самой феноменологии фобии. Здесь мы обнаруживаем абсолютную двусмысленность между тем, чего желают, и тем, чего боятся. Мы могли бы предположить, что маленький Ганс тревожится оттого, что телега неожиданно тронется и увезёт его, но, согласно его собственным разъяснениям, эта вероятность теряет своё значение, поскольку он вполне уверен, что всегда сможет вернуться. Что тогда может означать его желание выйти в некотором смысле за предел?
Предварительно мы можем сохранить формулу он хочет выйти за предел как часть своего рода элементарной конструкции. Если порядок всей его системы будет нарушен в силу несоблюдения правил игры, он может оказаться в просто невыносимой для себя ситуации, где наиболее нестерпимым элементом будет то, что он больше не знает, где ему себя поместить.
Посему я попробую привлечь другие элементы, которые некоторым образом воспроизводят то, на что указывает фантазм фобического страха.
Первый фантазм. Маленький Ганс вместе с лошадьми отправляется в путь, доска погрузочной платформы удаляется, и он возвращается, чтобы воссоединиться со своей матерью. Является ли это для него наиболее желанным или наиболее страшным, кто знает?
Когда мы читаем и перечитываем случай, мы встречаем как минимум ещё две истории.
Прежде всего, фантазм, момент появления которого имеет значение. Датирован он 11 апреля. И на этот раз Ганс в пути, он едет с отцом в вагоне поезда по железной дороге. Они приезжают на станцию в Гмунден, где собираются провести летние каникулы, собирают вещи и одеваются. Похоже, сбор и погрузка багажа в ту эпоху, которая была, возможно, менее непринуждённой, чем наша, всегда требовали особого внимания. Фрейд в случае юной гомосексуальной пациентки даже доходит до сравнения подобной ситуации с продвижением анализа - первый этап анализа соответствует сбору багажа, второй - его погрузке на поезд. Ганс и его отец не успевают одеться до отправления. Далее следует третий фантазм, который Ганс рассказывает своему отцу 21 апреля, так называемая сцена на перроне. В тексте она расположена прямо перед тем, что мы называем большим диалогом с отцом - это лишь удобная разметка, чтобы в дальнейшем было легче сориентироваться. Ганс подумал, что уехал из Линца с бабушкой, которую он с отцом навещает каждое воскресенье. О ней в наблюдении случая больше вообще ничего не сказано, что наводит на мысль о суровом характере этой дамы, поскольку, как известно, завоевать расположение остальных членов семьи в те времена было гораздо легче, чем, например, мне сейчас. Линцийка (жительница Линца), как её называет маленький Ганс, была вместе с ним в вагоне, когда отец не успел зайти в поезд, и они отправились. Но поскольку поезда ходят часто и ветка, как мы видим, идёт до Санкт-Вейта, маленький Ганс говорит, что он успевает прибыть на платформу, чтобы отправиться вторым поездом с отцом.
Каким образом маленький Ганс, который уже уехал, вернулся? Это тупик. По правде говоря, эту ситуацию ещё никому не удалось прояснить. Отец тоже задаётся этим вопросом, и в тексте случая двенадцать строк посвящены тому, что могло произойти в уме маленького Ганса. Что до нас, давайте обратимся к нашим схемам.
НЕВОЗМОЖНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
Далее следует третий фантазм, который Ганс рассказывает своему отцу 21 апреля, так называемая сцена на перроне. В тексте она расположена прямо перед тем, что мы называем большим диалогом с отцом - это лишь удобная разметка, чтобы в дальнейшем было легче сориентироваться. Ганс подумал, что уехал из Линца с бабушкой, которую он с отцом навещает каждое воскресенье. О ней в наблюдении случая больше вообще ничего не сказано, что наводит на мысль о суровом характере этой дамы, поскольку, как известно, завоевать расположение остальных членов семьи в те времена было гораздо легче, чем, например, мне сейчас. Линцийка (жительница Линца), как её называет маленький Ганс, была вместе с ним в вагоне, когда отец не успел зайти в поезд, и они отправились. Но поскольку поезда ходят часто и ветка, как мы видим, идёт до Санкт-Вейта, маленький Ганс говорит, что он успевает прибыть на платформу, чтобы отправиться вторым поездом с отцом.
Каким образом маленький Ганс, который уже уехал, вернулся? Это тупик. По правде говоря, эту ситуацию ещё никому не удалось прояснить. Отец тоже задаётся этим вопросом, и в тексте случая двенадцать строк посвящены тому, что могло произойти в уме маленького Ганса. Что до нас, давайте обратимся к нашим схемам.
НЕВОЗМОЖНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ На первой схеме - отправление вдвоём с бабушкой. На второй - путь невозможности, где решение отсутствует. На третьей Ганс отправляется, наконец, в путь вместе с отцом. Другими словами, здесь есть кое-что для нас поразительное, если мы уже знаем о двух полюсах наблюдения - в начале вся эта очевидная и постоянно подчёркиваемая материнская драма, а в конце - теперь я вдвоём с отцом. Нельзя не заметить связь между этим неминуемым возвращением к матери и тем, что в один прекрасный день, хотя бы в мечтах, можно заново отправиться в путь вдвоём с отцом. Это простое пожелание, за исключением того, что оно неосуществимо, и мы никак не можем понять, каким образом маленький Ганс, уже уехавший вместе с бабушкой, снова отправляется в путь с отцом. Такое возможно только в воображении.
Здесь филигранно намечена фундаментальная схема, о которой я говорил вам как о присущей любому мифическому прогрессу - это движение от одной невозможности и тупика к другому тупику и другой невозможности. В первом случае это невозможность уйти от матери, к которой постоянно происходит возврат, не говори мне, что я беспокоюсь из-за её отсутствия. Во втором случае можно подумать, что он меняет мать на отца и отправляется с ним. Ганс тоже подумал об этом и даже написал об этом
На первой схеме - отправление вдвоём с бабушкой. На второй - путь невозможности, где решение отсутствует. На третьей Ганс отправляется, наконец, в путь вместе с отцом. Другими словами, здесь есть кое-что для нас поразительное, если мы уже знаем о двух полюсах наблюдения - в начале вся эта очевидная и постоянно подчёркиваемая материнская драма, а в конце - теперь я вдвоём с отцом. Нельзя не заметить связь между этим неминуемым возвращением к матери и тем, что в один прекрасный день, хотя бы в мечтах, можно заново отправиться в путь вдвоём с отцом. Это простое пожелание, за исключением того, что оно неосуществимо, и мы никак не можем понять, каким образом маленький Ганс, уже уехавший вместе с бабушкой, снова отправляется в путь с отцом. Такое возможно только в воображении.
Здесь филигранно намечена фундаментальная схема, о которой я говорил вам как о присущей любому мифическому прогрессу - это движение от одной невозможности и тупика к другому тупику и другой невозможности. В первом случае это невозможность уйти от матери, к которой постоянно происходит возврат, не говори мне, что я беспокоюсь из-за её отсутствия. Во втором случае можно подумать, что он меняет мать на отца и отправляется с ним. Ганс тоже подумал об этом и даже написал об этом Профессору, что было лучшим применением его мыслей. Однако текст мифа обнаруживает, что это невозможно, и где-то всегда обнаруживается какая-то несостыковка.
Этим всё не ограничивается. Сами по себе элементы этой схемы дают нам возможность свести её понимание к схеме упряжки.
Кого запрягают? Вот что является одним из первичных условий выбора и применения означающего лошадь. Бесполезно уточнять, что именно закрепляется за лошадью, поскольку направление, в котором действует Ганс, продиктовано возможностями, предоставляемыми функцией лошади. Мы даже можем сказать, что именно этим он руководствуется, когда выбирает именно лошадь. Ганс сам позаботился о том, чтобы показать нам, как это случается, когда рассказал о том, в какой момент, как он полагает, он поймал глупость. Он говорит об этом 9 апреля в беседе со своим отцом, в ничем не примечательный момент, и мы увидим, в результате чего это произошло.
Когда Ганс играл в лошадь, произошло нечто очень важное, то, что задало первую модель фантазма о ране, который позже проявит себя в отношении отца, но который изначально был позаимствован в реальном, а именно в ситуации с игрой в лошадь, когда его друг Фриц поранил ногу.
На вопрос своего отца Ганс отвечает, что лошадь может быть или без экипажа, ohne Wagen, в таком случае экипаж остался дома, или, наоборот, может быть запряжена в экипаж. Ганс сам формулирует, что лошадь прежде всего является сцепляющимся, съёмным, присоединяемым элементом. Этот амбоцепторный характер, постоянно обнаруживаемый нами в функции лошади, представлен в первом же опыте Ганса. Лошадь, прежде того, чтобы быть лошадью, представляет собой связующий и координирующий элемент, и в исполнении именно этой посреднической функции мы обнаруживаем её на всём протяжении развития мифа. Для всестороннего обоснования моего дальнейшего хода рассуждения о функции означающего лошади нужно обратить внимание на слова, прозвучавшие из уст самого Ганса, указывающие на то, что продвигаться следует именно в этом направлении, в направлении смысла грамматической координации означающего.
В действительности, в тот самый момент, когда Ганс говорит о лошади, он произносит: «вот тогда ко мне и залетела глупость», «da hab’ ich die Dummheit gekriegt». Глагол kriegen, залететь, который он всегда использует по отношению к глупости, применяется также для описания случившейся у женщины беременности. Это не осталось незамеченным авторами, то есть отцом и Фрейдом. Есть сноска Фрейда, которая всем интересна, как-то раз с которой у переводчика возникло некоторое затруднение, но он нашёл очень элегантный выход. Ганс постоянно говорит: «wegen dem Pferd», «из-за лошади», это его припев: «из-за лошади ко мне залетела глупость». Фрейд не мог здесь не заметить связи между wegen и Wägen во множественном числе, что означает экипажи. Именно так работает бессознательное.
Другими словами, лошадь тянет экипаж так же, как и то, что тянет за собой слово wegen. Поэтому абсолютно не будет преувеличением заметить, что именно в тот момент, когда Ганс становится жертвой того, что само по себе не является чем-то [причинно-обусловленным], о чём даже нельзя спросить почему - поскольку за пределами правил игры есть только разлад, нехватка бытия, нехватка почему - и позволяет он чистому Х, то есть лошади, тянуть за собой потому что, которое не соответствует ничему.
Профессору, что было лучшим применением его мыслей. Однако текст мифа обнаруживает, что это невозможно, и где-то всегда обнаруживается какая-то несостыковка.
Этим всё не ограничивается. Сами по себе элементы этой схемы дают нам возможность свести её понимание к схеме упряжки.
Кого запрягают? Вот что является одним из первичных условий выбора и применения означающего лошадь. Бесполезно уточнять, что именно закрепляется за лошадью, поскольку направление, в котором действует Ганс, продиктовано возможностями, предоставляемыми функцией лошади. Мы даже можем сказать, что именно этим он руководствуется, когда выбирает именно лошадь. Ганс сам позаботился о том, чтобы показать нам, как это случается, когда рассказал о том, в какой момент, как он полагает, он поймал глупость. Он говорит об этом 9 апреля в беседе со своим отцом, в ничем не примечательный момент, и мы увидим, в результате чего это произошло.
Когда Ганс играл в лошадь, произошло нечто очень важное, то, что задало первую модель фантазма о ране, который позже проявит себя в отношении отца, но который изначально был позаимствован в реальном, а именно в ситуации с игрой в лошадь, когда его друг Фриц поранил ногу.
На вопрос своего отца Ганс отвечает, что лошадь может быть или без экипажа, ohne Wagen, в таком случае экипаж остался дома, или, наоборот, может быть запряжена в экипаж. Ганс сам формулирует, что лошадь прежде всего является сцепляющимся, съёмным, присоединяемым элементом. Этот амбоцепторный характер, постоянно обнаруживаемый нами в функции лошади, представлен в первом же опыте Ганса. Лошадь, прежде того, чтобы быть лошадью, представляет собой связующий и координирующий элемент, и в исполнении именно этой посреднической функции мы обнаруживаем её на всём протяжении развития мифа. Для всестороннего обоснования моего дальнейшего хода рассуждения о функции означающего лошади нужно обратить внимание на слова, прозвучавшие из уст самого Ганса, указывающие на то, что продвигаться следует именно в этом направлении, в направлении смысла грамматической координации означающего.
В действительности, в тот самый момент, когда Ганс говорит о лошади, он произносит: «вот тогда ко мне и залетела глупость», «da hab’ ich die Dummheit gekriegt». Глагол kriegen, залететь, который он всегда использует по отношению к глупости, применяется также для описания случившейся у женщины беременности. Это не осталось незамеченным авторами, то есть отцом и Фрейдом. Есть сноска Фрейда, которая всем интересна, как-то раз с которой у переводчика возникло некоторое затруднение, но он нашёл очень элегантный выход. Ганс постоянно говорит: «wegen dem Pferd», «из-за лошади», это его припев: «из-за лошади ко мне залетела глупость». Фрейд не мог здесь не заметить связи между wegen и Wägen во множественном числе, что означает экипажи. Именно так работает бессознательное.
Другими словами, лошадь тянет экипаж так же, как и то, что тянет за собой слово wegen. Поэтому абсолютно не будет преувеличением заметить, что именно в тот момент, когда Ганс становится жертвой того, что само по себе не является чем-то [причинно-обусловленным], о чём даже нельзя спросить почему - поскольку за пределами правил игры есть только разлад, нехватка бытия, нехватка почему - и позволяет он чистому Х, то есть лошади, тянуть за собой потому что, которое не соответствует ничему. Другими словами, в тот самый момент, когда появляется фобия, мы наблюдаем типично метонимический процесс, то есть переход смысловой нагрузки, точнее, вопроса, который данное высказывание в себя включает, от одного пункта текстовой строки к следующему. Это и есть структурное определение метонимии. Именно по той причине, что значение этого wegen, из-за, полностью завуалировано и перенесено на термин, идущий следом, dem Pferd, этот следующий термин приобретает своё артикулированное значение и вселяет надежду на решение. Зияющий пробел в ситуации Ганса полностью обусловлен этим грамматическим переносом смысловой нагрузки.
В конечном итоге мы лишь обнаруживаем здесь конкретные связи двух видов, которые не имеют никакого отношения к игре воображения в некоем гиперпсихологическом пространстве. Во-первых, связь метафорическая, где слову соответствует другое, которое может его заместить, во-вторых, связь метонимическая, где одному слову отвечает следующее за ним во фразе другое. Эти два вида ответов доступны вашему наблюдению в психологическом опыте. Вы называете это ассоциациями, потому что очень хотели бы видеть это происходящим где-то в нейронах мозга. Что касается меня, то я об этом ничего не знаю. По крайней мере, как аналитик я ничего не хочу об этом знать. Эти два типа ассоциаций, называемые метафорой и метонимией, я нахожу там, где они есть, в тексте той купели языка, в которую окунулся Ганс.
Именно там он нашёл первичную метонимию, преподнёсшую ему лошадь, первый термин, вокруг которого будет выстроена вся его система.
8 мая 1957
Другими словами, в тот самый момент, когда появляется фобия, мы наблюдаем типично метонимический процесс, то есть переход смысловой нагрузки, точнее, вопроса, который данное высказывание в себя включает, от одного пункта текстовой строки к следующему. Это и есть структурное определение метонимии. Именно по той причине, что значение этого wegen, из-за, полностью завуалировано и перенесено на термин, идущий следом, dem Pferd, этот следующий термин приобретает своё артикулированное значение и вселяет надежду на решение. Зияющий пробел в ситуации Ганса полностью обусловлен этим грамматическим переносом смысловой нагрузки.
В конечном итоге мы лишь обнаруживаем здесь конкретные связи двух видов, которые не имеют никакого отношения к игре воображения в некоем гиперпсихологическом пространстве. Во-первых, связь метафорическая, где слову соответствует другое, которое может его заместить, во-вторых, связь метонимическая, где одному слову отвечает следующее за ним во фразе другое. Эти два вида ответов доступны вашему наблюдению в психологическом опыте. Вы называете это ассоциациями, потому что очень хотели бы видеть это происходящим где-то в нейронах мозга. Что касается меня, то я об этом ничего не знаю. По крайней мере, как аналитик я ничего не хочу об этом знать. Эти два типа ассоциаций, называемые метафорой и метонимией, я нахожу там, где они есть, в тексте той купели языка, в которую окунулся Ганс.
Именно там он нашёл первичную метонимию, преподнёсшую ему лошадь, первый термин, вокруг которого будет выстроена вся его система.
8 мая 1957
 не способны восполнить, заменить ту последовательность структур, описание которой я постараюсь сегодня довести до конца.
Все эти структуры отмечены одной показательной чертой. В фантазии 5 апреля, получившей завершённую форму благодаря расспросам отца, мы обнаруживаем идею возвращения Ганса к матери после его отправления на телеге. В фантазии 21 апреля имеет место другой важный момент развития этой идеи - Ганс не без причины представляет свое отправление с бабушкой, а уже потом через дар, пробел, к нему, маленькому Гансу, присоединяется отец, следующий по маршруту, который вписывается в такой же цикл, при условии сохранения загадочной невозможности воссоединения этих двух, разом отделённых друг от друга, персонажей.
Рис. 1
не способны восполнить, заменить ту последовательность структур, описание которой я постараюсь сегодня довести до конца.
Все эти структуры отмечены одной показательной чертой. В фантазии 5 апреля, получившей завершённую форму благодаря расспросам отца, мы обнаруживаем идею возвращения Ганса к матери после его отправления на телеге. В фантазии 21 апреля имеет место другой важный момент развития этой идеи - Ганс не без причины представляет свое отправление с бабушкой, а уже потом через дар, пробел, к нему, маленькому Гансу, присоединяется отец, следующий по маршруту, который вписывается в такой же цикл, при условии сохранения загадочной невозможности воссоединения этих двух, разом отделённых друг от друга, персонажей.
Рис. 1 Мы и далее продолжим наше исследование, последовательно исчерпывая все возможности означающего, представляющего собой объект на том особенном уровне, который мной был предложен. Этот загадочный круговой контур лошади, который в первом примере явно вызывает тревогу, а во втором демонстрирует свою невозможность, соприкасается, как я уже показал, с большим по размеру контуром, образованным системой коммуникаций. Фрейд говорит об этом в наиболее ясной форме - нас не удивляет, что Ганс, используя транспортную систему, переходит от кругового контура лошади к круговому контуру железных дорог.
Всё происходит, одним словом, между двумя ностальгиями - ностальгия происходит от греческого v6oтoq, возвращение - приходом и возвращением. Возвращение утверждается Фрейдом в качестве фундаментального свойства объекта. Он подчёркивает, что в развитии субъекта объект всегда обнаруживает себя лишь как вновь найденный объект. Отдалённость объекта необходима. Эта необходимость является коррелятом измерения символического. Но если объект удаляется, то лишь для того, чтобы субъект заново его нашёл.
Вот истина, которая наполовину ускользает и даже утрачивается, когда психоанализ сегодня упорно настаивает на значении фрустрации, не отдавая себе отчёта, что она всегда является не более чем первым этапом возвращения к объекту, который, чтобы быть образованным как таковой, должен быть потерян и найден вновь.
Мы и далее продолжим наше исследование, последовательно исчерпывая все возможности означающего, представляющего собой объект на том особенном уровне, который мной был предложен. Этот загадочный круговой контур лошади, который в первом примере явно вызывает тревогу, а во втором демонстрирует свою невозможность, соприкасается, как я уже показал, с большим по размеру контуром, образованным системой коммуникаций. Фрейд говорит об этом в наиболее ясной форме - нас не удивляет, что Ганс, используя транспортную систему, переходит от кругового контура лошади к круговому контуру железных дорог.
Всё происходит, одним словом, между двумя ностальгиями - ностальгия происходит от греческого v6oтoq, возвращение - приходом и возвращением. Возвращение утверждается Фрейдом в качестве фундаментального свойства объекта. Он подчёркивает, что в развитии субъекта объект всегда обнаруживает себя лишь как вновь найденный объект. Отдалённость объекта необходима. Эта необходимость является коррелятом измерения символического. Но если объект удаляется, то лишь для того, чтобы субъект заново его нашёл.
Вот истина, которая наполовину ускользает и даже утрачивается, когда психоанализ сегодня упорно настаивает на значении фрустрации, не отдавая себе отчёта, что она всегда является не более чем первым этапом возвращения к объекту, который, чтобы быть образованным как таковой, должен быть потерян и найден вновь. 1
Давайте вспомним, о чём идёт речь в истории маленького Ганса.
Для Фрейда речь идёт не о чём ином, как об эдиповом комплексе, драма которого учреждает новое измерение, необходимое для образования человеческого мира в целом и объекта в частности. Последний, будучи далёким от корреляции с якобы генитальным инстинктивным созреванием, зависит от обретения определённого символического измерения.
Какого? Я могу сказать здесь о нём прямо, учитывая то, что я говорил раньше и с чем вы уже знакомы. Это то, с чем мы каждый раз имеем дело, когда речь идёт о появлении фобии, которая здесь налицо, с тем, что под некоторым углом зрения открывается для ребёнка как фундаментальное лишение, которым отмечен образ матери. Это лишение нестерпимо, поскольку в конечном итоге именно оно ставит ребёнка перед фактом важнейшего лишения - своей неспособности каким бы то ни было образом дать удовлетворение матери. Тут-то и должен сделать свой вклад отец. Это ясно как божий день, это просто, как факт совокупления: он даёт ей то, чего у неё нет, он ей вставляет. Именно об этом идёт речь в драме маленького Ганса, и мы видим, как это постепенно раскрывает себя по мере того, как развивается диалог.
Как принято называть это в наши дни, образ внешнего окружения семьи маленького Ганса описан недостаточно подробно. Чего же недостаёт? Ведь достаточно читать, причём не только между строк, чтобы узреть постоянное и прилежное присутствие отца на протяжении всего наблюдения, тогда как мать даёт о себе знать, только если отец просит её уточнить, что именно она только что сказала. В конце концов, в описании случая с маленьким Гансом всегда находится не мать, а отец -благоразумный, добродушный, венский; он успевает не только заботиться о своём маленьком Гансе, но и работать. И каждое воскресенье он ездит увидеться со своей мамой, конечно, вместе с маленьким Гансом. Нельзя не удивиться, как легко Фрейд, о взглядах которого на тот момент мы достаточно хорошо осведомлены, допускает, что маленький Ганс, живущий в комнате родителей до четырёхлетнего возраста, определённо никогда не видел сцены, способной заставить его задуматься о фундаментальной природе полового акта. Отец подтверждает это в своих записях, и Фрейд этого не оспаривает - он должен был иметь своё представление на этот счёт, поскольку мать была его пациенткой.
В момент основной сцены диалога со своим отцом маленький Ганс говорит ему что-то вроде: «Ты должен поревновать». Выражение практически непереводимо на французский, что замечает сын Флисса, который обратил внимание на эту сцену, и, если даже он сам не вполне может оценить свои заслуги, его замечания остаются весьма справедливыми. Ему удалось расслышать созвучие с библейскими мотивами ревнивого бога, бога, соответствующего фигуре отца в учении Фрейда. «Ты должен быть отцом, ты должен злиться на меня, и это должно быть по-настоящему». Ещё много воды утечёт, прежде чем у Ганса получится это сказать; чтобы он смог к этому моменту подойти, потребуется определённое время.
Поэтому мы сразу же задаёмся вопросом: получил ли Ганс, преодолевая этот кризис, хоть какое-то удовлетворение на этот счет? Почему он может быть удовлетворён, если отец его находится в том критическом положении, возникновение которого на заднем плане следует расценивать как фундаментальную предпосылку той
1
Давайте вспомним, о чём идёт речь в истории маленького Ганса.
Для Фрейда речь идёт не о чём ином, как об эдиповом комплексе, драма которого учреждает новое измерение, необходимое для образования человеческого мира в целом и объекта в частности. Последний, будучи далёким от корреляции с якобы генитальным инстинктивным созреванием, зависит от обретения определённого символического измерения.
Какого? Я могу сказать здесь о нём прямо, учитывая то, что я говорил раньше и с чем вы уже знакомы. Это то, с чем мы каждый раз имеем дело, когда речь идёт о появлении фобии, которая здесь налицо, с тем, что под некоторым углом зрения открывается для ребёнка как фундаментальное лишение, которым отмечен образ матери. Это лишение нестерпимо, поскольку в конечном итоге именно оно ставит ребёнка перед фактом важнейшего лишения - своей неспособности каким бы то ни было образом дать удовлетворение матери. Тут-то и должен сделать свой вклад отец. Это ясно как божий день, это просто, как факт совокупления: он даёт ей то, чего у неё нет, он ей вставляет. Именно об этом идёт речь в драме маленького Ганса, и мы видим, как это постепенно раскрывает себя по мере того, как развивается диалог.
Как принято называть это в наши дни, образ внешнего окружения семьи маленького Ганса описан недостаточно подробно. Чего же недостаёт? Ведь достаточно читать, причём не только между строк, чтобы узреть постоянное и прилежное присутствие отца на протяжении всего наблюдения, тогда как мать даёт о себе знать, только если отец просит её уточнить, что именно она только что сказала. В конце концов, в описании случая с маленьким Гансом всегда находится не мать, а отец -благоразумный, добродушный, венский; он успевает не только заботиться о своём маленьком Гансе, но и работать. И каждое воскресенье он ездит увидеться со своей мамой, конечно, вместе с маленьким Гансом. Нельзя не удивиться, как легко Фрейд, о взглядах которого на тот момент мы достаточно хорошо осведомлены, допускает, что маленький Ганс, живущий в комнате родителей до четырёхлетнего возраста, определённо никогда не видел сцены, способной заставить его задуматься о фундаментальной природе полового акта. Отец подтверждает это в своих записях, и Фрейд этого не оспаривает - он должен был иметь своё представление на этот счёт, поскольку мать была его пациенткой.
В момент основной сцены диалога со своим отцом маленький Ганс говорит ему что-то вроде: «Ты должен поревновать». Выражение практически непереводимо на французский, что замечает сын Флисса, который обратил внимание на эту сцену, и, если даже он сам не вполне может оценить свои заслуги, его замечания остаются весьма справедливыми. Ему удалось расслышать созвучие с библейскими мотивами ревнивого бога, бога, соответствующего фигуре отца в учении Фрейда. «Ты должен быть отцом, ты должен злиться на меня, и это должно быть по-настоящему». Ещё много воды утечёт, прежде чем у Ганса получится это сказать; чтобы он смог к этому моменту подойти, потребуется определённое время.
Поэтому мы сразу же задаёмся вопросом: получил ли Ганс, преодолевая этот кризис, хоть какое-то удовлетворение на этот счет? Почему он может быть удовлетворён, если отец его находится в том критическом положении, возникновение которого на заднем плане следует расценивать как фундаментальную предпосылку той скважины, из которой возник фобический фантазм? Совершенно немыслимо предположить, что этот диалог, если так можно выразиться, подверг психоанализу не маленького Ганса, но его отца, и что в конце всей истории, которая довольно благополучно улаживается зачетыре месяца, отец стал более мужественным, нежели был сначала. Иначе говоря, если тот, к кому так настоятельно обращается маленький Ганс, - это реальный отец, то никаких предпосылок к тому, чтобы он действительно появился, нет.
Предполагая, что маленький Ганс пришёл к благоприятному разрешению кризиса, в котором он оказался, стоит задуматься, можем ли мы говорить в таком случае о нормальном исходе эдипова комплекса. Достаточно ли одной только генитальной, в кавычках, позиции, достигнутой Гансом, чтобы убедить вас, что в дальнейшем его отношения с женщинами будут развиваться наиболее желательным образом?
Вопрос остаётся открытым. И он не просто остаётся открытым, но мы уже сейчас можем сделать по этому поводу множество замечаний. Если маленький Ганс и предрасположен к гетеросексуальности, возможно, одной этой гарантии нам недостаточно, чтобы удостоверить его полную, если так можно выразиться, сочетаемость с женским объектом.
Как вы видите, нам приходится работать концентрическими мазками, растягивать полотно между точками его крепления, чтобы нормально его зафиксировать и воспользоваться им как экраном, на котором появится возможность отследить этот особенный феномен - то, что происходит в развитии фобии и сопутствует самому по себе ходу лечения.
Для того чтобы показать, насколько в этой истории отец выдохся, мне в голову приходит маленький пример, который несколько оживит наше исследование. После одного долгого объяснения маленького Ганса в любви, которую он испытывает к своему отцу - он посвящает этому целое утро - они вместе обедают, отец поднимается из-за стола, и Ганс говорит ему: «Vatti, renn mir nicht davon!»
В отмеченном неотразимым стилем захолустной кухарки французском переводе эта фраза передана в общем-то правильно, а именно: «Папа, останься! Не пускайся в галоп». Отец подчёркивает своё удивление словом renn, скакать. Это даже скорее: «Не скачи так». Или даже - что немецкому вполне соответствует - «Не скачи от меня так». Мы располагаем вопрос анализа означающего на уровне иероглифической расшифровки мифологической функции, но это лишь мешает обратить внимание на само означающее, то есть на то, что прежде всего его нужно суметь прочитать. Это является изначальным условием для корректного перевода. Остаётся сожалеть о том ошибочном понимании произведений Фрейда, которое может возникнуть у французских читателей.
Итак, мы с отцом. Мы уже почти определили то место, которое он должен занимать на этой схеме, поскольку от него, через него, посредством идентификации с ним маленький Ганс должен найти нормальный путь по большему круговому контуру, на который пришло время ему перейти. Это действительно так и есть, ибо дважды подтверждается на известной консультации 30 марта.
Речь идёт о консультации у Фрейда, на которую маленького Ганса приводит его отец. Для меня она является иллюстрацией того раздвоения, даже растроения отцовской функции, на котором я настаиваю как на принципиально необходимом для возможности любого осмысления и комплекса Эдипа, и аналитического лечения как
скважины, из которой возник фобический фантазм? Совершенно немыслимо предположить, что этот диалог, если так можно выразиться, подверг психоанализу не маленького Ганса, но его отца, и что в конце всей истории, которая довольно благополучно улаживается зачетыре месяца, отец стал более мужественным, нежели был сначала. Иначе говоря, если тот, к кому так настоятельно обращается маленький Ганс, - это реальный отец, то никаких предпосылок к тому, чтобы он действительно появился, нет.
Предполагая, что маленький Ганс пришёл к благоприятному разрешению кризиса, в котором он оказался, стоит задуматься, можем ли мы говорить в таком случае о нормальном исходе эдипова комплекса. Достаточно ли одной только генитальной, в кавычках, позиции, достигнутой Гансом, чтобы убедить вас, что в дальнейшем его отношения с женщинами будут развиваться наиболее желательным образом?
Вопрос остаётся открытым. И он не просто остаётся открытым, но мы уже сейчас можем сделать по этому поводу множество замечаний. Если маленький Ганс и предрасположен к гетеросексуальности, возможно, одной этой гарантии нам недостаточно, чтобы удостоверить его полную, если так можно выразиться, сочетаемость с женским объектом.
Как вы видите, нам приходится работать концентрическими мазками, растягивать полотно между точками его крепления, чтобы нормально его зафиксировать и воспользоваться им как экраном, на котором появится возможность отследить этот особенный феномен - то, что происходит в развитии фобии и сопутствует самому по себе ходу лечения.
Для того чтобы показать, насколько в этой истории отец выдохся, мне в голову приходит маленький пример, который несколько оживит наше исследование. После одного долгого объяснения маленького Ганса в любви, которую он испытывает к своему отцу - он посвящает этому целое утро - они вместе обедают, отец поднимается из-за стола, и Ганс говорит ему: «Vatti, renn mir nicht davon!»
В отмеченном неотразимым стилем захолустной кухарки французском переводе эта фраза передана в общем-то правильно, а именно: «Папа, останься! Не пускайся в галоп». Отец подчёркивает своё удивление словом renn, скакать. Это даже скорее: «Не скачи так». Или даже - что немецкому вполне соответствует - «Не скачи от меня так». Мы располагаем вопрос анализа означающего на уровне иероглифической расшифровки мифологической функции, но это лишь мешает обратить внимание на само означающее, то есть на то, что прежде всего его нужно суметь прочитать. Это является изначальным условием для корректного перевода. Остаётся сожалеть о том ошибочном понимании произведений Фрейда, которое может возникнуть у французских читателей.
Итак, мы с отцом. Мы уже почти определили то место, которое он должен занимать на этой схеме, поскольку от него, через него, посредством идентификации с ним маленький Ганс должен найти нормальный путь по большему круговому контуру, на который пришло время ему перейти. Это действительно так и есть, ибо дважды подтверждается на известной консультации 30 марта.
Речь идёт о консультации у Фрейда, на которую маленького Ганса приводит его отец. Для меня она является иллюстрацией того раздвоения, даже растроения отцовской функции, на котором я настаиваю как на принципиально необходимом для возможности любого осмысления и комплекса Эдипа, и аналитического лечения как такового, поскольку оно вводит в игру имя отца. Отец приводит Ганса к Фрейду, который представляет собой сверх-отца, отца символического. Когда Фрейд, не без того, чтобы отнестись к самому себе в этот момент с юмором, пророчествует и без обиняков излагает схему Эдипа, маленький Ганс заинтересованно слушает и не без юмора задаётся вопросом: «Откуда он может это знать? Должно быть, профессор разговаривает с Богом». Вообще говоря, юмористический характер отношений маленького Ганса со своим дальним отцом, то есть Фрейдом, сохраняется на протяжении всего наблюдения и является показательным для того, чтобы отметить одновременно необходимость этого трансцендентного измерения и то, насколько мы заблуждаемся, постоянно представляя его устрашающим и требующим уважения. Эти отношения не менее плодотворны в этом другом регистре, где Ганс получает возможность выразить свою проблему.
Но параллельно, как я вам говорил, происходят другие вещи, имеющие для прогресса маленького Ганса гораздо большее значение. Прочитайте наблюдение, и вы увидите, что в понедельник, 30 марта, в день визита к Фрейду, в сообщении отца отмечены два момента, важности которых он не умаляет, но их точная функция несколько сглажена тем фактом, что он пишет о них в преамбуле, хотя второй является высказыванием Ганса после возвращения.
Первый момент. Я напоминаю вам, что это понедельник, день, следующий за воскресеньем, когда визит к бабушке был дополнен прогулкой в Шёнбрунне. Маленький Ганс рассказывает тот фантазм, где они с отцом совершают преступление (transgression). Он не может выразиться иначе, это именно образ преступления. Это преступление в чистом виде, поскольку они вдвоём пролезают под верёвкой. Об этой верёвке шла речь в саду Шёнбрунна, когда Ганс спросил отца:
- Зачем здесь эта верёвка?
- Она препятствует выходу на газон, - говорит отец.
- Можно ведь пролезть под ней?
- Хорошо воспитанные дети, - отвечает отец, - не пролезают под верёвками, особенно если эти верёвки повешены специально, чтобы их не пересекали.
Ганс не преминёт ответить на это своим фантазмом - ну, тогда совершим преступление вместе. Здесь важно именно, что вместе. Потом они скажут сторожу: «Вот что мы сделали». И - хоп! Он сажает в тюрьму их обоих.
Принимая во внимание контекст, важное значение этого фантазма не вызывает сомнений. Речь идёт о том, чтобы войти в распорядок отца, сделать что-то, что позволит их вместе сцапать-увести-погрузить (embarquer), zusammengepackt. Вопрос неслучившейся посадки (embarquement), таким образом, может быть прояснён, если вывернуть схему наизнанку, поскольку сама природа означающего состоит в том, чтобы представлять вещи строго функциональным образом. Именно по поводу посадки-погрузки (embarquement) возникает вопрос: речь идёт о том, сможет ли он сесть (embarque), войти куда-либо со своим отцом, поскольку именно с такой функцией не справляется отец - не может, по крайней мере в общепринятом смысле слова, погрузиться, внедриться (embarquer). Все дальнейшие предпринятые маленьким Гансом усилия призваны приблизить его к этой одновременно желанной и невозможной цели. Показательно, что начало этому было положено уже в том первом фантазме маленького Ганса, который я вам только что напомнил, и возник он прямо перед консультацией с Фрейдом.
такового, поскольку оно вводит в игру имя отца. Отец приводит Ганса к Фрейду, который представляет собой сверх-отца, отца символического. Когда Фрейд, не без того, чтобы отнестись к самому себе в этот момент с юмором, пророчествует и без обиняков излагает схему Эдипа, маленький Ганс заинтересованно слушает и не без юмора задаётся вопросом: «Откуда он может это знать? Должно быть, профессор разговаривает с Богом». Вообще говоря, юмористический характер отношений маленького Ганса со своим дальним отцом, то есть Фрейдом, сохраняется на протяжении всего наблюдения и является показательным для того, чтобы отметить одновременно необходимость этого трансцендентного измерения и то, насколько мы заблуждаемся, постоянно представляя его устрашающим и требующим уважения. Эти отношения не менее плодотворны в этом другом регистре, где Ганс получает возможность выразить свою проблему.
Но параллельно, как я вам говорил, происходят другие вещи, имеющие для прогресса маленького Ганса гораздо большее значение. Прочитайте наблюдение, и вы увидите, что в понедельник, 30 марта, в день визита к Фрейду, в сообщении отца отмечены два момента, важности которых он не умаляет, но их точная функция несколько сглажена тем фактом, что он пишет о них в преамбуле, хотя второй является высказыванием Ганса после возвращения.
Первый момент. Я напоминаю вам, что это понедельник, день, следующий за воскресеньем, когда визит к бабушке был дополнен прогулкой в Шёнбрунне. Маленький Ганс рассказывает тот фантазм, где они с отцом совершают преступление (transgression). Он не может выразиться иначе, это именно образ преступления. Это преступление в чистом виде, поскольку они вдвоём пролезают под верёвкой. Об этой верёвке шла речь в саду Шёнбрунна, когда Ганс спросил отца:
- Зачем здесь эта верёвка?
- Она препятствует выходу на газон, - говорит отец.
- Можно ведь пролезть под ней?
- Хорошо воспитанные дети, - отвечает отец, - не пролезают под верёвками, особенно если эти верёвки повешены специально, чтобы их не пересекали.
Ганс не преминёт ответить на это своим фантазмом - ну, тогда совершим преступление вместе. Здесь важно именно, что вместе. Потом они скажут сторожу: «Вот что мы сделали». И - хоп! Он сажает в тюрьму их обоих.
Принимая во внимание контекст, важное значение этого фантазма не вызывает сомнений. Речь идёт о том, чтобы войти в распорядок отца, сделать что-то, что позволит их вместе сцапать-увести-погрузить (embarquer), zusammengepackt. Вопрос неслучившейся посадки (embarquement), таким образом, может быть прояснён, если вывернуть схему наизнанку, поскольку сама природа означающего состоит в том, чтобы представлять вещи строго функциональным образом. Именно по поводу посадки-погрузки (embarquement) возникает вопрос: речь идёт о том, сможет ли он сесть (embarque), войти куда-либо со своим отцом, поскольку именно с такой функцией не справляется отец - не может, по крайней мере в общепринятом смысле слова, погрузиться, внедриться (embarquer). Все дальнейшие предпринятые маленьким Гансом усилия призваны приблизить его к этой одновременно желанной и невозможной цели. Показательно, что начало этому было положено уже в том первом фантазме маленького Ганса, который я вам только что напомнил, и возник он прямо перед консультацией с Фрейдом. Теперь, что касается второго фантазма, то он появляется так, как если бы нужно было, чтобы мы не смогли игнорировать взаимно обусловленное положение двух круговых контуров, маленького материнского и большого отцовского. Фантазм ещё более приближается к цели. Вечером после возвращения от Фрейда маленький Ганс снова оказывается замешанным в преступлении - он признаётся, что утром думал о том, что во время поездки с отцом на поезде они вдвоём разбили окно. Здесь также можно обнаружить означающее, которое наилучшим образом представляет желание вырваться наружу. Вдобавок они mitgenommen, их вместе уводит полицейский. И опять это финальный пункт, концовка фантазии.
2 апреля, то есть через три дня, появляется первое улучшение, и мы подозреваем, что, возможно, отец придаёт ему небольшой толчок, ведь он сам впоследствии поправляет себя перед Фрейдом: «Возможно, это улучшение и не было таким выраженным, как я вам об этом сказал». Перед нами своего рода побег - маленький Ганс заявляет, что способен немного дальше отойти от ворот. Не будем забывать, какое значение для семейной благопристойности имели ворота в те времена. При переезде мать могла сказать: «Смена этажа не имеет значения, но ворота ... ты должен передать их своему сыну». Поэтому ворота не просто так появляются в топологии того, что связано с маленьким Гансом.3
Как я говорил вам в прошлый раз, эти ворота и граница, которую они отмечают, продублированы пункт за пунктом тем, что, возможно, мы различаем не так хорошо, нежели то, о чём я говорил в прошлый раз, но что всё же остаётся в пределах видимости и представляет собой вход в здание вокзала, где начинается железнодорожный путь из города, который регулярно приводит к бабушке.
Действительно, в последний раз, тщательно проанализировав данные, я сделал для вас небольшую схему, на которой дом родителей маленького Ганса располагался на улице за таможней, Hintere Zollamtstrasse. То, что это не совсем верно, я обнаружил благодаря одной вещи, которая снова показывает нам, как часто мы не замечаем того, что у нас прямо перед носом и называется означающим, буквой.
3 Вероятно, упоминается тетка Андре Жида, которая, возможно, по мнению британских издателей, говорит подобную фразу овдовевшей матери Жида: «Переезд на несколько этажей выше не имеет большого значения, но порте-кошер (каретные ворота) - это совсем другое дело... Это твой долг перед собой, твой долг перед сыном».
Теперь, что касается второго фантазма, то он появляется так, как если бы нужно было, чтобы мы не смогли игнорировать взаимно обусловленное положение двух круговых контуров, маленького материнского и большого отцовского. Фантазм ещё более приближается к цели. Вечером после возвращения от Фрейда маленький Ганс снова оказывается замешанным в преступлении - он признаётся, что утром думал о том, что во время поездки с отцом на поезде они вдвоём разбили окно. Здесь также можно обнаружить означающее, которое наилучшим образом представляет желание вырваться наружу. Вдобавок они mitgenommen, их вместе уводит полицейский. И опять это финальный пункт, концовка фантазии.
2 апреля, то есть через три дня, появляется первое улучшение, и мы подозреваем, что, возможно, отец придаёт ему небольшой толчок, ведь он сам впоследствии поправляет себя перед Фрейдом: «Возможно, это улучшение и не было таким выраженным, как я вам об этом сказал». Перед нами своего рода побег - маленький Ганс заявляет, что способен немного дальше отойти от ворот. Не будем забывать, какое значение для семейной благопристойности имели ворота в те времена. При переезде мать могла сказать: «Смена этажа не имеет значения, но ворота ... ты должен передать их своему сыну». Поэтому ворота не просто так появляются в топологии того, что связано с маленьким Гансом.3
Как я говорил вам в прошлый раз, эти ворота и граница, которую они отмечают, продублированы пункт за пунктом тем, что, возможно, мы различаем не так хорошо, нежели то, о чём я говорил в прошлый раз, но что всё же остаётся в пределах видимости и представляет собой вход в здание вокзала, где начинается железнодорожный путь из города, который регулярно приводит к бабушке.
Действительно, в последний раз, тщательно проанализировав данные, я сделал для вас небольшую схему, на которой дом родителей маленького Ганса располагался на улице за таможней, Hintere Zollamtstrasse. То, что это не совсем верно, я обнаружил благодаря одной вещи, которая снова показывает нам, как часто мы не замечаем того, что у нас прямо перед носом и называется означающим, буквой.
3 Вероятно, упоминается тетка Андре Жида, которая, возможно, по мнению британских издателей, говорит подобную фразу овдовевшей матери Жида: «Переезд на несколько этажей выше не имеет большого значения, но порте-кошер (каретные ворота) - это совсем другое дело... Это твой долг перед собой, твой долг перед сыном».
 Уже на той схеме, которую предоставил нам Фрейд в описании случая, есть улица с названием Untere Viaductgasse.
Уже на той схеме, которую предоставил нам Фрейд в описании случая, есть улица с названием Untere Viaductgasse. По другую сторону пути есть одна незаметная улица, на которой угадывается маленькое здание. Оно обозначено на картах Вены и соответствует тому, что Фрейд называет Lagerhaus. Это специальный пункт, предназначенный для сбора таможенных пошлин при ввозе пищевых продуктов в Вену. Это разом объясняет все взаимосвязи -железнодорожный путь из Nordbahn, вагончик, сыгравший определённую роль в фантазии Ганса, таможенный пункт и в то же время дом, о котором говорит Фрейд, хорошо заметный от входа на вокзал.
Так расставлены декорации. Вот та сцена, на которой разыгрывается драма. Поэтический или, если хотите, трагический дух маленького Ганса позволит нам изучить её конструкцию.
По другую сторону пути есть одна незаметная улица, на которой угадывается маленькое здание. Оно обозначено на картах Вены и соответствует тому, что Фрейд называет Lagerhaus. Это специальный пункт, предназначенный для сбора таможенных пошлин при ввозе пищевых продуктов в Вену. Это разом объясняет все взаимосвязи -железнодорожный путь из Nordbahn, вагончик, сыгравший определённую роль в фантазии Ганса, таможенный пункт и в то же время дом, о котором говорит Фрейд, хорошо заметный от входа на вокзал.
Так расставлены декорации. Вот та сцена, на которой разыгрывается драма. Поэтический или, если хотите, трагический дух маленького Ганса позволит нам изучить её конструкцию. 2
Как понимать необходимость маленького Ганса перейти на более широкий круг?
Как я вам уже сказал, всё сводится к тупиковому положению, которое возникает в отношениях Ганса с его матерью. Мы видим это совершенно отчётливо. До определённого момента именно мать удостоверяла его вхождение в мир. Кризис, который переживает ребёнок, мы можем буквально видеть в тревоге, препятствующей маленькому Гансу выйти за определенный круг, покинуть пределы видимости дома.
Часто бывает так, что одержимые рядом наиболее распространённых и преобладающих смыслов, мы не замечаем того, что наиболее очевидным образом прописано в тексте симптома на уровне означающего наравне с фобией. Именно в сторону своего дома беспокойно оборачивается маленький Ганс во время посадки (embarquement). Почему мы упорно не замечаем, что нам остаётся всего лишь передать это так, как это себе представляет Ганс? Он боится не просто того, что кого-нибудь не окажется дома, когда он вернётся, тем более что отец не постоянно пребывает внутри этого замкнутого контура, и мать, судя по всему, весьма этому способствует. Как показывает фантазия, где маленький Ганс оказывается на телеге, важным является то, что в этот момент уходит весь дом, что с места снимаются все. По сути, всё дело в доме. Речь идёт о доме с тех пор, как маленький Ганс понял, что может скучать по матери, но в то же время остаётся с ней одним целым. Он боится не столько того, чтобы быть с ней разлучённым, сколько отправиться с ней Бог знает куда. Мы постоянно обнаруживаем этот элемент в наблюдении - он настолько слился с матерью, что больше не знает, где находится он сам.
Я сошлюсь только на один эпизод. Речь идёт о втором эпизоде 5 апреля, о котором я вам только что говорил, когда Ганс отмечает, возможно, в несколько необязательной манере, появление своей глупости. По его словам, он был со своей матерью, и это случилось сразу после покупки жилетки. Они увидели лошадь, запряжённую в омнибус, которая упала на землю. Речь идёт о тех омнибусах, из которых он смотрел на лошадей. Как мне известно, они обладали большими крупами. Когда лошадь падает, что-то подсказывает Гансу, что «теперь так будет всегда - все лошади омнибусов будут падать».
Чтобы оживить японский цветок в воде наблюдений, почему бы, просто следуя любознательности отца, и нам не задаться вопросом, что происходит, когда маленький Ганс остаётся с матерью. Отец спрашивает: «Так где ты был в этот день со своей мамой?» Мы получаем представление о пунктах программы - они были в Skating Ring, потом в Kaffeehouse, сразу же после случилось падение и, наконец, - этот эпизод резко контрастирует с тем, что мы проследили до этого момента - они идут к кондитеру. Тот факт, что они были beim Zuckerbäcker mit der Mammi, у кондитера с мамой, что они провели весь день вместе, определённо указывает на то, что произошло нечто особенное, но я бы не стал называть это провалом или цензурой со стороны ребёнка. Ганс подчёркивает, что был с матерью, а не с кем-то другим, кто, возможно, ошивался поблизости. Это вместе с мамой, mit der Mammi, имеет в речи Ганса то же значение, тот же акцент, который он подчёркивает, когда говорит - Nich mit der Mariedl, ganz allein mit der Mariedl.
Тон, в котором отец, задавая далеко идущий вопрос и быстро от него отступаясь, обнаруживает для нас черту, обозначенную не менее чётко выше, когда маленький Ганс,
2
Как понимать необходимость маленького Ганса перейти на более широкий круг?
Как я вам уже сказал, всё сводится к тупиковому положению, которое возникает в отношениях Ганса с его матерью. Мы видим это совершенно отчётливо. До определённого момента именно мать удостоверяла его вхождение в мир. Кризис, который переживает ребёнок, мы можем буквально видеть в тревоге, препятствующей маленькому Гансу выйти за определенный круг, покинуть пределы видимости дома.
Часто бывает так, что одержимые рядом наиболее распространённых и преобладающих смыслов, мы не замечаем того, что наиболее очевидным образом прописано в тексте симптома на уровне означающего наравне с фобией. Именно в сторону своего дома беспокойно оборачивается маленький Ганс во время посадки (embarquement). Почему мы упорно не замечаем, что нам остаётся всего лишь передать это так, как это себе представляет Ганс? Он боится не просто того, что кого-нибудь не окажется дома, когда он вернётся, тем более что отец не постоянно пребывает внутри этого замкнутого контура, и мать, судя по всему, весьма этому способствует. Как показывает фантазия, где маленький Ганс оказывается на телеге, важным является то, что в этот момент уходит весь дом, что с места снимаются все. По сути, всё дело в доме. Речь идёт о доме с тех пор, как маленький Ганс понял, что может скучать по матери, но в то же время остаётся с ней одним целым. Он боится не столько того, чтобы быть с ней разлучённым, сколько отправиться с ней Бог знает куда. Мы постоянно обнаруживаем этот элемент в наблюдении - он настолько слился с матерью, что больше не знает, где находится он сам.
Я сошлюсь только на один эпизод. Речь идёт о втором эпизоде 5 апреля, о котором я вам только что говорил, когда Ганс отмечает, возможно, в несколько необязательной манере, появление своей глупости. По его словам, он был со своей матерью, и это случилось сразу после покупки жилетки. Они увидели лошадь, запряжённую в омнибус, которая упала на землю. Речь идёт о тех омнибусах, из которых он смотрел на лошадей. Как мне известно, они обладали большими крупами. Когда лошадь падает, что-то подсказывает Гансу, что «теперь так будет всегда - все лошади омнибусов будут падать».
Чтобы оживить японский цветок в воде наблюдений, почему бы, просто следуя любознательности отца, и нам не задаться вопросом, что происходит, когда маленький Ганс остаётся с матерью. Отец спрашивает: «Так где ты был в этот день со своей мамой?» Мы получаем представление о пунктах программы - они были в Skating Ring, потом в Kaffeehouse, сразу же после случилось падение и, наконец, - этот эпизод резко контрастирует с тем, что мы проследили до этого момента - они идут к кондитеру. Тот факт, что они были beim Zuckerbäcker mit der Mammi, у кондитера с мамой, что они провели весь день вместе, определённо указывает на то, что произошло нечто особенное, но я бы не стал называть это провалом или цензурой со стороны ребёнка. Ганс подчёркивает, что был с матерью, а не с кем-то другим, кто, возможно, ошивался поблизости. Это вместе с мамой, mit der Mammi, имеет в речи Ганса то же значение, тот же акцент, который он подчёркивает, когда говорит - Nich mit der Mariedl, ganz allein mit der Mariedl.
Тон, в котором отец, задавая далеко идущий вопрос и быстро от него отступаясь, обнаруживает для нас черту, обозначенную не менее чётко выше, когда маленький Ганс, найдя своего отца в его кровати, говорит, что во время его отсутствия он боялся, что тот не вернётся домой. «Разве я угрожал тебе когда-нибудь уйти?» - спрашивает отец. На что Ганс отвечает: «Мне никто никогда не говорил, что ты уйдёшь, но мама мне однажды сказала, что она уйдёт». На что отец, чтобы замаскировать возникший провал, говорит ему: «Она так сказала, потому что ты не слушался».
В действительности мы очень хорошо видим, о чём постоянно идёт речь. Отступив от стиля полицейского расследования, скажем, что именно это вызывает у маленького Ганса сомнение в согласии между родителями и отчётливо даёт о себе знать в катамнезе наблюдения. Вокруг этого пункта живёт тревога быть унесённым вместе с материнским жилищем (baraque), которая обнаруживает своё присутствие с первого же фантазма.
Кроме того, что лошадь может упасть, что представляет собой угрозу для маленького Ганса, есть и другая сторона опасности - быть лошадью укушенным.
Является ли этот укус возмездием, страх которого возникает в кризисный момент обнаружения маленьким Гансом очевидности того факта, что он больше не может удовлетворить свою мать? Здесь можно искать то, что в путаной манере привыкли использовать в рамках идеи о возврате садистического импульса, играющего, как вам известно, важную роль в кляйнианских мотивах. Но дело не столько в этом, сколько в том, на что я вам уже указал, в том, с помощью чего ребёнок подавляет своё разочарование в любви. И наоборот, если разочаровывает он сам, разве не увидит он, что сам подвергается риску быть поглощённым? Ненасытная и невыносимо обездоленная мать тоже может укусить. Опасность этого угрожает ему в силу собственного лишения всё больше и больше, и это остается незаметным, поскольку он не может укусить в ответ. Всегда получается так, что лошадь представляет одновременно и падение, и укус, обладает сразу двумя этими характеристиками. Я указываю вам здесь на это, хотя в первом круговом контуре элемент укуса мы наблюдаем исключительно в скрытом виде.
Проследим ход вещей и нанесём разметку на то, что будет происходить, начиная с определённого момента, который мы примем в расчёт и обратим внимание на то, каким образом он возникает, хотя бы нам и пришлось перебрать фантазмы маленького Ганса последовательно, один за другим. С этого самого момента было произведено определённое количество других фантазмов, которые размечают то, что я назвал последовательностью мифических перестановок.
Миф на индивидуальном уровне в своих разнообразных характерных чертах отличается от развитой мифологии, которая является основой социального уклада в мире и везде, где мифы представлены своей функцией. Но даже там, где очевидно их отсутствие, как в случае нашей научной цивилизации, не стоит думать, что их совсем нигде нет. Хотя индивидуальный миф ни в коем случае нельзя полностью отождествлять с развитой мифологией, тем не менее они обладают общим характером - они исполняют функцию решения в тупиковой ситуации, как та, в которой оказывается маленький Ганс со своим отцом и своей матерью. Этот сущностный характер мифического развития воспроизводится в малой форме индивидуального мифа везде, где мы можем его в достаточной мере распознать. В целом, он представляет собой способ справиться с неразрешимой ситуацией путём последовательной артикуляции всех возможных форм неразрешимости.
Именно так мифическое творение даёт ответ на вопрос. Оно проходит полный круг того, что представляется одновременно как возможное открытие и как открытие,
найдя своего отца в его кровати, говорит, что во время его отсутствия он боялся, что тот не вернётся домой. «Разве я угрожал тебе когда-нибудь уйти?» - спрашивает отец. На что Ганс отвечает: «Мне никто никогда не говорил, что ты уйдёшь, но мама мне однажды сказала, что она уйдёт». На что отец, чтобы замаскировать возникший провал, говорит ему: «Она так сказала, потому что ты не слушался».
В действительности мы очень хорошо видим, о чём постоянно идёт речь. Отступив от стиля полицейского расследования, скажем, что именно это вызывает у маленького Ганса сомнение в согласии между родителями и отчётливо даёт о себе знать в катамнезе наблюдения. Вокруг этого пункта живёт тревога быть унесённым вместе с материнским жилищем (baraque), которая обнаруживает своё присутствие с первого же фантазма.
Кроме того, что лошадь может упасть, что представляет собой угрозу для маленького Ганса, есть и другая сторона опасности - быть лошадью укушенным.
Является ли этот укус возмездием, страх которого возникает в кризисный момент обнаружения маленьким Гансом очевидности того факта, что он больше не может удовлетворить свою мать? Здесь можно искать то, что в путаной манере привыкли использовать в рамках идеи о возврате садистического импульса, играющего, как вам известно, важную роль в кляйнианских мотивах. Но дело не столько в этом, сколько в том, на что я вам уже указал, в том, с помощью чего ребёнок подавляет своё разочарование в любви. И наоборот, если разочаровывает он сам, разве не увидит он, что сам подвергается риску быть поглощённым? Ненасытная и невыносимо обездоленная мать тоже может укусить. Опасность этого угрожает ему в силу собственного лишения всё больше и больше, и это остается незаметным, поскольку он не может укусить в ответ. Всегда получается так, что лошадь представляет одновременно и падение, и укус, обладает сразу двумя этими характеристиками. Я указываю вам здесь на это, хотя в первом круговом контуре элемент укуса мы наблюдаем исключительно в скрытом виде.
Проследим ход вещей и нанесём разметку на то, что будет происходить, начиная с определённого момента, который мы примем в расчёт и обратим внимание на то, каким образом он возникает, хотя бы нам и пришлось перебрать фантазмы маленького Ганса последовательно, один за другим. С этого самого момента было произведено определённое количество других фантазмов, которые размечают то, что я назвал последовательностью мифических перестановок.
Миф на индивидуальном уровне в своих разнообразных характерных чертах отличается от развитой мифологии, которая является основой социального уклада в мире и везде, где мифы представлены своей функцией. Но даже там, где очевидно их отсутствие, как в случае нашей научной цивилизации, не стоит думать, что их совсем нигде нет. Хотя индивидуальный миф ни в коем случае нельзя полностью отождествлять с развитой мифологией, тем не менее они обладают общим характером - они исполняют функцию решения в тупиковой ситуации, как та, в которой оказывается маленький Ганс со своим отцом и своей матерью. Этот сущностный характер мифического развития воспроизводится в малой форме индивидуального мифа везде, где мы можем его в достаточной мере распознать. В целом, он представляет собой способ справиться с неразрешимой ситуацией путём последовательной артикуляции всех возможных форм неразрешимости.
Именно так мифическое творение даёт ответ на вопрос. Оно проходит полный круг того, что представляется одновременно как возможное открытие и как открытие, которое невозможно совершить. Когда круговой контур замыкается, оказывается реализовано нечто такое, что означает, что субъект вышел на уровень вопроса. Именно поэтому Ганс невротик, а не перверт.
Не будет натяжкой отличить одно направление его развития от возможного другого. Это направление отмечено в самом наблюдении, и я ещё вернусь к нему в следующий раз. Но уже сейчас могу сказать вам, что всё происходящее вокруг панталон матери негативно указывает на возможный выбор иного пути, который мог бы привести Ганса к фетишизму.
Маленькие панталоны представляют не что иное, как возможность для Ганса другого решения, состоящего в фиксации его на этих маленьких панталонах, за которыми ничего нет, но на которых он сможет нарисовать всё, что ему захочется. Именно по той простой причине, что маленький Ганс не является обычным любителем природы, он метафизик. Он ставит вопрос там, где он есть, то есть в том пункте, где чего-то не хватает. И там он спрашивает, в чём причина - в том смысле, в котором мы говорим о причине математической - этой нехватки бытия. И он будет вести себя совершенно так же, как любой другой коллективный ум первобытного племени, в строгом соответствии с нашими представлениями, проходя по кругу все возможные решения, применяя батарею выбранных означающих. Никогда не забывайте, что означающее в этом процессе не представляет значения, скорее, оно исполняет функцию заполнения пробелов значения, которое ничего не значит. Именно потому, что значение является буквально потерянным, именно потому, что, как в сказке о Дюймовочке, утрачена нить, возникают камешки означающего, чтобы заполнить дыру и пустоту.
В прошлый раз я привёл вам три примера из числа таких фантазмов: фантазм о повозке перед погрузочной платформой, ещё один - о долгих сборах при выходе из поезда в Гмунден и, наконец, об отправлении с бабушкой и возвращении, несмотря на очевидную невозможность этого, к отцу.
Мы продолжим эту серию другими фантазмами, которые проиллюстрируют то, о чём я вам сейчас говорю, поскольку если мы сумеем их прочитать, то они исчерпывающе представят и модифицируют перестановку элементов.
3
Первый фантазм этой серии сразу же покажет вам, где осуществляется переход. Он случается 11 апреля, на довольно позднем этапе развития диалога между отцом и маленьким Гансом. Это фантазм о ванной, над которой все склоняются с видом растроганного умиления, как если бы они увидели там знакомое лицо, но не могли понять, чьё именно.
Фантазм состоит в следующем. Ганс в ванной. Я уже достаточно сказал вам, чтобы вы смогли уловить насколько это «в ванной» является близким к «в экипаже», иначе говоря, к фундаментальному «в жилище» (baraque) - это связь с той самой всегда готовой скрыться штуковиной, которая воплощает собой материнскую поддержку. И вот входит некто, воплощающий в той или иной форме ожидаемого здесь третьего, - в данном случае Schlosser, слесарь, который отвинчивает ванну. Больше нам о нём ничего не известно. Он отвинчивает ванну, затем своим сверлом, Bohrer - Фрейд без раздумий отмечает здесь вероятность намёка на «быть рождённым», geboren - протыкает живот маленького Ганса.
которое невозможно совершить. Когда круговой контур замыкается, оказывается реализовано нечто такое, что означает, что субъект вышел на уровень вопроса. Именно поэтому Ганс невротик, а не перверт.
Не будет натяжкой отличить одно направление его развития от возможного другого. Это направление отмечено в самом наблюдении, и я ещё вернусь к нему в следующий раз. Но уже сейчас могу сказать вам, что всё происходящее вокруг панталон матери негативно указывает на возможный выбор иного пути, который мог бы привести Ганса к фетишизму.
Маленькие панталоны представляют не что иное, как возможность для Ганса другого решения, состоящего в фиксации его на этих маленьких панталонах, за которыми ничего нет, но на которых он сможет нарисовать всё, что ему захочется. Именно по той простой причине, что маленький Ганс не является обычным любителем природы, он метафизик. Он ставит вопрос там, где он есть, то есть в том пункте, где чего-то не хватает. И там он спрашивает, в чём причина - в том смысле, в котором мы говорим о причине математической - этой нехватки бытия. И он будет вести себя совершенно так же, как любой другой коллективный ум первобытного племени, в строгом соответствии с нашими представлениями, проходя по кругу все возможные решения, применяя батарею выбранных означающих. Никогда не забывайте, что означающее в этом процессе не представляет значения, скорее, оно исполняет функцию заполнения пробелов значения, которое ничего не значит. Именно потому, что значение является буквально потерянным, именно потому, что, как в сказке о Дюймовочке, утрачена нить, возникают камешки означающего, чтобы заполнить дыру и пустоту.
В прошлый раз я привёл вам три примера из числа таких фантазмов: фантазм о повозке перед погрузочной платформой, ещё один - о долгих сборах при выходе из поезда в Гмунден и, наконец, об отправлении с бабушкой и возвращении, несмотря на очевидную невозможность этого, к отцу.
Мы продолжим эту серию другими фантазмами, которые проиллюстрируют то, о чём я вам сейчас говорю, поскольку если мы сумеем их прочитать, то они исчерпывающе представят и модифицируют перестановку элементов.
3
Первый фантазм этой серии сразу же покажет вам, где осуществляется переход. Он случается 11 апреля, на довольно позднем этапе развития диалога между отцом и маленьким Гансом. Это фантазм о ванной, над которой все склоняются с видом растроганного умиления, как если бы они увидели там знакомое лицо, но не могли понять, чьё именно.
Фантазм состоит в следующем. Ганс в ванной. Я уже достаточно сказал вам, чтобы вы смогли уловить насколько это «в ванной» является близким к «в экипаже», иначе говоря, к фундаментальному «в жилище» (baraque) - это связь с той самой всегда готовой скрыться штуковиной, которая воплощает собой материнскую поддержку. И вот входит некто, воплощающий в той или иной форме ожидаемого здесь третьего, - в данном случае Schlosser, слесарь, который отвинчивает ванну. Больше нам о нём ничего не известно. Он отвинчивает ванну, затем своим сверлом, Bohrer - Фрейд без раздумий отмечает здесь вероятность намёка на «быть рождённым», geboren - протыкает живот маленького Ганса. Используя обычные методы интерпретации, которые у нас в ходу, мы тут же пытаемся навязать определённые представления и бог знает что можем наговорить об этом фантазме. Отец не преминул связать это со сценой, которая обычно происходит в материнской кровати, а именно с тем, что маленький Ганс преследует отца и в некотором смысле заменяет его и впоследствии становится объектом если не материнской, то его агрессии. Конечно, нельзя признать всё это в корне ошибочным, но, чтобы оставаться строго на уровне происходящего, скажем, что если ванна соответствует Wägen, той вещи, о преодолении единения с которой идёт для маленького Ганса речь, то тот факт, что она отвинчивается, следует иметь в виду.
С другой стороны, следует иметь в виду участие в фантазме маленького Ганса элемента проколотого живота. Мы действительно можем полагать, что в системе перестановок именно он в конечном итоге перенимает дыру матери, ту самую бездну, последнюю и решающую точку всего вопроса, не поддающуюся наблюдению в виде размытого чёрного пятна на лошадиной морде, именно на том уровне, где она кусает, ту самую вещь, на которую ему не следовало смотреть. Если вы обратите внимание на этот момент, то увидите, что ровно так же маленький Ганс говорит о панталонах матери.
Маленький Ганс против всех предположений отца, который, вопреки здравому смыслу, продолжает его расспрашивать, приводит два, и только два элемента. Я расскажу вам о втором в следующий раз, когда мы вернёмся к анализу этого момента, а первый звучит следующим образом: «Ты напишешь профессору и скажешь ему, что я увидел панталоны, плюнул, упал на землю и закрыл глаза, чтобы не смотреть на них». Ну а в фантазии о ванне он уже не смотрит, но присваивает дыру, то есть принимает материнскую позицию. Здесь мы оказываемся на уровне обращённого комплекса Эдипа, чья означающая перспектива показывает нам, насколько он необходим, поскольку является только фазой позитивного комплекса Эдипа.
Что происходит дальше? В одном из последующих за 22 апреля фантазмов мы возвращаемся к другой позиции, которая связана с вагончиком. Маленький Ганс, прекрасно узнаваемый в мальчугане, поднимается в вагончик. Его оставляют там совсем голого на всю ночь. И это нечто весьма неоднозначное, вызывающее одновременно и желание, и страх. Это напрямую связано с предыдущим моментом, когда он в диалоге, на первостепенное значение которого я вам уже указывал, говорит своему отцу: «Ты был там как голый», als nackter.
В статье, о которой я вам говорил, Роберт Флисс в отношении этого подчёркивает категоричный характер словаря ребёнка, как если бы на него снизошёл вдруг библейский дух, что озадачивает всех до такой степени, что приходится спешно сделать уточнение в скобках, чтобы как-то исправить положение: «Он имел в виду босиком». Флисс совершенно справедливо указывает, на что именно обращает внимание стиль термина и как он точно вписывается в следующий момент, когда он в очередной раз призывает отца: «Делай свою работу». В конце концов, мы не можем знать, каким образом мать удовлетворена, но это должно, по крайней мере, произойти: «Ты должен это сделать, это должно быть по-настоящему». Das muss wahr sein, что означает «будь настоящим отцом».
Сразу после того, как Гансу удается выложить эту формулу, которая показывает нам, к чему он взывает в реальности, у него возникает фантазм о том, что он провёл всю ночь в повозке, в более широком круговом контуре железной дороги. Он проводит там всю ночь, хотя до сих пор отношения с матерью протекали, в принципе, на полной
Используя обычные методы интерпретации, которые у нас в ходу, мы тут же пытаемся навязать определённые представления и бог знает что можем наговорить об этом фантазме. Отец не преминул связать это со сценой, которая обычно происходит в материнской кровати, а именно с тем, что маленький Ганс преследует отца и в некотором смысле заменяет его и впоследствии становится объектом если не материнской, то его агрессии. Конечно, нельзя признать всё это в корне ошибочным, но, чтобы оставаться строго на уровне происходящего, скажем, что если ванна соответствует Wägen, той вещи, о преодолении единения с которой идёт для маленького Ганса речь, то тот факт, что она отвинчивается, следует иметь в виду.
С другой стороны, следует иметь в виду участие в фантазме маленького Ганса элемента проколотого живота. Мы действительно можем полагать, что в системе перестановок именно он в конечном итоге перенимает дыру матери, ту самую бездну, последнюю и решающую точку всего вопроса, не поддающуюся наблюдению в виде размытого чёрного пятна на лошадиной морде, именно на том уровне, где она кусает, ту самую вещь, на которую ему не следовало смотреть. Если вы обратите внимание на этот момент, то увидите, что ровно так же маленький Ганс говорит о панталонах матери.
Маленький Ганс против всех предположений отца, который, вопреки здравому смыслу, продолжает его расспрашивать, приводит два, и только два элемента. Я расскажу вам о втором в следующий раз, когда мы вернёмся к анализу этого момента, а первый звучит следующим образом: «Ты напишешь профессору и скажешь ему, что я увидел панталоны, плюнул, упал на землю и закрыл глаза, чтобы не смотреть на них». Ну а в фантазии о ванне он уже не смотрит, но присваивает дыру, то есть принимает материнскую позицию. Здесь мы оказываемся на уровне обращённого комплекса Эдипа, чья означающая перспектива показывает нам, насколько он необходим, поскольку является только фазой позитивного комплекса Эдипа.
Что происходит дальше? В одном из последующих за 22 апреля фантазмов мы возвращаемся к другой позиции, которая связана с вагончиком. Маленький Ганс, прекрасно узнаваемый в мальчугане, поднимается в вагончик. Его оставляют там совсем голого на всю ночь. И это нечто весьма неоднозначное, вызывающее одновременно и желание, и страх. Это напрямую связано с предыдущим моментом, когда он в диалоге, на первостепенное значение которого я вам уже указывал, говорит своему отцу: «Ты был там как голый», als nackter.
В статье, о которой я вам говорил, Роберт Флисс в отношении этого подчёркивает категоричный характер словаря ребёнка, как если бы на него снизошёл вдруг библейский дух, что озадачивает всех до такой степени, что приходится спешно сделать уточнение в скобках, чтобы как-то исправить положение: «Он имел в виду босиком». Флисс совершенно справедливо указывает, на что именно обращает внимание стиль термина и как он точно вписывается в следующий момент, когда он в очередной раз призывает отца: «Делай свою работу». В конце концов, мы не можем знать, каким образом мать удовлетворена, но это должно, по крайней мере, произойти: «Ты должен это сделать, это должно быть по-настоящему». Das muss wahr sein, что означает «будь настоящим отцом».
Сразу после того, как Гансу удается выложить эту формулу, которая показывает нам, к чему он взывает в реальности, у него возникает фантазм о том, что он провёл всю ночь в повозке, в более широком круговом контуре железной дороги. Он проводит там всю ночь, хотя до сих пор отношения с матерью протекали, в принципе, на полной скорости, Geschwind. До сих пор он именно этого и хотел. Кстати, так он и объясняет это своему отцу 21 апреля во время диалога, о котором я вам говорю. «На самом деле, -говорит он, развивая фантазию, - тебе нужно пойти ударить ногой о камень и пораниться, тогда у тебя пойдёт кровь, и ты исчезнешь. И это даст мне время побыть немного на твоем месте, пока ты не вернёшься». Здесь обнаруживает себя ритм того, что можно назвать первоначальной игрой в преступление с матерью - игрой, которая только своим подспудным характером и поддерживалась.
Другой фантазм появляется 22 апреля. Маленький Ганс проводит всю ночь в вагончике, и на следующее утро кондуктор получает 50 тысяч гульденов - что в эпоху наблюдения представляет собой круглую сумму - за то, чтобы он позволил мальчику продолжить путь на этом же поезде.
Ещё один фантазм от 2 мая, похожий на завершение истории, её вершину, конечный пункт, на котором маленький Ганс останавливается. На этот раз появляется не просто слесарь, но водопроводчик, установщик, der Installateur, который приходит со своими клещами, что подчёркивает характер откручивания. Неверно переводить Zange как отвёртка, Schraubenzieher, под предлогом того, что это был именно заострённый инструмент, шило, Bohrer. Zange - это острогубцы для откручивания винтов. И то, что им отвинчивается, это зад маленького Ганса, чтобы установить на его место другой.
Так что здесь сделан ещё один шаг. Наложение этой фантазии на предыдущую, которая касается ванны, становится достаточно очевидным благодаря тому факту, что соответствие размеров этого зада и этой ванны было довольно точно описано самим маленьким Гансом. Ему хорошо только в ванне их дома в Вене, потому что в неё точно умещается его маленький зад, ему в ней удобно. В этом всё и дело - подходит она ему или не подходит. Дома - да, он её заполняет, и ему даже приходится занимать в ней сидячее положение. Но в тех местах, где ванна больше и далека от того, чтобы предоставить такие же гарантии, у него вновь возникают фантазии поглощения и тревоги, которые не позволяют ему купаться где-либо ещё, в Гмундене или в любой другой ванне больших размеров.
На уровне схемы открученный зад накладывается на открученную до этого ванну, хотя по значению они не эквивалентны. Есть здесь и соответствие - с некоторыми изменениями - с тем фактом, что телега, которая некоторое время плотно прижималась к пандусу, трогается и отделяется от него.
Я завершаю последний фантазм. Потом установщик говорит маленькому Гансу: «Развернись и покажи свой Wiwi», который не вполне настоящий, поскольку с его помощью не удалось соблазнить мать. И на этом все подытоживают интерпретацию, рассказывая, что установщик его откручивает, чтобы дать лучший. К сожалению, в тексте это не так. Ничто не указывает на то, что в конечном итоге маленький Ганс полностью преодолел переход, означающий комплекс кастрации.
Если есть нечто такое, что определяет комплекс кастрации, то состоит это в следующем - пениса нет, но отец может дать другой. Скажем больше: поскольку переход к символическому порядку является необходимым, всегда нужно, чтобы до определённого момента имело место отнятие пениса, а затем его возврат. Естественно, его невозможно вернуть, поскольку всё то, что является символическим, по определению не способно его вернуть. В этом и состоит драма комплекса кастрации -пенис отнимается и возвращается лишь символически.
скорости, Geschwind. До сих пор он именно этого и хотел. Кстати, так он и объясняет это своему отцу 21 апреля во время диалога, о котором я вам говорю. «На самом деле, -говорит он, развивая фантазию, - тебе нужно пойти ударить ногой о камень и пораниться, тогда у тебя пойдёт кровь, и ты исчезнешь. И это даст мне время побыть немного на твоем месте, пока ты не вернёшься». Здесь обнаруживает себя ритм того, что можно назвать первоначальной игрой в преступление с матерью - игрой, которая только своим подспудным характером и поддерживалась.
Другой фантазм появляется 22 апреля. Маленький Ганс проводит всю ночь в вагончике, и на следующее утро кондуктор получает 50 тысяч гульденов - что в эпоху наблюдения представляет собой круглую сумму - за то, чтобы он позволил мальчику продолжить путь на этом же поезде.
Ещё один фантазм от 2 мая, похожий на завершение истории, её вершину, конечный пункт, на котором маленький Ганс останавливается. На этот раз появляется не просто слесарь, но водопроводчик, установщик, der Installateur, который приходит со своими клещами, что подчёркивает характер откручивания. Неверно переводить Zange как отвёртка, Schraubenzieher, под предлогом того, что это был именно заострённый инструмент, шило, Bohrer. Zange - это острогубцы для откручивания винтов. И то, что им отвинчивается, это зад маленького Ганса, чтобы установить на его место другой.
Так что здесь сделан ещё один шаг. Наложение этой фантазии на предыдущую, которая касается ванны, становится достаточно очевидным благодаря тому факту, что соответствие размеров этого зада и этой ванны было довольно точно описано самим маленьким Гансом. Ему хорошо только в ванне их дома в Вене, потому что в неё точно умещается его маленький зад, ему в ней удобно. В этом всё и дело - подходит она ему или не подходит. Дома - да, он её заполняет, и ему даже приходится занимать в ней сидячее положение. Но в тех местах, где ванна больше и далека от того, чтобы предоставить такие же гарантии, у него вновь возникают фантазии поглощения и тревоги, которые не позволяют ему купаться где-либо ещё, в Гмундене или в любой другой ванне больших размеров.
На уровне схемы открученный зад накладывается на открученную до этого ванну, хотя по значению они не эквивалентны. Есть здесь и соответствие - с некоторыми изменениями - с тем фактом, что телега, которая некоторое время плотно прижималась к пандусу, трогается и отделяется от него.
Я завершаю последний фантазм. Потом установщик говорит маленькому Гансу: «Развернись и покажи свой Wiwi», который не вполне настоящий, поскольку с его помощью не удалось соблазнить мать. И на этом все подытоживают интерпретацию, рассказывая, что установщик его откручивает, чтобы дать лучший. К сожалению, в тексте это не так. Ничто не указывает на то, что в конечном итоге маленький Ганс полностью преодолел переход, означающий комплекс кастрации.
Если есть нечто такое, что определяет комплекс кастрации, то состоит это в следующем - пениса нет, но отец может дать другой. Скажем больше: поскольку переход к символическому порядку является необходимым, всегда нужно, чтобы до определённого момента имело место отнятие пениса, а затем его возврат. Естественно, его невозможно вернуть, поскольку всё то, что является символическим, по определению не способно его вернуть. В этом и состоит драма комплекса кастрации -пенис отнимается и возвращается лишь символически. Но в данном случае мы видим, что пенис символически отнимается, но не возвращается. Таким образом, нужно понять, каким окружным путём проследовал Ганс, чтобы удовлетворительным образом решить этот вопрос.
Можно сказать, что с точки зрения рассмотрения вопроса довольно уже того, что Ганс сделал дополнительный круг, и что самого факта, что это именно окружность или круговой контур, достаточно, чтобы совершить обряд перехода и наделить его тем же значением, которое имело бы прохождение по полному кругу. Вопрос, по крайней мере, поставлен.
Всегда остаётся фактом, что только в строго заданном поле анализа означающего мы можем продвинуться в понимании симптоматических образований. Перед тем как вас покинуть, я, как всегда, постараюсь вас немного развлечь и покажу вам это в заключительном замечании.
Что представляют собой эти клещи? Откуда они взялись? О них ничего не говорилось на протяжении всей истории. Мать могла сказать: «Тебе это отрежут». Отец никогда не говорил: «Тебе это открутят». Тем не менее, если оставаться на уровне означающего, то именно этим инструментом пользуется установщик, когда дело доходит до отвинчивания зада, и не остаётся никаких сомнений, что речь идёт о клещах или острогубцах.
Некогда я узнал, что те самые большие зубы, которыми лошадь могла бы укусить за палец маленького Ганса, на всех языках называются клещами (на русском - резцами). Вдобавок, передняя часть копыта, которым лошадь создаёт свой маленький Krawall, тоже называется клещами, на немецком Zange. Это слово имеет те же самые два смысла во французском.
Я скажу вам больше, в греческом языке ХП^П [kele] имеет точно такое же значение. Конечно, я не нашел его, полистав руководство слесаря на греческом языке, которого не существует, но я обнаружил его случайно в прологе пьесы Финикиянки Еврипида.
Иокаста перед тем, как рассказать историю Антигоны, сообщает очень любопытную деталь относительно того, что произошло во время убийства Лая. С такой же тщательностью, с какой я проследил пути всех этих маленьких железнодорожных сетей и венских улиц, она объясняет, откуда прибыли тот и другой. Они оба двигались в Дельфы и встретились на перекрёстке, вспыхнула ссора из-за приоритета в движении между тем, кто ехал на большой колеснице, и другим, который путешествовал пешком. Движение, столкновение, схватка и более сильный Эдип проходит первым. В этот момент Иокаста позаботилась о том, чтобы указать на то, - эту деталь я больше нигде не встречал - что ссора случилась по той причине, что один из скакунов ударил своим копытом, ХП^П, пятку Эдипа.
Так что для исполнения своей судьбы Эдипу было недостаточно, чтобы его ноги распухли из-за маленькой броши, с помощью которой ему проткнули лодыжки, нужно было, чтобы в точности как отцу маленького Ганса, его ногу повредила своим копытом лошадь - тем копытом, которое как на греческом, так и на немецком, и на французском называется клещи, поскольку ХП^П также означает клещи или острогубцы.
Это замечание предназначалось для того, чтобы показать вам, что я ничуть не преувеличиваю, когда говорю, что в последовательности фантазматических конструкций маленького Ганса всегда обращается один и тот же материал.
15 мая 1957
Но в данном случае мы видим, что пенис символически отнимается, но не возвращается. Таким образом, нужно понять, каким окружным путём проследовал Ганс, чтобы удовлетворительным образом решить этот вопрос.
Можно сказать, что с точки зрения рассмотрения вопроса довольно уже того, что Ганс сделал дополнительный круг, и что самого факта, что это именно окружность или круговой контур, достаточно, чтобы совершить обряд перехода и наделить его тем же значением, которое имело бы прохождение по полному кругу. Вопрос, по крайней мере, поставлен.
Всегда остаётся фактом, что только в строго заданном поле анализа означающего мы можем продвинуться в понимании симптоматических образований. Перед тем как вас покинуть, я, как всегда, постараюсь вас немного развлечь и покажу вам это в заключительном замечании.
Что представляют собой эти клещи? Откуда они взялись? О них ничего не говорилось на протяжении всей истории. Мать могла сказать: «Тебе это отрежут». Отец никогда не говорил: «Тебе это открутят». Тем не менее, если оставаться на уровне означающего, то именно этим инструментом пользуется установщик, когда дело доходит до отвинчивания зада, и не остаётся никаких сомнений, что речь идёт о клещах или острогубцах.
Некогда я узнал, что те самые большие зубы, которыми лошадь могла бы укусить за палец маленького Ганса, на всех языках называются клещами (на русском - резцами). Вдобавок, передняя часть копыта, которым лошадь создаёт свой маленький Krawall, тоже называется клещами, на немецком Zange. Это слово имеет те же самые два смысла во французском.
Я скажу вам больше, в греческом языке ХП^П [kele] имеет точно такое же значение. Конечно, я не нашел его, полистав руководство слесаря на греческом языке, которого не существует, но я обнаружил его случайно в прологе пьесы Финикиянки Еврипида.
Иокаста перед тем, как рассказать историю Антигоны, сообщает очень любопытную деталь относительно того, что произошло во время убийства Лая. С такой же тщательностью, с какой я проследил пути всех этих маленьких железнодорожных сетей и венских улиц, она объясняет, откуда прибыли тот и другой. Они оба двигались в Дельфы и встретились на перекрёстке, вспыхнула ссора из-за приоритета в движении между тем, кто ехал на большой колеснице, и другим, который путешествовал пешком. Движение, столкновение, схватка и более сильный Эдип проходит первым. В этот момент Иокаста позаботилась о том, чтобы указать на то, - эту деталь я больше нигде не встречал - что ссора случилась по той причине, что один из скакунов ударил своим копытом, ХП^П, пятку Эдипа.
Так что для исполнения своей судьбы Эдипу было недостаточно, чтобы его ноги распухли из-за маленькой броши, с помощью которой ему проткнули лодыжки, нужно было, чтобы в точности как отцу маленького Ганса, его ногу повредила своим копытом лошадь - тем копытом, которое как на греческом, так и на немецком, и на французском называется клещи, поскольку ХП^П также означает клещи или острогубцы.
Это замечание предназначалось для того, чтобы показать вам, что я ничуть не преувеличиваю, когда говорю, что в последовательности фантазматических конструкций маленького Ганса всегда обращается один и тот же материал.
15 мая 1957
 Однако в противоположность этому, что мы видим в итоге? В итоге следует сказать, что мы находим тех же самых маленьких девочек, живущих во внутреннем мире маленького Ганса. Но если вы читаете случай, вас поражает не только та степень, в которой они гораздо более воображаемые, но и то, насколько они являются подлинно, радикально воображаемыми. Они становятся фантазиями, с которыми общается маленький Ганс. Отношения с ними ощутимо меняются - теперь это, скорее, его дети. Если именно здесь мы должны распознать установившуюся в результате разрешения кризиса матрицу будущих отношений маленького Ганса с женщинами, то поверхностный взгляд позволит нам признать в качестве удовлетворительного результата достижение маленьким Гансом гетеросексуальности, но эти маленькие девочки останутся отмеченными стигматом их способа вхождения в либидинальную структуру. Мы в подробностях рассмотрим, каким именно образом они в неё вошли.
Нарциссический стиль их позиции по отношению к маленькому Гансу не подлежит сомнению, и мы в деталях изучим, что его определяет. Конечно, маленький Ганс будет любить женщин, но они останутся для него фундаментально связанными с определённого рода испытанием его силы. Именно это указывает нам на то, что он всегда будет относиться к ним не без опаски. Если можно так сказать, они будут его возлюбленными (maîtresses). То будут дочери его ума, как вы сами увидите, похищенные у его матери.
Эти положения предназначены для того, чтобы показать вам, в чём заключается смысл такого исследования. Само собой, чтобы это подтвердить, требуется вернуться на путь нашего продвижения. Поскольку мы приняли за ориентир означающую структуризацию мифа маленького Ганса, нам нужно определить временные такты её прогресса. И поскольку мы говорим об объектных отношениях, то, что именно между различными тактами означающей структуризации мифа представляют собой объекты, последовательно выходящие на передний план интереса маленького Ганса? Какие соответствующие подвижки в означаемом имеют место в тот особенно активный и плодотворный период, когда отношения маленького Ганса с его миром претерпевают определённого рода реновацию или революцию? Сумеем ли мы уловить то, что параллельно скандируют эти последовательные кристаллизации, представленные в форме фантазмов?
Без всяких сомнений, дело в последовательных кристаллизациях означающей конфигурации. Я показал вам в прошлый раз общность этих фигур. По крайней мере, я помог вам увидеть, как в этих последовательностях фигур одни и те же элементы, подвергаясь перестановке, каждый раз обновляют означающую конфигурацию, которая фундаментально остаётся незыблемой.
5 апреля возникает тема, которую я назвал возвращением. Она не объясняет суть фантазма, но представляет собой его фон. Речь идёт о том, что мы можем назвать тревогой, связанной с отъездом. Точнее, фантазм развивает тему тревожного единства с телегой, Wagen, которая находится у края разгрузочной платформы. Оно представляется таким не сразу, нужны были расспросы отца, которые помогали Гансу признаться в своих фантазмах и потому рассказать о них, организовать их, а также раскрыть их для себя самого, благодаря чему и у нас появилась возможность узнать о них.
Однако в противоположность этому, что мы видим в итоге? В итоге следует сказать, что мы находим тех же самых маленьких девочек, живущих во внутреннем мире маленького Ганса. Но если вы читаете случай, вас поражает не только та степень, в которой они гораздо более воображаемые, но и то, насколько они являются подлинно, радикально воображаемыми. Они становятся фантазиями, с которыми общается маленький Ганс. Отношения с ними ощутимо меняются - теперь это, скорее, его дети. Если именно здесь мы должны распознать установившуюся в результате разрешения кризиса матрицу будущих отношений маленького Ганса с женщинами, то поверхностный взгляд позволит нам признать в качестве удовлетворительного результата достижение маленьким Гансом гетеросексуальности, но эти маленькие девочки останутся отмеченными стигматом их способа вхождения в либидинальную структуру. Мы в подробностях рассмотрим, каким именно образом они в неё вошли.
Нарциссический стиль их позиции по отношению к маленькому Гансу не подлежит сомнению, и мы в деталях изучим, что его определяет. Конечно, маленький Ганс будет любить женщин, но они останутся для него фундаментально связанными с определённого рода испытанием его силы. Именно это указывает нам на то, что он всегда будет относиться к ним не без опаски. Если можно так сказать, они будут его возлюбленными (maîtresses). То будут дочери его ума, как вы сами увидите, похищенные у его матери.
Эти положения предназначены для того, чтобы показать вам, в чём заключается смысл такого исследования. Само собой, чтобы это подтвердить, требуется вернуться на путь нашего продвижения. Поскольку мы приняли за ориентир означающую структуризацию мифа маленького Ганса, нам нужно определить временные такты её прогресса. И поскольку мы говорим об объектных отношениях, то, что именно между различными тактами означающей структуризации мифа представляют собой объекты, последовательно выходящие на передний план интереса маленького Ганса? Какие соответствующие подвижки в означаемом имеют место в тот особенно активный и плодотворный период, когда отношения маленького Ганса с его миром претерпевают определённого рода реновацию или революцию? Сумеем ли мы уловить то, что параллельно скандируют эти последовательные кристаллизации, представленные в форме фантазмов?
Без всяких сомнений, дело в последовательных кристаллизациях означающей конфигурации. Я показал вам в прошлый раз общность этих фигур. По крайней мере, я помог вам увидеть, как в этих последовательностях фигур одни и те же элементы, подвергаясь перестановке, каждый раз обновляют означающую конфигурацию, которая фундаментально остаётся незыблемой.
5 апреля возникает тема, которую я назвал возвращением. Она не объясняет суть фантазма, но представляет собой его фон. Речь идёт о том, что мы можем назвать тревогой, связанной с отъездом. Точнее, фантазм развивает тему тревожного единства с телегой, Wagen, которая находится у края разгрузочной платформы. Оно представляется таким не сразу, нужны были расспросы отца, которые помогали Гансу признаться в своих фантазмах и потому рассказать о них, организовать их, а также раскрыть их для себя самого, благодаря чему и у нас появилась возможность узнать о них. 11 апреля мы видим появление фантазма об отвинченной ванне, внутри которой маленький Ганс с большой дырой в животе. Взглянем на его приблизительные очертания.
11 апреля мы видим появление фантазма об отвинченной ванне, внутри которой маленький Ганс с большой дырой в животе. Взглянем на его приблизительные очертания.

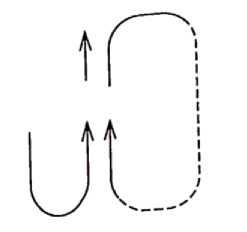
 Wiwimacher - термин, с помощью которого фаллос вписан в словарь маленького Ганса -не кусается. Мы находим это 1 марта, в начале серии недоразумений, которые будут появляться на всём протяжении диалога маленького Ганса со своим отцом.
Речь идёт именно о фаллосе, когда кто-то кусает или кто-то ранит. Это верно настолько, что некто, не являющийся психоаналитиком, кого я попросил прочитать случай маленького Ганса, кто занимается мифологией и весьма продвинулся в теме мифов, сказал мне, что ему показалась поразительной представленная в подоплёке всего наблюдения неведомая активность не vagina dentata (зубастой вагины), но phallus dentatus (зубастого фаллоса). Но дело в том, что всё это наблюдение целиком и полностью развивается под знаком недоразумения. Я бы добавил, что это рядовой случай любого рода творческой интерпретации между двумя субъектами. Это наименьшая аномалия, которую следует ожидать в происходящем, и именно под знаком этого недоразумения прорастёт то, что принесёт плоды.
Так, когда отец заговорит с Гансом о фаллосе, он на самом деле имеет в виду его реальный пенис, который тот трогает. Конечно, он не ошибается, поскольку появление у юного субъекта эрекции и всех новых переживаний, с ней связанных, несомненно, изменило глубинный баланс всех его отношений с той, которая до недавнего времени представляла собой устойчивый пункт, фиксированный пункт, пункт всемогущества в его мире, то есть с матерью.
С другой стороны, что играет определяющую роль в обстоятельстве внезапного возникновения фундаментальной тревоги, которая заставляет всё колебаться? Этой тревоге он готов предпочесть что угодно, даже выковать тревожный сам по себе, полностью замкнутый образ лошади, который по крайней мере знаменует в центре тревоги какой-то ориентир и предел. Что в этом образе открывает дорогу атаке, укусу? Это другой фаллос, воображаемый фаллос матери.
Здесь-то и открывается для маленького Ганса апория того, что поддаётся воображению. Того, что было до сих пор его игрой, - показать или не показать фаллос -было игрой с фаллосом, который, как он давно уже знал, вовсе не существует, но он-то и был его ставкой в отношениях с матерью. Именно в этом плане происходила его игра соблазнения не только матери, но и всех маленьких девочек, об отсутствии у которых пениса он был прекрасно осведомлён - игра и состояла именно в том, чтобы поддерживать представление, что он у них всё-таки есть. Вот на что опирались отношения до этого момента - отношения, которые в основе своей состояли не в обмане, а в игре в обман.
Первая часть наблюдения, после которой начинается фобия, заканчивается фантазмом, который является таковым лишь в некотором смысле, поскольку представляет собой сновидение об игре в фанты, в которой ребёнок прячет что-то в руке и тому, кто хочет эту вещь получить, нужно выполнить какое-то задание. Ганс добивается того, чтобы маленькая девочка попросила его сделать пипи. Фрейд подчёркивает, что речь идёт о чисто аудиальном сновидении без визуальных элементов, несмотря на то, что оно касается игры смотреть или показывать, которая лежит в основе первых скоптофилических отношений с маленькими девочками. Игра угадай где? происходит в символе, в слове. Даже здесь словесный элемент выглядит превалирующим.
В течение этого первого периода любая попытка отца ввести реальность пениса с указанием на подобающее с ним обращение, то есть с запретом его трогать, побуждают маленького Ганса в строго автоматическом режиме вывести на первый план мотивы
Wiwimacher - термин, с помощью которого фаллос вписан в словарь маленького Ганса -не кусается. Мы находим это 1 марта, в начале серии недоразумений, которые будут появляться на всём протяжении диалога маленького Ганса со своим отцом.
Речь идёт именно о фаллосе, когда кто-то кусает или кто-то ранит. Это верно настолько, что некто, не являющийся психоаналитиком, кого я попросил прочитать случай маленького Ганса, кто занимается мифологией и весьма продвинулся в теме мифов, сказал мне, что ему показалась поразительной представленная в подоплёке всего наблюдения неведомая активность не vagina dentata (зубастой вагины), но phallus dentatus (зубастого фаллоса). Но дело в том, что всё это наблюдение целиком и полностью развивается под знаком недоразумения. Я бы добавил, что это рядовой случай любого рода творческой интерпретации между двумя субъектами. Это наименьшая аномалия, которую следует ожидать в происходящем, и именно под знаком этого недоразумения прорастёт то, что принесёт плоды.
Так, когда отец заговорит с Гансом о фаллосе, он на самом деле имеет в виду его реальный пенис, который тот трогает. Конечно, он не ошибается, поскольку появление у юного субъекта эрекции и всех новых переживаний, с ней связанных, несомненно, изменило глубинный баланс всех его отношений с той, которая до недавнего времени представляла собой устойчивый пункт, фиксированный пункт, пункт всемогущества в его мире, то есть с матерью.
С другой стороны, что играет определяющую роль в обстоятельстве внезапного возникновения фундаментальной тревоги, которая заставляет всё колебаться? Этой тревоге он готов предпочесть что угодно, даже выковать тревожный сам по себе, полностью замкнутый образ лошади, который по крайней мере знаменует в центре тревоги какой-то ориентир и предел. Что в этом образе открывает дорогу атаке, укусу? Это другой фаллос, воображаемый фаллос матери.
Здесь-то и открывается для маленького Ганса апория того, что поддаётся воображению. Того, что было до сих пор его игрой, - показать или не показать фаллос -было игрой с фаллосом, который, как он давно уже знал, вовсе не существует, но он-то и был его ставкой в отношениях с матерью. Именно в этом плане происходила его игра соблазнения не только матери, но и всех маленьких девочек, об отсутствии у которых пениса он был прекрасно осведомлён - игра и состояла именно в том, чтобы поддерживать представление, что он у них всё-таки есть. Вот на что опирались отношения до этого момента - отношения, которые в основе своей состояли не в обмане, а в игре в обман.
Первая часть наблюдения, после которой начинается фобия, заканчивается фантазмом, который является таковым лишь в некотором смысле, поскольку представляет собой сновидение об игре в фанты, в которой ребёнок прячет что-то в руке и тому, кто хочет эту вещь получить, нужно выполнить какое-то задание. Ганс добивается того, чтобы маленькая девочка попросила его сделать пипи. Фрейд подчёркивает, что речь идёт о чисто аудиальном сновидении без визуальных элементов, несмотря на то, что оно касается игры смотреть или показывать, которая лежит в основе первых скоптофилических отношений с маленькими девочками. Игра угадай где? происходит в символе, в слове. Даже здесь словесный элемент выглядит превалирующим.
В течение этого первого периода любая попытка отца ввести реальность пениса с указанием на подобающее с ним обращение, то есть с запретом его трогать, побуждают маленького Ганса в строго автоматическом режиме вывести на первый план мотивы этой игры. Например, у него тотчас появляется фантазм о том, что он со своей матерью, которая в рубашке совсем голая. Отец у него спрашивает: «Так она была совсем голой или в рубашке?» Ганса не затрудняет ответить: «Она была в такой короткой рубашке, что можно было увидеть её совсем голой», - то есть одновременно было и видно, и не видно. Вы узнаёте здесь структуру границы или края, характерную для восприятия фетишиста, сущность которой состоит в том, чтобы всегда почти увидеть и не увидеть то, что вот-вот появится. То скрытое, что даёт знать о себе в отношениях с матерью, является несуществующим фаллосом, игра с которым, однако, продолжается, как если бы он был налицо. Фантазм маленького Ганса акцентирует то, что в этот момент происходит -защиту против разрушительного элемента, который привносит отец, настойчиво говоря о фаллосе в терминах реального.
В этом фантазме маленький Ганс призывает свидетеля, маленькую девочку по имени Грета. Она призывается из резерва, конкретно из дома, из числа маленьких подружек, с которыми он состоит в воображаемых отношениях, но которые являются совершенно реальными персонажами. Будет не лишним подчеркнуть, что её зовут Грета, она участвует в этом фантазме, и мы ещё встретим её позднее. Она призвана в качестве свидетеля того, что делает мама и сам маленький Ганс, поскольку он упоминает, что тоже чуть-чуть трогает себя, schnelle, очень быстро, как бы тайком.
У Ганса есть необходимость ввести вфаллические отношения с матерью всё то новое, что происходит, не только из-за существования реального пениса, но и потому, что отец тоже подталкивает его в эту сторону. Компромиссное образование, последовавшее за этим, буквально структурирует весь период до 5 апреля, поскольку кое-что происходит.
Это не означает, что этим дело ограничилось, поскольку кое-что происходит ближе к 30 марта, дате консультации с Фрейдом. То, что проявляется на этом уровне, не является целиком искусственным, поскольку, как я вам уже говорил, заявляет о себе в фантазмах маленького Ганса, где отец является соучастником в его проступках - в некотором смысле он обращается к своему отцу за помощью.
В период между 1 и 15 марта, когда появляется фантазия о Грете и матери, речь прежде всего идёт о реальном пенисе и воображаемом фаллосе. В период между 15 марта и консультацией у Фрейда отец старается полностью перевести фаллос в реальность, рассказывая Гансу о том, что у больших животных большие фаллосы, а у маленьких маленькие, на что Ганс отвечает ему: «У меня он хорошо прикреплён, и он ещё вырастет». Снова появляется та самая схема, о которой я только что вам говорил. Реакция маленького Ганса на попытку отца перевести фаллос в реальность в очередной раз состоит вовсе не в усвоении того, доступ к чему у него вообще-то имеется, но в том, чтобы сфабриковать фантазм.
На этот раз, 27 марта, это фантазм о двух жирафах, в котором проявляется то, что является сущностным, а именно символизация материнского фаллоса, чётко представленная в маленьком жирафе. Хотя благодаря словам отца маленький Ганс и застрял между своей воображаемой привязанностью и настоятельностью реального, путь, на который он в этот момент вступает, задаст свою метрику (scansion) и даже схему всему развитию фобического мифа - именно воображаемый термин станет для него символическим элементом.
Иначе говоря, мы далеки от того, чтобы в объектных отношениях констатировать существование пути прямого перехода к значению нового реального и получению
этой игры. Например, у него тотчас появляется фантазм о том, что он со своей матерью, которая в рубашке совсем голая. Отец у него спрашивает: «Так она была совсем голой или в рубашке?» Ганса не затрудняет ответить: «Она была в такой короткой рубашке, что можно было увидеть её совсем голой», - то есть одновременно было и видно, и не видно. Вы узнаёте здесь структуру границы или края, характерную для восприятия фетишиста, сущность которой состоит в том, чтобы всегда почти увидеть и не увидеть то, что вот-вот появится. То скрытое, что даёт знать о себе в отношениях с матерью, является несуществующим фаллосом, игра с которым, однако, продолжается, как если бы он был налицо. Фантазм маленького Ганса акцентирует то, что в этот момент происходит -защиту против разрушительного элемента, который привносит отец, настойчиво говоря о фаллосе в терминах реального.
В этом фантазме маленький Ганс призывает свидетеля, маленькую девочку по имени Грета. Она призывается из резерва, конкретно из дома, из числа маленьких подружек, с которыми он состоит в воображаемых отношениях, но которые являются совершенно реальными персонажами. Будет не лишним подчеркнуть, что её зовут Грета, она участвует в этом фантазме, и мы ещё встретим её позднее. Она призвана в качестве свидетеля того, что делает мама и сам маленький Ганс, поскольку он упоминает, что тоже чуть-чуть трогает себя, schnelle, очень быстро, как бы тайком.
У Ганса есть необходимость ввести вфаллические отношения с матерью всё то новое, что происходит, не только из-за существования реального пениса, но и потому, что отец тоже подталкивает его в эту сторону. Компромиссное образование, последовавшее за этим, буквально структурирует весь период до 5 апреля, поскольку кое-что происходит.
Это не означает, что этим дело ограничилось, поскольку кое-что происходит ближе к 30 марта, дате консультации с Фрейдом. То, что проявляется на этом уровне, не является целиком искусственным, поскольку, как я вам уже говорил, заявляет о себе в фантазмах маленького Ганса, где отец является соучастником в его проступках - в некотором смысле он обращается к своему отцу за помощью.
В период между 1 и 15 марта, когда появляется фантазия о Грете и матери, речь прежде всего идёт о реальном пенисе и воображаемом фаллосе. В период между 15 марта и консультацией у Фрейда отец старается полностью перевести фаллос в реальность, рассказывая Гансу о том, что у больших животных большие фаллосы, а у маленьких маленькие, на что Ганс отвечает ему: «У меня он хорошо прикреплён, и он ещё вырастет». Снова появляется та самая схема, о которой я только что вам говорил. Реакция маленького Ганса на попытку отца перевести фаллос в реальность в очередной раз состоит вовсе не в усвоении того, доступ к чему у него вообще-то имеется, но в том, чтобы сфабриковать фантазм.
На этот раз, 27 марта, это фантазм о двух жирафах, в котором проявляется то, что является сущностным, а именно символизация материнского фаллоса, чётко представленная в маленьком жирафе. Хотя благодаря словам отца маленький Ганс и застрял между своей воображаемой привязанностью и настоятельностью реального, путь, на который он в этот момент вступает, задаст свою метрику (scansion) и даже схему всему развитию фобического мифа - именно воображаемый термин станет для него символическим элементом.
Иначе говоря, мы далеки от того, чтобы в объектных отношениях констатировать существование пути прямого перехода к значению нового реального и получению возможности управляться с реальным с помощью символического инструмента как такового. Мы видим, напротив, что по крайней мере в той критической фазе, о которой идёт здесь речь и которая в аналитической теории отмечена как Эдип, реальное может быть реорганизовано в новую символическую конфигурацию только ценой реактивизации всех наиболее воображаемых элементов. В первоначальном подходе субъекта наблюдается настоящая воображаемая регрессия.
С первых шагов инфантильного невроза маленького Ганса мы располагаем моделью и схемой этой регрессии. В своих ответах отцу, подающему себя как представителя реальности, её нового порядка, необходимости адаптации к ней, воображение маленького Ганса работает так активно, что возникает тон глубокой недоверчивости, который сохраняется у него всегда. Это дано нам почти в материальной форме в начале наблюдения, именно это и создаёт его исключительный характер, то небесное благословение, что оно несёт. Маленький Ганс сам обнаруживает, каким образом может быть получено то, о чём идёт речь - а именно, что можно не только играть с этим, но можно сделать это из клочков бумаги. Первый образ маленького жирафа - это уже начало решения. Это синтез того, что маленький Ганс учится делать -он учится тому, как можно играть с образами.
Он не то чтобы знает это, но он просто включён в это в силу того факта, что он уже говорит, он уже маленький человек в купели языка. Но он прекрасно знает, какую ценную услугу оказывает ему возможность говорить, и без конца это подчёркивает. Когда он рассказывает о чём-либо и ему говорят, хорошо это или плохо, он отвечает: «Не важно, раз это можно отправить Профессору, то всё это хорошо».
Дело не только в том, чтобы просто говорить, но в том, чтобы говорить кому-то. В наблюдении мы находим ещё одно замечание такого рода, когда маленький Ганс показывает, какой плодотворной для него становится возможность с кем-то поговорить. И было бы чрезвычайно удивительно, если бы мы не распознали, что именно в этом заключается вся ценность и действенность анализа.
Таков первый детский анализ.
2
Во время консультации 30 марта Фрейд излагает свой миф об Эдипе в готовом виде, без малейшей попытки подправить и адаптировать его для ребёнка. Это один из наиболее захватывающих моментов наблюдения. Фрейд нарочито говорит: «Я расскажу тебе одну замечательную историю, которую я придумал. Ещё до того, как ты появился на свет, я знал, что однажды придёт маленький Ганс, который будет очень любить свою мать и из-за этого ненавидеть своего отца».
Эдип здесь представлен самим своим автором посредством операции, которая обнажает его фундаментально мифический характер, характер оригинального мифа, присущий ему в учении Фрейда. Он использует его в той же самой манере, в которой мы испокон веков учим детей, что Бог сотворил небо и землю, и множеству других вещей, в зависимости от культурного контекста, в который он включён. Это миф о происхождении как таковой, поскольку мы верим в то, что он определяет ориентацию, структуру, магистральную линию речи субъекта, который является его носителем. Дело касается именно его функции сотворения истины. Фрейд не преподносит это маленькому Гансу как-то иначе, и маленький Ганс даёт ответ, отмеченный той же двусмысленностью,
возможности управляться с реальным с помощью символического инструмента как такового. Мы видим, напротив, что по крайней мере в той критической фазе, о которой идёт здесь речь и которая в аналитической теории отмечена как Эдип, реальное может быть реорганизовано в новую символическую конфигурацию только ценой реактивизации всех наиболее воображаемых элементов. В первоначальном подходе субъекта наблюдается настоящая воображаемая регрессия.
С первых шагов инфантильного невроза маленького Ганса мы располагаем моделью и схемой этой регрессии. В своих ответах отцу, подающему себя как представителя реальности, её нового порядка, необходимости адаптации к ней, воображение маленького Ганса работает так активно, что возникает тон глубокой недоверчивости, который сохраняется у него всегда. Это дано нам почти в материальной форме в начале наблюдения, именно это и создаёт его исключительный характер, то небесное благословение, что оно несёт. Маленький Ганс сам обнаруживает, каким образом может быть получено то, о чём идёт речь - а именно, что можно не только играть с этим, но можно сделать это из клочков бумаги. Первый образ маленького жирафа - это уже начало решения. Это синтез того, что маленький Ганс учится делать -он учится тому, как можно играть с образами.
Он не то чтобы знает это, но он просто включён в это в силу того факта, что он уже говорит, он уже маленький человек в купели языка. Но он прекрасно знает, какую ценную услугу оказывает ему возможность говорить, и без конца это подчёркивает. Когда он рассказывает о чём-либо и ему говорят, хорошо это или плохо, он отвечает: «Не важно, раз это можно отправить Профессору, то всё это хорошо».
Дело не только в том, чтобы просто говорить, но в том, чтобы говорить кому-то. В наблюдении мы находим ещё одно замечание такого рода, когда маленький Ганс показывает, какой плодотворной для него становится возможность с кем-то поговорить. И было бы чрезвычайно удивительно, если бы мы не распознали, что именно в этом заключается вся ценность и действенность анализа.
Таков первый детский анализ.
2
Во время консультации 30 марта Фрейд излагает свой миф об Эдипе в готовом виде, без малейшей попытки подправить и адаптировать его для ребёнка. Это один из наиболее захватывающих моментов наблюдения. Фрейд нарочито говорит: «Я расскажу тебе одну замечательную историю, которую я придумал. Ещё до того, как ты появился на свет, я знал, что однажды придёт маленький Ганс, который будет очень любить свою мать и из-за этого ненавидеть своего отца».
Эдип здесь представлен самим своим автором посредством операции, которая обнажает его фундаментально мифический характер, характер оригинального мифа, присущий ему в учении Фрейда. Он использует его в той же самой манере, в которой мы испокон веков учим детей, что Бог сотворил небо и землю, и множеству других вещей, в зависимости от культурного контекста, в который он включён. Это миф о происхождении как таковой, поскольку мы верим в то, что он определяет ориентацию, структуру, магистральную линию речи субъекта, который является его носителем. Дело касается именно его функции сотворения истины. Фрейд не преподносит это маленькому Гансу как-то иначе, и маленький Ганс даёт ответ, отмеченный той же двусмысленностью, которая становится печатью его согласия на всё, что будет происходить в дальнейшем, он говорит примерно следующее: «Это очень интересно, это очень увлекательно, как же это прекрасно, ведь, действительно, профессору нужно было бы поговорить с Богом, чтобы узнать что-то вроде этого».
Что в результате? Фрейд сам чётко это формулирует, со всей строгостью, которой придерживаемся здесь и мы, - не стоит ожидать, что этот разговор сразу же принесёт плоды, важно, что он производит эффекты в бессознательном, выявляя их, unbewussten Produktionen vorzubringen, и позволяет фобии развиваться. Короче говоря, это стимуляция (incitation). Дело в том, чтобы имплантировать иной кристалл, если можно так выразиться, в то незавершённое значение, которое всем своим существом представляет маленький Ганс. Таким образом, с одной стороны, есть то, что происходит само по себе, - фобия, и, с другой стороны, Фрейд, который целиком привносит всё то, к чему она должна привести. Таким образом, Фрейд ни на мгновение не воображает, что религиозный миф Эдипа принесёт свои плоды немедленно, он рассчитывает способствовать тому, что расположено по другую сторону, то есть развитию фобии, и это в наибольшей степени способно открыть пути для того, что я только что назвал развитием кристалла означающего. Нельзя выразить это более ясно, чем это прозвучало в двух фразах Фрейда 30 марта.
Со стороны отца тогда возникает всё-таки небольшая и недолгая реакция. Отца, который в объектных отношениях и есть то самое, что ищем мы на различных этапах формирования образования означающего, но по-настоящему находим только в самом конце. И это нас не удивляет. Мы видим его выходящим на первый план непосредственно перед фантазией о вагончике, в момент противостояния с отцом в диалоге об Эдипе: «Почему ты такой ревнивый?» Точнее, термин, который применяется - страстный, ревностный, eifern. Отец протестует: «Я не такой!» - «Ты должен таким быть!» Это место встречи с отцом или, скорее, с тем отсутствием, которое демонстрирует в этот момент отцовская позиция. Здесь мы обнаруживаем только первое проявление этого отсутствия, небольшой шок. Мы прекрасно видим, как именно присутствует отец, он, что называется, блещет своим отсутствием.
И именно так на следующий день реагирует маленький Ганс - он приходит к отцу и говорит ему, что пришёл, чтобы увидеть его, потому что ему стало страшно, впрочем, он пришёл бы к нему и без этого. Он боится того, что отец может уехать. Отец сразу же спрашивает: «Но как такое возможно?» Это ведёт нас дальше, но остановимся поподробнее на этом страхе перед отсутствием отца и изучим размерность того, чего действительно касается этот страх.
В общем-то, это маленькая кристаллизация тревоги. Тревога не является страхом объекта. Тревога - это встреча субъекта с отсутствием объекта, когда субъект схвачен, когда он теряется, он предпочтёт этому что угодно, включая изготовление наиболее странного и наименее объективного из объектов, которым является объект фобии. Ирреальный характер страха, о котором идёт речь, чётко проявляется, если мы умеем это замечать, посредством своей формы - это страх отсутствия именно того объекта, на который ему только что указали. Маленький Ганс боится его отсутствия так же, как я говорил вам о психической анорексии, где нужно иметь в виду не то, что ребёнок ничего не ест, но то, что он ест ничто. Здесь маленький Ганс боится отсутствия отца, отсутствия, которое присутствует и которое он начинает символизировать.
которая становится печатью его согласия на всё, что будет происходить в дальнейшем, он говорит примерно следующее: «Это очень интересно, это очень увлекательно, как же это прекрасно, ведь, действительно, профессору нужно было бы поговорить с Богом, чтобы узнать что-то вроде этого».
Что в результате? Фрейд сам чётко это формулирует, со всей строгостью, которой придерживаемся здесь и мы, - не стоит ожидать, что этот разговор сразу же принесёт плоды, важно, что он производит эффекты в бессознательном, выявляя их, unbewussten Produktionen vorzubringen, и позволяет фобии развиваться. Короче говоря, это стимуляция (incitation). Дело в том, чтобы имплантировать иной кристалл, если можно так выразиться, в то незавершённое значение, которое всем своим существом представляет маленький Ганс. Таким образом, с одной стороны, есть то, что происходит само по себе, - фобия, и, с другой стороны, Фрейд, который целиком привносит всё то, к чему она должна привести. Таким образом, Фрейд ни на мгновение не воображает, что религиозный миф Эдипа принесёт свои плоды немедленно, он рассчитывает способствовать тому, что расположено по другую сторону, то есть развитию фобии, и это в наибольшей степени способно открыть пути для того, что я только что назвал развитием кристалла означающего. Нельзя выразить это более ясно, чем это прозвучало в двух фразах Фрейда 30 марта.
Со стороны отца тогда возникает всё-таки небольшая и недолгая реакция. Отца, который в объектных отношениях и есть то самое, что ищем мы на различных этапах формирования образования означающего, но по-настоящему находим только в самом конце. И это нас не удивляет. Мы видим его выходящим на первый план непосредственно перед фантазией о вагончике, в момент противостояния с отцом в диалоге об Эдипе: «Почему ты такой ревнивый?» Точнее, термин, который применяется - страстный, ревностный, eifern. Отец протестует: «Я не такой!» - «Ты должен таким быть!» Это место встречи с отцом или, скорее, с тем отсутствием, которое демонстрирует в этот момент отцовская позиция. Здесь мы обнаруживаем только первое проявление этого отсутствия, небольшой шок. Мы прекрасно видим, как именно присутствует отец, он, что называется, блещет своим отсутствием.
И именно так на следующий день реагирует маленький Ганс - он приходит к отцу и говорит ему, что пришёл, чтобы увидеть его, потому что ему стало страшно, впрочем, он пришёл бы к нему и без этого. Он боится того, что отец может уехать. Отец сразу же спрашивает: «Но как такое возможно?» Это ведёт нас дальше, но остановимся поподробнее на этом страхе перед отсутствием отца и изучим размерность того, чего действительно касается этот страх.
В общем-то, это маленькая кристаллизация тревоги. Тревога не является страхом объекта. Тревога - это встреча субъекта с отсутствием объекта, когда субъект схвачен, когда он теряется, он предпочтёт этому что угодно, включая изготовление наиболее странного и наименее объективного из объектов, которым является объект фобии. Ирреальный характер страха, о котором идёт речь, чётко проявляется, если мы умеем это замечать, посредством своей формы - это страх отсутствия именно того объекта, на который ему только что указали. Маленький Ганс боится его отсутствия так же, как я говорил вам о психической анорексии, где нужно иметь в виду не то, что ребёнок ничего не ест, но то, что он ест ничто. Здесь маленький Ганс боится отсутствия отца, отсутствия, которое присутствует и которое он начинает символизировать. Отец, со своей стороны, ломает себе голову, пытаясь понять, какими обходными путями ребёнок проявляет страх, который является лишь изнанкой желания. Это не является полным заблуждением, но описывает лишь сопредельные феномену окрестности. На самом деле субъект начинает осознавать, что отец точно не является тем, о ком Фрейд рассказал ему миф, и он говорит своему отцу: «Почему ты говоришь мне, что самое хорошее, что у меня есть, это мама, хотя я люблю тебя? Когда ты говоришь, что ненавидеть надо тебя, тут что-то не клеится».
В той точке, где мы оказались, можно сказать, что каким бы прискорбным такое положение дел ни было, тем не менее хорошо уже то, что Гансу удается выйти на путь, о котором идет речь, и сориентировать в связи с мифом место отсутствия. Перед нами здесь нечто такое, что сразу же регистрируется, что отмечается в наблюдении и что нужно рассматривать как символизацию. Если мы обозначим большой I означающее, вокруг которого фобия упорядочивает свою функцию, можно сказать, что при этом оказывается символизировано нечто такое, что мы назовём маленькой сигмой, о, и что представляет собой отсутствие отца р°. Получаем:
Отец, со своей стороны, ломает себе голову, пытаясь понять, какими обходными путями ребёнок проявляет страх, который является лишь изнанкой желания. Это не является полным заблуждением, но описывает лишь сопредельные феномену окрестности. На самом деле субъект начинает осознавать, что отец точно не является тем, о ком Фрейд рассказал ему миф, и он говорит своему отцу: «Почему ты говоришь мне, что самое хорошее, что у меня есть, это мама, хотя я люблю тебя? Когда ты говоришь, что ненавидеть надо тебя, тут что-то не клеится».
В той точке, где мы оказались, можно сказать, что каким бы прискорбным такое положение дел ни было, тем не менее хорошо уже то, что Гансу удается выйти на путь, о котором идет речь, и сориентировать в связи с мифом место отсутствия. Перед нами здесь нечто такое, что сразу же регистрируется, что отмечается в наблюдении и что нужно рассматривать как символизацию. Если мы обозначим большой I означающее, вокруг которого фобия упорядочивает свою функцию, можно сказать, что при этом оказывается символизировано нечто такое, что мы назовём маленькой сигмой, о, и что представляет собой отсутствие отца р°. Получаем: Это не означает, что здесь всё, что содержится в означающем лошади - это далеко не так. Лошадь не исчезнет вдруг из-за того, что мы скажем маленькому Гансу: «Ты боишься своего отца, его и надо бояться». Нет. Но всё-таки означающее лошади тотчас освобождается от некоторого заряда, и в наблюдении это записано: Nicht alle weissen Pferde beissen, Ганс больше совсем не боится белых лошадей, появляются такие, которых он больше не боится, и отец, несмотря на то, что он не следует пути нашей теоретизации, понимает, что есть такие, которые Vatti, Папа. И с этого момента их больше не боятся.
Почему их больше не боятся? Потому что Vatti очень добрый. Это то, что отец понимает, совершенно не понимая при этом, так и не понимая до самого конца, что именно в этом, в том, что Vatti совсем добрый, и заключается драма. Когда есть такой Vatti, который действительно способен внушить страх, то возникают правила игры, появляется возможность настоящего Эдипа, Эдипа, который помогает вам выйти из-под юбки вашей матери. Но поскольку Vatti, внушающего страх, нет, поскольку Vatti слишком добрый, то стоит упомянуть о его возможной агрессивности, как фобическое означающее лошади, Ыпос;, разряжается, и это оказывается зарегистрировано в тот же день.
В том, что я рассказываю, нет никакой натяжки, поскольку всё можно найти в тексте, достаточно незначительно изменить угол зрения, чтобы этот случай перестал быть лабиринтом, в котором мы заблудились, и чтобы каждая из его деталей, напротив, приобрела свой смысл. Может показаться, будто я продвигаюсь достаточно медленно и возвращаюсь ещё раз к началу, но это нужно мне для того, чтобы показать вам, что в этой перспективе не ускользает ни одна деталь. Начиная с момента, когда вы видите, как формулируется связь означающего - которое возникло у маленького Ганса спонтанно и естественно и приведено Фрейдом таким, каково оно есть - с означаемым на сносях, вы не можете упустить из виду, что как только появляется отец, тотчас регистрируется эффект разгрузки, отъятия, который отражается на означающих функциях и вписывается почти математическим образом, как на весах.
Есть два порядка тревоги, говорит нам Фрейд, они ещё раз возвращают нас к тому, о чём я только что сказал. Он противопоставляет тревогу по поводу отца, um der Vater, и
Это не означает, что здесь всё, что содержится в означающем лошади - это далеко не так. Лошадь не исчезнет вдруг из-за того, что мы скажем маленькому Гансу: «Ты боишься своего отца, его и надо бояться». Нет. Но всё-таки означающее лошади тотчас освобождается от некоторого заряда, и в наблюдении это записано: Nicht alle weissen Pferde beissen, Ганс больше совсем не боится белых лошадей, появляются такие, которых он больше не боится, и отец, несмотря на то, что он не следует пути нашей теоретизации, понимает, что есть такие, которые Vatti, Папа. И с этого момента их больше не боятся.
Почему их больше не боятся? Потому что Vatti очень добрый. Это то, что отец понимает, совершенно не понимая при этом, так и не понимая до самого конца, что именно в этом, в том, что Vatti совсем добрый, и заключается драма. Когда есть такой Vatti, который действительно способен внушить страх, то возникают правила игры, появляется возможность настоящего Эдипа, Эдипа, который помогает вам выйти из-под юбки вашей матери. Но поскольку Vatti, внушающего страх, нет, поскольку Vatti слишком добрый, то стоит упомянуть о его возможной агрессивности, как фобическое означающее лошади, Ыпос;, разряжается, и это оказывается зарегистрировано в тот же день.
В том, что я рассказываю, нет никакой натяжки, поскольку всё можно найти в тексте, достаточно незначительно изменить угол зрения, чтобы этот случай перестал быть лабиринтом, в котором мы заблудились, и чтобы каждая из его деталей, напротив, приобрела свой смысл. Может показаться, будто я продвигаюсь достаточно медленно и возвращаюсь ещё раз к началу, но это нужно мне для того, чтобы показать вам, что в этой перспективе не ускользает ни одна деталь. Начиная с момента, когда вы видите, как формулируется связь означающего - которое возникло у маленького Ганса спонтанно и естественно и приведено Фрейдом таким, каково оно есть - с означаемым на сносях, вы не можете упустить из виду, что как только появляется отец, тотчас регистрируется эффект разгрузки, отъятия, который отражается на означающих функциях и вписывается почти математическим образом, как на весах.
Есть два порядка тревоги, говорит нам Фрейд, они ещё раз возвращают нас к тому, о чём я только что сказал. Он противопоставляет тревогу по поводу отца, um der Vater, и тревогу перед отцом, vor dem Vater. Достаточно принять вещи в том виде, как сам Фрейд нам их изложил, чтобы обнаружить здесь ровно два эти элемента, только что мной описанные - тревога по поводу полости, пустого места, которое для маленького Ганса представляет собой отец, ищет себе поддержку в фобии, в тревоге перед фигурой лошади. По мере того, как удаётся хотя бы под видом требования, настояния стимулировать тревогу, возникающую перед отцом, тревога по поводу отцовской функции разряжается. Тогда субъект может наконец испытывать тревогу перед чем-то.
К сожалению, это не смогло зайти достаточно далеко, поскольку отец, хотя и был налицо, оказался совершенно не способен поддержать выполнение установленной функции, которая отвечает нуждам корректного мифического образования, условиям эдипального мифа в его универсальном значении. Именно это снова приводит нашего маленького Ганса в затруднение. Как и предвидел Фрейд, его затруднения после всего этого разрастаются и находят своё дальнейшее воплощение в образованиях, порождаемых фобией, seine Phobie abzuwickeln. И для нас сразу же многое проясняется.
Фантазм, который я как-то раз использовал в качестве первого отправного пункта, появляется 5 апреля, и с трансформациями его нам предстоит встречаться до самого конца. Этот фантазм со всем тем, что его сопровождает и предвещает, придаёт весомость вопросу маленького Ганса, который он чётко формулирует днём раньше: «Что заставляет меня бояться?»
Мы начинаем это понимать. Он испугался, когда лошадь обернулась, umwendet. Тогда отец делает точное попадание, он действительно начинает заниматься анализом - то есть время от времени у него нет ясного представления куда идти, это и позволяет ему иногда кое-что обнаружить. Он прекрасно формулирует - A, B, C, D - четыре способа, которыми лошадь пугает Ганса. Все они вводят в игру элемент, обладающий особым значением для человека как для такого животного, которое, в отличие от других животных, обречено знать, что оно существует. Этот элемент демонстрирует здесь свою наиболее подрывную сторону. Именно это теперь развивается и формулируется маленьким Гансом в новообразованиях фобии. Этим элементом является движение.
Обратите внимание, что речь идёт не о поступательном, планомерном движении, которое мы всегда, или по крайней мере с некоторых пор, имеем в виду, движении, в котором мы себя не ощущаем, движении, в котором мы спасаемся. Что актуально уже начиная с Аристотеля, поскольку различение линейного и вращательного движения имеет именно этот смысл. На более современном языке мы скажем, что имеет место ускорение. Это и имеет в виду маленький Ганс, когда говорит, что запряжённая во что-нибудь лошадь больше пугает его, когда трогается быстро, чем когда трогается медленно. Там, где есть существо, которое принимает участие в движении, не будучи полностью в него вовлечённым, и может ощутить относительность ускорения в силу того, что обладает минимальной способностью отстраниться от жизни, которая состоит именно в том, что я только что назвал способностью к познанию своего существования, способностью быть существом, осознающим самого себя, - там есть тревога.
Эту тревогу и предстоит проанализировать. На самом деле она не соотносится с одним только фактом участия в движении, но также и с его изнанкой, а именно с фантазмом быть оставленным позади, быть сброшенным. Появление того, что неожиданно вовлекает его в движение, представляет для Ганса глубокое потрясение, потому что это движение, кардинально изменив базу его отношений со стабильностью матери, сталкивает его с присутствием матери как элементом, поистине подрывающим
тревогу перед отцом, vor dem Vater. Достаточно принять вещи в том виде, как сам Фрейд нам их изложил, чтобы обнаружить здесь ровно два эти элемента, только что мной описанные - тревога по поводу полости, пустого места, которое для маленького Ганса представляет собой отец, ищет себе поддержку в фобии, в тревоге перед фигурой лошади. По мере того, как удаётся хотя бы под видом требования, настояния стимулировать тревогу, возникающую перед отцом, тревога по поводу отцовской функции разряжается. Тогда субъект может наконец испытывать тревогу перед чем-то.
К сожалению, это не смогло зайти достаточно далеко, поскольку отец, хотя и был налицо, оказался совершенно не способен поддержать выполнение установленной функции, которая отвечает нуждам корректного мифического образования, условиям эдипального мифа в его универсальном значении. Именно это снова приводит нашего маленького Ганса в затруднение. Как и предвидел Фрейд, его затруднения после всего этого разрастаются и находят своё дальнейшее воплощение в образованиях, порождаемых фобией, seine Phobie abzuwickeln. И для нас сразу же многое проясняется.
Фантазм, который я как-то раз использовал в качестве первого отправного пункта, появляется 5 апреля, и с трансформациями его нам предстоит встречаться до самого конца. Этот фантазм со всем тем, что его сопровождает и предвещает, придаёт весомость вопросу маленького Ганса, который он чётко формулирует днём раньше: «Что заставляет меня бояться?»
Мы начинаем это понимать. Он испугался, когда лошадь обернулась, umwendet. Тогда отец делает точное попадание, он действительно начинает заниматься анализом - то есть время от времени у него нет ясного представления куда идти, это и позволяет ему иногда кое-что обнаружить. Он прекрасно формулирует - A, B, C, D - четыре способа, которыми лошадь пугает Ганса. Все они вводят в игру элемент, обладающий особым значением для человека как для такого животного, которое, в отличие от других животных, обречено знать, что оно существует. Этот элемент демонстрирует здесь свою наиболее подрывную сторону. Именно это теперь развивается и формулируется маленьким Гансом в новообразованиях фобии. Этим элементом является движение.
Обратите внимание, что речь идёт не о поступательном, планомерном движении, которое мы всегда, или по крайней мере с некоторых пор, имеем в виду, движении, в котором мы себя не ощущаем, движении, в котором мы спасаемся. Что актуально уже начиная с Аристотеля, поскольку различение линейного и вращательного движения имеет именно этот смысл. На более современном языке мы скажем, что имеет место ускорение. Это и имеет в виду маленький Ганс, когда говорит, что запряжённая во что-нибудь лошадь больше пугает его, когда трогается быстро, чем когда трогается медленно. Там, где есть существо, которое принимает участие в движении, не будучи полностью в него вовлечённым, и может ощутить относительность ускорения в силу того, что обладает минимальной способностью отстраниться от жизни, которая состоит именно в том, что я только что назвал способностью к познанию своего существования, способностью быть существом, осознающим самого себя, - там есть тревога.
Эту тревогу и предстоит проанализировать. На самом деле она не соотносится с одним только фактом участия в движении, но также и с его изнанкой, а именно с фантазмом быть оставленным позади, быть сброшенным. Появление того, что неожиданно вовлекает его в движение, представляет для Ганса глубокое потрясение, потому что это движение, кардинально изменив базу его отношений со стабильностью матери, сталкивает его с присутствием матери как элементом, поистине подрывающим самые основы его мира. Ганс говорит нам об этом, когда говорит о лошади, что она umfallen und beissen wird, падает и кусает.
Мы знаем, с чем связан укус - с возникновением того, что происходит каждый раз, когда возникает нехватка любви матери. В тот момент, когда она готова упасть, у неё, как и у самого маленького Ганса, нет другого выхода, кроме как впасть в реакцию тревоги от неизбежности, в реакцию, что называется, катастрофическую. Первый этап -укусить. Второй этап - упасть, кататься по земле и шуметь, Krawall gemacht.
Необходимо иметь в виду структуры формулы, с помощью которой маленький Ганс совершенно фантастическим способом пытается восстановить момент, в который он подхватил фобию - теперь всегда, jetzt immer, говорит он, лошади, запряжённые в омнибус, падают.
Такова формула, в которой воплощается для маленького Ганса всё, о чём идёт речь, именно так выражает себя постановка под вопрос всего, что до настоящего момента составляло основу его мира.
3
Это подводит нас к 9 апреля, где имеет место одна разработка темы тревоги, вызываемой движением. Что способно её смягчить?
Отец абсолютно бесполезен, потому что на самом деле ничто не способно помочь такому существу, как человек, чей мир структурирован в символическом, разрешить проблему того ощутимого становления, которое, так сказать, увлекает его в движение.
Вот почему нужно, чтобы в своей означающей структуре маленький Ганс совершил эту конверсию, состоящую в том, чтобы поэтапно перейти от схемы движения к схеме замещения.
Сначала появится тема съёмных частей, затем с её помощью мы приходим к схеме замещения. Эти два схематических этапа нашли своё выражение в сюжете о ванне.
На первом этапе она отвинчивается. Она отвинчивается не просто так, но, как я вам говорил, нужно будет, чтобы предварительно маленький Ганс проделал в себе дыру. Этот переход никогда не бывает безоплатным, дело не только в кастрации, но и в том, что она должна быть формально символизирована этим большим сверлом, которое протыкает его живот, причём этой детали не придаётся достаточного значения в наблюдении.
На втором этапе, после того как что-то отвинчено, на это место можно прикрутить что-то другое. Эта означающая форма задает ритмическое членение (scande) операции трансформации, которая преобразует движение в замещение, а слитную протяжённость реального в прерывистость символического. Всё наблюдение указывает на этот маршрут, без учёта которого его этапы и ход развития останутся непонятны.
Что происходит в означаемом? Как понять путанность и патетику маленького Ганса, которые настигают его в период между 5 апреля, когда он создаёт схему фантазма о трогающейся с места телеге и связанной с ним фобией, и фантазматическим отвинчиванием ванны 11 апреля, где намечается символизация возможного замещения? Что происходит между этими двумя датами? Там форменный завал материала, который мне пришлось разгребать, длинный отрывок, на всём протяжении которого речь идёт об одном только элементе, принадлежащем предшествующей
самые основы его мира. Ганс говорит нам об этом, когда говорит о лошади, что она umfallen und beissen wird, падает и кусает.
Мы знаем, с чем связан укус - с возникновением того, что происходит каждый раз, когда возникает нехватка любви матери. В тот момент, когда она готова упасть, у неё, как и у самого маленького Ганса, нет другого выхода, кроме как впасть в реакцию тревоги от неизбежности, в реакцию, что называется, катастрофическую. Первый этап -укусить. Второй этап - упасть, кататься по земле и шуметь, Krawall gemacht.
Необходимо иметь в виду структуры формулы, с помощью которой маленький Ганс совершенно фантастическим способом пытается восстановить момент, в который он подхватил фобию - теперь всегда, jetzt immer, говорит он, лошади, запряжённые в омнибус, падают.
Такова формула, в которой воплощается для маленького Ганса всё, о чём идёт речь, именно так выражает себя постановка под вопрос всего, что до настоящего момента составляло основу его мира.
3
Это подводит нас к 9 апреля, где имеет место одна разработка темы тревоги, вызываемой движением. Что способно её смягчить?
Отец абсолютно бесполезен, потому что на самом деле ничто не способно помочь такому существу, как человек, чей мир структурирован в символическом, разрешить проблему того ощутимого становления, которое, так сказать, увлекает его в движение.
Вот почему нужно, чтобы в своей означающей структуре маленький Ганс совершил эту конверсию, состоящую в том, чтобы поэтапно перейти от схемы движения к схеме замещения.
Сначала появится тема съёмных частей, затем с её помощью мы приходим к схеме замещения. Эти два схематических этапа нашли своё выражение в сюжете о ванне.
На первом этапе она отвинчивается. Она отвинчивается не просто так, но, как я вам говорил, нужно будет, чтобы предварительно маленький Ганс проделал в себе дыру. Этот переход никогда не бывает безоплатным, дело не только в кастрации, но и в том, что она должна быть формально символизирована этим большим сверлом, которое протыкает его живот, причём этой детали не придаётся достаточного значения в наблюдении.
На втором этапе, после того как что-то отвинчено, на это место можно прикрутить что-то другое. Эта означающая форма задает ритмическое членение (scande) операции трансформации, которая преобразует движение в замещение, а слитную протяжённость реального в прерывистость символического. Всё наблюдение указывает на этот маршрут, без учёта которого его этапы и ход развития останутся непонятны.
Что происходит в означаемом? Как понять путанность и патетику маленького Ганса, которые настигают его в период между 5 апреля, когда он создаёт схему фантазма о трогающейся с места телеге и связанной с ним фобией, и фантазматическим отвинчиванием ванны 11 апреля, где намечается символизация возможного замещения? Что происходит между этими двумя датами? Там форменный завал материала, который мне пришлось разгребать, длинный отрывок, на всём протяжении которого речь идёт об одном только элементе, принадлежащем предшествующей ситуации - единственном элементе, способном применить съёмность в качестве основного инструмента реструктуризации его мира. Что это за элемент?
Это тот самый элемент, о котором я говорил, что именно он должен быть введён нами в диалектику, заключающуюся в том, чтобы показывать и не видеть, выдавать то, чего нет, за то, что есть, но спрятано. Элементом демонстрации и невидимости, воссоздания того, чего нет, как того, что скрыто - элементом этим является сама завеса.
Это два дня беспокойных расспросов ничего не понимающего отца, который предпринимает здесь так явно, как нигде в другом месте, лишь череду неуклюжих попыток, таким же образом отмеченных и Фрейдом, уточняющим, что эта часть является потерянной для аналитического исследования. Неважно, у нас есть достаточно, чтобы понять, что Фрейд позаботился подчеркнуть здесь кое-что существенное, то, что происходит перед покровом, то есть пару маленьких панталон.
Маленькие панталоны представлены в подробных и тщательных деталях, маленькие желтые панталоны и чёрные панталоны. Панталоны, как нам сообщают, это видоизменённые брюки, смелое нововведение для женщин, пользующихся велосипедом. Действительно, нам известно, что мать Ганса придерживается передовых, прогрессивных тенденций. К матери мы вернемся, и в прекрасных комедиях Апполинера, в поэме «Сосцы Тиресия», в частности, есть описание, которое поможет нам лучше представить её образ. Как сказано в этой замечательной драме:
Они совсем как мы
Лишь только не мужчины
Вот в чём вся драма. С этого всё и начинается. Дело не в том, что мать маленького Ганса в большей или меньшей степени феминистка, дело в той фундаментальной истине, которая звучит в строках, которые я вам только что процитировал. Фрейд никогда не смягчал решающего значения этой истины - не случайно напомнил он нам фразу Наполеона, согласно которой анатомия - это судьба. Дело именно в этом, и именно об этом мы читаем в том, что формулирует в своей речи маленький Ганс. Ярые вопросы отца постоянно прерывают его и затрудняют понимание ответов, но Фрейд объясняет нам, в чём их суть.
Наиболее очевидным для нас здесь является то, что маленький Ганс распознаёт и различает панталоны в два этапа. Но это проецируется на их двойственность запутанным образом, как если бы одни в определённый момент могли бы принять на себя дополнительно функцию других. Принципиально важным здесь является вот что -панталоны как таковые связаны у маленького Ганса с реакцией отвращения. Более того, маленький Ганс попросил написать Фрейду, что, когда он увидел панталоны, он плюнул, упал на землю, после чего закрыл глаза. Именно такая реакция означает, что выбор сделан - маленький Ганс никогда не станет фетишистом.
Если бы он, напротив, узнал в этих панталонах свой объект, а именно тот самый таинственный фаллос, который никто никогда не видел, то он удовлетворился бы этим и стал фетишистом, но поскольку судьба распорядилась иначе, панталоны маленькому Гансу отвратительны.
Но он уточняет, что, когда их носит мать, - это другое дело. Тогда они уже совсем не отвратительные. В этом вся разница. Там, где они могут быть предложены ему как объект, когда они сами по себе, он их отталкивает. Они сохраняют своё свойство, если можно так выразиться, лишь исполняя свою функцию, лишь там, где они позволяют ему
ситуации - единственном элементе, способном применить съёмность в качестве основного инструмента реструктуризации его мира. Что это за элемент?
Это тот самый элемент, о котором я говорил, что именно он должен быть введён нами в диалектику, заключающуюся в том, чтобы показывать и не видеть, выдавать то, чего нет, за то, что есть, но спрятано. Элементом демонстрации и невидимости, воссоздания того, чего нет, как того, что скрыто - элементом этим является сама завеса.
Это два дня беспокойных расспросов ничего не понимающего отца, который предпринимает здесь так явно, как нигде в другом месте, лишь череду неуклюжих попыток, таким же образом отмеченных и Фрейдом, уточняющим, что эта часть является потерянной для аналитического исследования. Неважно, у нас есть достаточно, чтобы понять, что Фрейд позаботился подчеркнуть здесь кое-что существенное, то, что происходит перед покровом, то есть пару маленьких панталон.
Маленькие панталоны представлены в подробных и тщательных деталях, маленькие желтые панталоны и чёрные панталоны. Панталоны, как нам сообщают, это видоизменённые брюки, смелое нововведение для женщин, пользующихся велосипедом. Действительно, нам известно, что мать Ганса придерживается передовых, прогрессивных тенденций. К матери мы вернемся, и в прекрасных комедиях Апполинера, в поэме «Сосцы Тиресия», в частности, есть описание, которое поможет нам лучше представить её образ. Как сказано в этой замечательной драме:
Они совсем как мы
Лишь только не мужчины
Вот в чём вся драма. С этого всё и начинается. Дело не в том, что мать маленького Ганса в большей или меньшей степени феминистка, дело в той фундаментальной истине, которая звучит в строках, которые я вам только что процитировал. Фрейд никогда не смягчал решающего значения этой истины - не случайно напомнил он нам фразу Наполеона, согласно которой анатомия - это судьба. Дело именно в этом, и именно об этом мы читаем в том, что формулирует в своей речи маленький Ганс. Ярые вопросы отца постоянно прерывают его и затрудняют понимание ответов, но Фрейд объясняет нам, в чём их суть.
Наиболее очевидным для нас здесь является то, что маленький Ганс распознаёт и различает панталоны в два этапа. Но это проецируется на их двойственность запутанным образом, как если бы одни в определённый момент могли бы принять на себя дополнительно функцию других. Принципиально важным здесь является вот что -панталоны как таковые связаны у маленького Ганса с реакцией отвращения. Более того, маленький Ганс попросил написать Фрейду, что, когда он увидел панталоны, он плюнул, упал на землю, после чего закрыл глаза. Именно такая реакция означает, что выбор сделан - маленький Ганс никогда не станет фетишистом.
Если бы он, напротив, узнал в этих панталонах свой объект, а именно тот самый таинственный фаллос, который никто никогда не видел, то он удовлетворился бы этим и стал фетишистом, но поскольку судьба распорядилась иначе, панталоны маленькому Гансу отвратительны.
Но он уточняет, что, когда их носит мать, - это другое дело. Тогда они уже совсем не отвратительные. В этом вся разница. Там, где они могут быть предложены ему как объект, когда они сами по себе, он их отталкивает. Они сохраняют своё свойство, если можно так выразиться, лишь исполняя свою функцию, лишь там, где они позволяют ему поддерживать обманку фаллоса. Это и есть нерв, позволяющий нам понять полученные в опыте данные.
Реальность обнаруживает свое значение в этих долгих расспросах, в процессе которых маленький Ганс пытается объясниться. Если у него это не получается, то ровно постольку, поскольку его подталкивают в расходящихся и запутанных направлениях, но главное - это введение через посредничество привилегированного объекта элемента съёмности, который мы обнаружим далее и который с того момента переносит нас на план инструментализации. Мы увидим потрясающее разрастание материала, связанного с инструментами, - материла, который с этой поры станет в развитии означающего мифа преобладающим.
Я уже приводил примеры нескольких таких инструментов и показал также, как много особенностей вписано уже на уровне двусмысленности означающего, например, эта поразительная омонимия между щипцами, копытом и зубами лошади. Я мог бы и дальше продолжить её, сказав, что середина копыта называется щипцами, а две его стороны - сосцами.
В прошлый раз, упоминая о Schraubendreher, то есть об отвёртке, я сказал вам, что это не совсем то, что фигурирует в фантазии об установщике, что речь идёт именно о клещах, острогубцах. Фрейд выявляет тогда слово Zange, толком не представляя ценность, которую имеет эта инструментализация. И не только здесь. В объектах, которые теперь будут постепенно обнаруживать своё присутствие, вы увидите не только отношения матери и ребёнка, но и эту принципиальную сменяемость, которая выражает себя в человеческом вопросе о рождении и смерти. И на заднем плане мелькает загадочный, зловещий, вычурный персонаж аиста.
Но опять же не забывайте, что у аиста совершенно другой стиль. Этот Месье Аист, der Storch, - вы увидите, как появляется его экстравагантный силуэт в маленькой шапочке и с ключами, которые он держит в клюве, потому что у него нет карманов, и он пользуется своим клювом также как щипцами, держателем, зажимом.
С этого момента мы перегружены материалом, и это будет характерно для всей оставшейся части наблюдения. Чтобы не оставлять вас без какой-то конкретики, я подчеркнул бы осевой, поворотный момент того, что происходит вокруг матери и ребёнка.
В следующий раз мы рассмотрим всё это шаг за шагом и увидим, посредством каких конкретных означающих форм эта мать и этот ребёнок всегда оказываются, в трансформированном виде, самими собой. Повозка становится ванной, затем ящиком и так далее. Все эти элементы вмещаются (s'emboîtant) один в другой.
После того, как произошли некоторые подвижки с матерью, - вы увидите, какие именно - 22 апреля возникает одна маленькая прекрасная фантазия. Это игра с маленькой резиновой куклой, которую Ганс как бы случайно называет Гретой.
- Почему? - спрашивают у него.
- Потому что я назвал её Гретой.
Если как следует читать случай, обнаружится то, что, похоже, ускользнуло от отца, а именно то, что как раз эта девочка была свидетелем игры с матерью.
Но здесь мы кое-чего достигли, мы уже достаточно продвинулись в овладении, обуздании (maîtrise) матери. Термин овладение, обуздание (maîtrise) применяется здесь в наиболее техническом смысле, и вы увидите, посредством чего мы научились набрасывать на неё поводья и даже чуть-чуть пришпоривать, понуждать её.
поддерживать обманку фаллоса. Это и есть нерв, позволяющий нам понять полученные в опыте данные.
Реальность обнаруживает свое значение в этих долгих расспросах, в процессе которых маленький Ганс пытается объясниться. Если у него это не получается, то ровно постольку, поскольку его подталкивают в расходящихся и запутанных направлениях, но главное - это введение через посредничество привилегированного объекта элемента съёмности, который мы обнаружим далее и который с того момента переносит нас на план инструментализации. Мы увидим потрясающее разрастание материала, связанного с инструментами, - материла, который с этой поры станет в развитии означающего мифа преобладающим.
Я уже приводил примеры нескольких таких инструментов и показал также, как много особенностей вписано уже на уровне двусмысленности означающего, например, эта поразительная омонимия между щипцами, копытом и зубами лошади. Я мог бы и дальше продолжить её, сказав, что середина копыта называется щипцами, а две его стороны - сосцами.
В прошлый раз, упоминая о Schraubendreher, то есть об отвёртке, я сказал вам, что это не совсем то, что фигурирует в фантазии об установщике, что речь идёт именно о клещах, острогубцах. Фрейд выявляет тогда слово Zange, толком не представляя ценность, которую имеет эта инструментализация. И не только здесь. В объектах, которые теперь будут постепенно обнаруживать своё присутствие, вы увидите не только отношения матери и ребёнка, но и эту принципиальную сменяемость, которая выражает себя в человеческом вопросе о рождении и смерти. И на заднем плане мелькает загадочный, зловещий, вычурный персонаж аиста.
Но опять же не забывайте, что у аиста совершенно другой стиль. Этот Месье Аист, der Storch, - вы увидите, как появляется его экстравагантный силуэт в маленькой шапочке и с ключами, которые он держит в клюве, потому что у него нет карманов, и он пользуется своим клювом также как щипцами, держателем, зажимом.
С этого момента мы перегружены материалом, и это будет характерно для всей оставшейся части наблюдения. Чтобы не оставлять вас без какой-то конкретики, я подчеркнул бы осевой, поворотный момент того, что происходит вокруг матери и ребёнка.
В следующий раз мы рассмотрим всё это шаг за шагом и увидим, посредством каких конкретных означающих форм эта мать и этот ребёнок всегда оказываются, в трансформированном виде, самими собой. Повозка становится ванной, затем ящиком и так далее. Все эти элементы вмещаются (s'emboîtant) один в другой.
После того, как произошли некоторые подвижки с матерью, - вы увидите, какие именно - 22 апреля возникает одна маленькая прекрасная фантазия. Это игра с маленькой резиновой куклой, которую Ганс как бы случайно называет Гретой.
- Почему? - спрашивают у него.
- Потому что я назвал её Гретой.
Если как следует читать случай, обнаружится то, что, похоже, ускользнуло от отца, а именно то, что как раз эта девочка была свидетелем игры с матерью.
Но здесь мы кое-чего достигли, мы уже достаточно продвинулись в овладении, обуздании (maîtrise) матери. Термин овладение, обуздание (maîtrise) применяется здесь в наиболее техническом смысле, и вы увидите, посредством чего мы научились набрасывать на неё поводья и даже чуть-чуть пришпоривать, понуждать её. Маленький Ганс вводит в маленькую куклу нож, протыкая её, затем делает кое-что, чтобы его вытащить. Он повторяет свою маленькую перфорацию небольшим перочинным ножичком, который он предварительно ввёл через маленькое отверстие, в которое раньше был вделан свисток, но на этот раз изнутри.
Маленький Ганс определённо оставил за собой последнее слово, дошёл до финального пункта фарса. Мать точила на него в своей голове ножичек, чтобы пустить его в ход. И маленький Ганс нашёл способ его извлечь.
22 мая 1957
Маленький Ганс вводит в маленькую куклу нож, протыкая её, затем делает кое-что, чтобы его вытащить. Он повторяет свою маленькую перфорацию небольшим перочинным ножичком, который он предварительно ввёл через маленькое отверстие, в которое раньше был вделан свисток, но на этот раз изнутри.
Маленький Ганс определённо оставил за собой последнее слово, дошёл до финального пункта фарса. Мать точила на него в своей голове ножичек, чтобы пустить его в ход. И маленький Ганс нашёл способ его извлечь.
22 мая 1957
 Я, вместе с Фрейдом, сделал акцент на том, что показалось ему наиболее существенным сухим остатком этого диалога, а именно на том утверждении, которое никаким образом не является ни подсказанным, ни внушённым в процессе расспросов, что двое панталон имеют абсолютно разный смысл в зависимости от того, сами ли они по себе - в этом случае маленький Ганс плюёт и катается по земле, всем своим видом демонстрируя отвращение, которое непонятно ему самому, но о котором он проявляет желание уведомить профессора, - или когда они на матери, когда они имеют для него совершенно другой смысл.
Сделав этот акцент, я имел возможность услышать со стороны некоторых невесть какое удивление по поводу того, что я де уклоняюсь от сопоставления так называемых Hosen, панталон матери, и loumf.
В словаре маленького Ганса loumf - это экскременты. Такое нетипичное название объясняется тем, что именование эта функция получает у ребёнка случайно, в зависимости от того, как она была названа в первый раз в связи с её осуществлением. Посмотрим, в чём тут дело.
По неведомым системным соображениям мне вменятся устранение этой самой анальной стадии, которая возникает в определённый момент в нашем сознании точно так же, как при нажатии кнопки вкл появляется условный рефлекс у собаки Павлова. В момент, когда вы слышите об экскрементах, тотчас возникает - Анальная стадия! Анальная стадия! Анальная стадия! Хорошо, поговорим об анальной стадии, поскольку нужно, чтобы дело шло своим чередом.
Я бы хотел, чтобы вы сделали небольшой шаг в сторону от этого наблюдения и увидели, что, несомненно, есть кое-что, никак в процессе этого скоротечного лечения не обозначенное. И разве это лечение? Я точно не говорил, что это было лечением, я сказал, что это текст, который имеет фундаментальное значение для нашего аналитического опыта, как любой другой большой случай Фрейда. В любом случае мы не можем в нём обнаружить ничего такого, что можно было бы вписать в регистр фрустрация-регрессия-агрессия.
В течение всего периода вышеупомянутого лечения маленький Ганс не только не подвергается никакой фрустрации, он, напротив, удовлетворен сполна. Регрессия, агрессия? Агрессия, вне всяких сомнений, существует, но совершенно точно не связанная ни с фрустрацией, ни с регрессией. Если регрессия и имеет место, то не в инстинктивном смысле и не в смысле возрождения чего-то минувшего.
Если и в самом деле имеет место феномен регрессии, то располагается он в регистре, на возможность которого я вам неоднократно указывал. Это то, что происходит, когда из-за необходимости прояснить свою проблему субъект прибегает к редукции того или иного элемента своего бытия-в-мире, своих отношений, например, к редукции с переходом от символического к воображаемому, иногда даже, как показано в этом наблюдении, от реального к воображаемому. Другими словами, речь прежде всего идёт о содержательном изменении одного из присутствующих терминов. Именно это вы и видите по ходу наблюдения, когда маленький Ганс продолжает свою разработку со строгостью и императивностью, характерными для означающего процесса, который Фрейд определил в качестве бессознательного. Субъект никоим образом не может этого осознавать, он буквально ничего не знает о том, что он делает; достаточно, чтобы его просто побуждали к развитию означающего воздействия, которое он сам допустил как необходимое для своей психологической поддержки, чтобы,
Я, вместе с Фрейдом, сделал акцент на том, что показалось ему наиболее существенным сухим остатком этого диалога, а именно на том утверждении, которое никаким образом не является ни подсказанным, ни внушённым в процессе расспросов, что двое панталон имеют абсолютно разный смысл в зависимости от того, сами ли они по себе - в этом случае маленький Ганс плюёт и катается по земле, всем своим видом демонстрируя отвращение, которое непонятно ему самому, но о котором он проявляет желание уведомить профессора, - или когда они на матери, когда они имеют для него совершенно другой смысл.
Сделав этот акцент, я имел возможность услышать со стороны некоторых невесть какое удивление по поводу того, что я де уклоняюсь от сопоставления так называемых Hosen, панталон матери, и loumf.
В словаре маленького Ганса loumf - это экскременты. Такое нетипичное название объясняется тем, что именование эта функция получает у ребёнка случайно, в зависимости от того, как она была названа в первый раз в связи с её осуществлением. Посмотрим, в чём тут дело.
По неведомым системным соображениям мне вменятся устранение этой самой анальной стадии, которая возникает в определённый момент в нашем сознании точно так же, как при нажатии кнопки вкл появляется условный рефлекс у собаки Павлова. В момент, когда вы слышите об экскрементах, тотчас возникает - Анальная стадия! Анальная стадия! Анальная стадия! Хорошо, поговорим об анальной стадии, поскольку нужно, чтобы дело шло своим чередом.
Я бы хотел, чтобы вы сделали небольшой шаг в сторону от этого наблюдения и увидели, что, несомненно, есть кое-что, никак в процессе этого скоротечного лечения не обозначенное. И разве это лечение? Я точно не говорил, что это было лечением, я сказал, что это текст, который имеет фундаментальное значение для нашего аналитического опыта, как любой другой большой случай Фрейда. В любом случае мы не можем в нём обнаружить ничего такого, что можно было бы вписать в регистр фрустрация-регрессия-агрессия.
В течение всего периода вышеупомянутого лечения маленький Ганс не только не подвергается никакой фрустрации, он, напротив, удовлетворен сполна. Регрессия, агрессия? Агрессия, вне всяких сомнений, существует, но совершенно точно не связанная ни с фрустрацией, ни с регрессией. Если регрессия и имеет место, то не в инстинктивном смысле и не в смысле возрождения чего-то минувшего.
Если и в самом деле имеет место феномен регрессии, то располагается он в регистре, на возможность которого я вам неоднократно указывал. Это то, что происходит, когда из-за необходимости прояснить свою проблему субъект прибегает к редукции того или иного элемента своего бытия-в-мире, своих отношений, например, к редукции с переходом от символического к воображаемому, иногда даже, как показано в этом наблюдении, от реального к воображаемому. Другими словами, речь прежде всего идёт о содержательном изменении одного из присутствующих терминов. Именно это вы и видите по ходу наблюдения, когда маленький Ганс продолжает свою разработку со строгостью и императивностью, характерными для означающего процесса, который Фрейд определил в качестве бессознательного. Субъект никоим образом не может этого осознавать, он буквально ничего не знает о том, что он делает; достаточно, чтобы его просто побуждали к развитию означающего воздействия, которое он сам допустил как необходимое для своей психологической поддержки, чтобы, развивая его, прийти к определённому решению, которое не обязательно является ни нормализующим решением, ни лучшим решением, но точно решением, которое, как в случае маленького Ганса, наиболее очевидным образом разрешает симптом.
Вернёмся к loumf.
По поводу знаков отвращения, проявленных по отношению к панталонам матери, Фрейд говорит о связи с loumf, loumf-Zusammenhang. И отец задаёт вопросы в том же ключе; маленький Ганс однозначно показал, что вопрос экскрементов не является для него ни бессмысленным, ни безынтересным. Но в связи с loumf порядок обратный - мы можем сказать, что здесь, наоборот, loumf упоминается в связи с панталонами.
Что мы хотим этим сказать? Дело не только в том, что из-за реакции отвращения, возникающей по поводу панталон матери, маленький Ганс заговаривает об экскрементальных функциях. В связи с чем появляются в наблюдении экскременты и анальное? Несомненно, маленький Ганс проявляет к loumf интерес, который, возможно, не обходится без связи с его собственной экскрементальной функцией. Но то, о чём идёт речь в тот момент, - это причастность Ганса, полностью признаваемая матерью, к осуществлению её экскрементальных функций.
Каждый раз, когда она надевает и снимает панталоны, маленький Ганс увязывается за ней, докучает ей, а мать оправдывается перед отцом, говоря: «Я не могу поступить иначе, кроме как взять его с собой в туалет». Отец, впрочем, почти в курсе дела и снова принимается за своё небольшое расследование. Маленький Ганс и его мать играют между собой в игру видеть - не видеть, но также и в видеть то, что не может быть увиденным, потому что этого не существует, и маленький Ганс прекрасно об этом знает. Чтобы увидеть то, что не может быть увиденным, нужно прикрыть это вуалью, то есть разместить вуаль перед несуществованием того, что следует увидеть. В теме вуали, панталон, одежды угадывается принципиально важный для отношений матери и ребёнка фантазм - фантазм фаллической матери. В мотивах этой темы задействуется loumf.
Следовательно, если я помещаю loumf на положенный ему, то есть второй, план, то делаю это не ради систематизации, а потому что в наблюдении он приведён нам только в этой связи. В анализе недостаточно услышать известный мотив, чтобы в тот же миг испытать восторг и, оказавшись в знакомых краях, удовлетвориться расхожим рефреном (ritournelle), в данном случае - анальным комплексом. Важно знать, какую функцию несёт эта тема в тот или иной конкретный момент анализа. Если эта тема всегда важна для нас, то не просто по причине этого само собой разумеющегося значения, самого по себе расплывчатого и связанного лишь с идеями возрастного развития (génétisme), которые могут в этом конкретном случае в любой из моментов наблюдения быть оспорены. Она важна для нас тем, что связана с полной системой означающего, которая развивается как в симптомах болезни, так и в процессе лечения.
Если loumf внутри этой системы имеет дополнительное значение, то именно по причине своей строгой гомологичности функции панталон, то есть функции вуали. Loumf, как и панталоны, представляет собой нечто, что может упасть. Завеса падает, и проблема Ганса находится именно в том измерении, где завеса падает.
Он, можно сказать, приподнимает эту завесу, поскольку именно в связи с тем, что происходит 9 апреля, с длинными объяснениями относительно панталон, появляется, как мы видим, фантазм о ванне, то есть вводится элемент, имеющий наиболее тесную связь с падением. Комбинация этого падения с другим термином, в присутствии
развивая его, прийти к определённому решению, которое не обязательно является ни нормализующим решением, ни лучшим решением, но точно решением, которое, как в случае маленького Ганса, наиболее очевидным образом разрешает симптом.
Вернёмся к loumf.
По поводу знаков отвращения, проявленных по отношению к панталонам матери, Фрейд говорит о связи с loumf, loumf-Zusammenhang. И отец задаёт вопросы в том же ключе; маленький Ганс однозначно показал, что вопрос экскрементов не является для него ни бессмысленным, ни безынтересным. Но в связи с loumf порядок обратный - мы можем сказать, что здесь, наоборот, loumf упоминается в связи с панталонами.
Что мы хотим этим сказать? Дело не только в том, что из-за реакции отвращения, возникающей по поводу панталон матери, маленький Ганс заговаривает об экскрементальных функциях. В связи с чем появляются в наблюдении экскременты и анальное? Несомненно, маленький Ганс проявляет к loumf интерес, который, возможно, не обходится без связи с его собственной экскрементальной функцией. Но то, о чём идёт речь в тот момент, - это причастность Ганса, полностью признаваемая матерью, к осуществлению её экскрементальных функций.
Каждый раз, когда она надевает и снимает панталоны, маленький Ганс увязывается за ней, докучает ей, а мать оправдывается перед отцом, говоря: «Я не могу поступить иначе, кроме как взять его с собой в туалет». Отец, впрочем, почти в курсе дела и снова принимается за своё небольшое расследование. Маленький Ганс и его мать играют между собой в игру видеть - не видеть, но также и в видеть то, что не может быть увиденным, потому что этого не существует, и маленький Ганс прекрасно об этом знает. Чтобы увидеть то, что не может быть увиденным, нужно прикрыть это вуалью, то есть разместить вуаль перед несуществованием того, что следует увидеть. В теме вуали, панталон, одежды угадывается принципиально важный для отношений матери и ребёнка фантазм - фантазм фаллической матери. В мотивах этой темы задействуется loumf.
Следовательно, если я помещаю loumf на положенный ему, то есть второй, план, то делаю это не ради систематизации, а потому что в наблюдении он приведён нам только в этой связи. В анализе недостаточно услышать известный мотив, чтобы в тот же миг испытать восторг и, оказавшись в знакомых краях, удовлетвориться расхожим рефреном (ritournelle), в данном случае - анальным комплексом. Важно знать, какую функцию несёт эта тема в тот или иной конкретный момент анализа. Если эта тема всегда важна для нас, то не просто по причине этого само собой разумеющегося значения, самого по себе расплывчатого и связанного лишь с идеями возрастного развития (génétisme), которые могут в этом конкретном случае в любой из моментов наблюдения быть оспорены. Она важна для нас тем, что связана с полной системой означающего, которая развивается как в симптомах болезни, так и в процессе лечения.
Если loumf внутри этой системы имеет дополнительное значение, то именно по причине своей строгой гомологичности функции панталон, то есть функции вуали. Loumf, как и панталоны, представляет собой нечто, что может упасть. Завеса падает, и проблема Ганса находится именно в том измерении, где завеса падает.
Он, можно сказать, приподнимает эту завесу, поскольку именно в связи с тем, что происходит 9 апреля, с длинными объяснениями относительно панталон, появляется, как мы видим, фантазм о ванне, то есть вводится элемент, имеющий наиболее тесную связь с падением. Комбинация этого падения с другим термином, в присутствии которого Ганс столкнулся с фобией, а именно с укусом, создаёт тему съёмности, отвинчивания, ставшую принципиально важным элементом редукции ситуации в череде фантазмов.
Череду фантазмов маленького Ганса определённо следует понимать как миф в развитии, дискурс. В наблюдении речь идёт не о чём другом, как о серии переизобретений этого мифа с помощью воображаемых элементов. Дело в том, чтобы понять функцию этого идущего по кругу прогресса, этих серий преобразований мифа и то, что из себя представляет на глубинном уровне для Ганса решение проблемы его собственной позиции в существовании, как имеющей отношение к определённой истине, определённому количеству ориентиров истины, в которых ему предстоит занять своё место.
Если бы тому, о чём я сказал вам, нужны были какие-то дополнительные доказательства, - поскольку мне возразили и я это возражение услышал, я настаиваю на том, чтобы разобраться с ним до конца - я бы добавил, что маленький Ганс, когда он возвращается от бабушки в воскресенье вечером 12 апреля, выказывает своё отвращение к чёрным подушкам в купе вагона, потому что это 1ои1^. В дальнейшем объяснении с отцом что следующее будет сравниваться с чёрнотой 1ои1^? Чёрная блузка и чёрные чулки. Тесная связь темы 1ои1^ с одеждой матери, то есть с темой вуали, удостоверяется в наблюдении самим маленьким Гансом, правда, по ходу ответов на вопросы его отца.
К слову, что такое 1ои1^ и откуда он взялся? Почему маленький Ганс назвал экскременты 1ои1^? И об этом тоже нам сказано в наблюдении - это сравнение с черными чулками.
Короче говоря, в том сегменте наблюдения, который мы изучаем, 1ои1^, то есть экскременты, всегда выступают в роли означающей артикуляции в связи с темой одежды, вуали, за которой скрывается отрицаемое отсутствие пениса матери. Вот что имеет принципиально важное значение.
Следовательно, мы никаким образом не меняем направление наблюдения и никак не изменяем его духу, когда намечаем эту смысловую ось, чтобы понять развитие его мифических преобразований, благодаря которым в анализе достигается снижение фобии.
2
Итак, мы добрались до 11 апреля и фантазма о ванне.
Я вам говорил, что с ванны начинается мобилизация ситуации, то есть удушливой и единственной реальности, воплощаемой матерью, с которой Ганс по причинам х чувствует себя связанным, сопровождающейся максимальным усилением тревоги. С этого момента он разом чувствует, что полностью принадлежит матери, она угрожает ему уничтожением, она представляет собой опасность, причём опасность безымянную, то есть именно тревогу. Посмотрим, как ребёнок выходит из этой ситуации.
Я напомню вам основополагающую схему ситуации, в которой ребёнок один на один с матерью на пути к потере её любви.
которого Ганс столкнулся с фобией, а именно с укусом, создаёт тему съёмности, отвинчивания, ставшую принципиально важным элементом редукции ситуации в череде фантазмов.
Череду фантазмов маленького Ганса определённо следует понимать как миф в развитии, дискурс. В наблюдении речь идёт не о чём другом, как о серии переизобретений этого мифа с помощью воображаемых элементов. Дело в том, чтобы понять функцию этого идущего по кругу прогресса, этих серий преобразований мифа и то, что из себя представляет на глубинном уровне для Ганса решение проблемы его собственной позиции в существовании, как имеющей отношение к определённой истине, определённому количеству ориентиров истины, в которых ему предстоит занять своё место.
Если бы тому, о чём я сказал вам, нужны были какие-то дополнительные доказательства, - поскольку мне возразили и я это возражение услышал, я настаиваю на том, чтобы разобраться с ним до конца - я бы добавил, что маленький Ганс, когда он возвращается от бабушки в воскресенье вечером 12 апреля, выказывает своё отвращение к чёрным подушкам в купе вагона, потому что это 1ои1^. В дальнейшем объяснении с отцом что следующее будет сравниваться с чёрнотой 1ои1^? Чёрная блузка и чёрные чулки. Тесная связь темы 1ои1^ с одеждой матери, то есть с темой вуали, удостоверяется в наблюдении самим маленьким Гансом, правда, по ходу ответов на вопросы его отца.
К слову, что такое 1ои1^ и откуда он взялся? Почему маленький Ганс назвал экскременты 1ои1^? И об этом тоже нам сказано в наблюдении - это сравнение с черными чулками.
Короче говоря, в том сегменте наблюдения, который мы изучаем, 1ои1^, то есть экскременты, всегда выступают в роли означающей артикуляции в связи с темой одежды, вуали, за которой скрывается отрицаемое отсутствие пениса матери. Вот что имеет принципиально важное значение.
Следовательно, мы никаким образом не меняем направление наблюдения и никак не изменяем его духу, когда намечаем эту смысловую ось, чтобы понять развитие его мифических преобразований, благодаря которым в анализе достигается снижение фобии.
2
Итак, мы добрались до 11 апреля и фантазма о ванне.
Я вам говорил, что с ванны начинается мобилизация ситуации, то есть удушливой и единственной реальности, воплощаемой матерью, с которой Ганс по причинам х чувствует себя связанным, сопровождающейся максимальным усилением тревоги. С этого момента он разом чувствует, что полностью принадлежит матери, она угрожает ему уничтожением, она представляет собой опасность, причём опасность безымянную, то есть именно тревогу. Посмотрим, как ребёнок выходит из этой ситуации.
Я напомню вам основополагающую схему ситуации, в которой ребёнок один на один с матерью на пути к потере её любви. Enfant Es Mère S i S (i)
Pénis réel Sein R. Anna
Мать, поскольку она может отсутствовать и присутствовать, является матерью символической, первым элементом реальности, символизированной ребёнком. Когда с её стороны имеет место отказ в любви, компенсация этому обнаруживается в реальной груди как подавление реальным удовлетворением. Но это не означает, что при этом не возникает инверсия. На самом деле в том измерении, где грудь является компенсацией, она тотчас становится символическим даром, в то время как мать становится реальным, то есть всемогущим элементом, отказывающим в своей любви.
Развитие ситуации с матерью сводится к тому, что ребёнок должен открыть для себя то, что по другую сторону матери любимо ею. Воображаемым элементом является не ребёнок, но i, то есть материнское желание фаллоса. В конце концов, то, что ребёнок должен сделать на этом уровне - и вовсе не обязательно он это сделает - это совершить переход по формуле i ^ 5 (i). Именно это замечаем мы в сокрытии, которое разыгрывает ещё не заговоривший ребёнок, когда чередование его действий сопровождается парным символическим противопоставлением, вокализированной оппозицией.
Для маленького Ганса эта схема усложняется введением двух реальных элементов. С одной стороны, Анна, то есть реальный ребёнок, усложняет ситуацию в отношениях с тем, что по ту сторону матери. И потом, есть кое-что, действительно ему принадлежащее, с чем он буквально не понимает, что делать, - это реальный пенис, который начинает возбуждаться и который получает плохой приём от персоны, вызывающей его функционирование. Маленький Ганс приходит к матери со словами: «Ты не находишь его милым?» Тётка как-то сказала ему: «Красивее и не бывает». Мать же, наоборот, очень плохо встретила слова Ганса, и с этого момента вопрос сильно усложняется.
Чтобы проанализировать это усложнение, достаточно воспользоваться только двумя полюсами фобии, а именно двумя элементами, несущими в себе угрозу со стороны лошади: лошадь кусает и лошадь падает.
Лошадь кусает означает: «Поскольку мне уже нечем удовлетворить мать, она будет удовлетворять себя так же, как и я удовлетворяю себя, когда она меня ничем не удовлетворяет, то есть она будет кусать меня, как я её кусаю, потому что это моё последнее средство, чтобы убедиться в её любви».
Лошадь падает (tombe): «Она падает точно также, как упал и я, маленький Ганс, которого бросили (laissé tombé), потому что теперь думают только об Анне».
С другой стороны, ясно, что так или иначе нужно, чтобы маленький Ганс был съеденным и укушенным. Это необходимо, потому что соответствует новой переоценке принятого за ничто и отвергнутого матерью пениса; чтобы стать чем-то, а ведь именно к этому стремится маленький Ганс, ему нужно быть укушенным. Укус, захват его матерью является настолько же желанным, насколько и пугающим.
То же самое для падения. Для маленького Ганса падение лошади может быть не только пугающим, но и желанным. У маленького Ганса было желание увидеть падение не только этого элемента. С тех пор как мы ввели в наблюдение категорию падения, первым его элементом представляется маленькая Анна. Он хочет, чтобы она упала с
Enfant Es Mère S i S (i)
Pénis réel Sein R. Anna
Мать, поскольку она может отсутствовать и присутствовать, является матерью символической, первым элементом реальности, символизированной ребёнком. Когда с её стороны имеет место отказ в любви, компенсация этому обнаруживается в реальной груди как подавление реальным удовлетворением. Но это не означает, что при этом не возникает инверсия. На самом деле в том измерении, где грудь является компенсацией, она тотчас становится символическим даром, в то время как мать становится реальным, то есть всемогущим элементом, отказывающим в своей любви.
Развитие ситуации с матерью сводится к тому, что ребёнок должен открыть для себя то, что по другую сторону матери любимо ею. Воображаемым элементом является не ребёнок, но i, то есть материнское желание фаллоса. В конце концов, то, что ребёнок должен сделать на этом уровне - и вовсе не обязательно он это сделает - это совершить переход по формуле i ^ 5 (i). Именно это замечаем мы в сокрытии, которое разыгрывает ещё не заговоривший ребёнок, когда чередование его действий сопровождается парным символическим противопоставлением, вокализированной оппозицией.
Для маленького Ганса эта схема усложняется введением двух реальных элементов. С одной стороны, Анна, то есть реальный ребёнок, усложняет ситуацию в отношениях с тем, что по ту сторону матери. И потом, есть кое-что, действительно ему принадлежащее, с чем он буквально не понимает, что делать, - это реальный пенис, который начинает возбуждаться и который получает плохой приём от персоны, вызывающей его функционирование. Маленький Ганс приходит к матери со словами: «Ты не находишь его милым?» Тётка как-то сказала ему: «Красивее и не бывает». Мать же, наоборот, очень плохо встретила слова Ганса, и с этого момента вопрос сильно усложняется.
Чтобы проанализировать это усложнение, достаточно воспользоваться только двумя полюсами фобии, а именно двумя элементами, несущими в себе угрозу со стороны лошади: лошадь кусает и лошадь падает.
Лошадь кусает означает: «Поскольку мне уже нечем удовлетворить мать, она будет удовлетворять себя так же, как и я удовлетворяю себя, когда она меня ничем не удовлетворяет, то есть она будет кусать меня, как я её кусаю, потому что это моё последнее средство, чтобы убедиться в её любви».
Лошадь падает (tombe): «Она падает точно также, как упал и я, маленький Ганс, которого бросили (laissé tombé), потому что теперь думают только об Анне».
С другой стороны, ясно, что так или иначе нужно, чтобы маленький Ганс был съеденным и укушенным. Это необходимо, потому что соответствует новой переоценке принятого за ничто и отвергнутого матерью пениса; чтобы стать чем-то, а ведь именно к этому стремится маленький Ганс, ему нужно быть укушенным. Укус, захват его матерью является настолько же желанным, насколько и пугающим.
То же самое для падения. Для маленького Ганса падение лошади может быть не только пугающим, но и желанным. У маленького Ганса было желание увидеть падение не только этого элемента. С тех пор как мы ввели в наблюдение категорию падения, первым его элементом представляется маленькая Анна. Он хочет, чтобы она упала с выступающего балкона в стиле сецессиона - мы в доме людей передовых вкусов - и для того, чтобы у маленького Ганса не так легко получилось вытолкать малышку Анну наружу, зазоры решетки заделали уродливыми прутьями.
Как функция укуса, так и функция падения даны в наиболее очевидных структурах фобии. Они представляют собой её сущностные элементы. Как вы видите, это двухсторонние означающие элементы. Вот истинный смысл термина амбивалентность. Падение, как и укус, не только пугает маленького Ганса. Эти элементы могут вмешиваться также и в противоположном смысле. Укус в определённом смысле является желаемым, поскольку сыграет принципиально важную роль в разрешении ситуации. Падение - также желаемый элемент: девочка, само собой, упасть не должна, зато мать в процессе наблюдения точно опишет кривую траектории падения после появления занимательной инструментальной функции отвинчивания, которая впервые возникает загадочным образом в фантазии о ванне.
Как я говорил вам в прошлый раз, дело в тревоге, которая имеет отношение не только к матери, но ксовокупности всего окружения, всего, что к этому моменту сформировало реальность маленького Ганса и определило её координаты - к тому, что в прошлый раз я назвал жилищем (baraque). С появлением первого фантазма, в котором приходит Schlosser, отвинчивающий ванну, начинается её демонтаж по частям.
Это вовсе не абстрактная взаимосвязь, сконструированная мной, но нечто, содержащееся непосредственно в опыте. Наблюдение случая раскрывает для нас, что Ганс уже видел отвинченные ванны, поскольку во время поездок на каникулах в Гмунден ванну возили с собой в ящике. С другой стороны, мы знаем о предыдущих переездах, точные даты которых, к нашему сожалению, неизвестны, но они должны располагаться в периоде, описанном в анамнезе наблюдения, то есть за два года до болезни, о чём у нас есть несколько записей родителей.
Переезд и транспортировка ванны в Гмунден уже снабдили маленького Ганса означающим материалом для того, чтобы обозначить демонтаж всего жилища (baraque). Он уже знает, что такое возможно, это уже было для него опытом, более или менее интегрированным в его манипуляции означающим. Фантазм об отвинченной ванне является своего рода первым шагом в восприятии феномена фобии, который изначально представляется в неясном свете, в виде сигнала к торможению, остановки, границы, рубежа, через который невозможно перейти. Все это может быть приведено в движение лишь в самой фобии, элементы которой могут быть скомбинированы иначе.
В прошлый раз я рассказал вам о множестве разных значений слова щипцы, которое в немецком языке, как и во французском языке, и во многих других, в частности, в греческом, описывают часть лошадиной морды, её передние зубы, а также некоторые другие вещи, означающие щипцы или острогубцы. Именно здесь впервые появляется персонаж, который с помощью щипцов и острогубцев вводит в игру элемент развития -элемент, повторяю, чисто означающий. Вы же не станете ссылаться на инстинктивные модели, которыми якобы уже обладает ребёнок, чтобы объяснить, почему его зад был отвинчен. Это невозможно нигде, кроме как в означающем, то есть в том человеческом мире символа, включающем в себя также орудия и инструменты, где будет развиваться мифическая эволюция, куда маленький Ганс неясным образом и наощупь вступает, пользуясь помощью двух других сотрудничающих с ним персонажей, которые занялись его случаем для психоанализа.
выступающего балкона в стиле сецессиона - мы в доме людей передовых вкусов - и для того, чтобы у маленького Ганса не так легко получилось вытолкать малышку Анну наружу, зазоры решетки заделали уродливыми прутьями.
Как функция укуса, так и функция падения даны в наиболее очевидных структурах фобии. Они представляют собой её сущностные элементы. Как вы видите, это двухсторонние означающие элементы. Вот истинный смысл термина амбивалентность. Падение, как и укус, не только пугает маленького Ганса. Эти элементы могут вмешиваться также и в противоположном смысле. Укус в определённом смысле является желаемым, поскольку сыграет принципиально важную роль в разрешении ситуации. Падение - также желаемый элемент: девочка, само собой, упасть не должна, зато мать в процессе наблюдения точно опишет кривую траектории падения после появления занимательной инструментальной функции отвинчивания, которая впервые возникает загадочным образом в фантазии о ванне.
Как я говорил вам в прошлый раз, дело в тревоге, которая имеет отношение не только к матери, но ксовокупности всего окружения, всего, что к этому моменту сформировало реальность маленького Ганса и определило её координаты - к тому, что в прошлый раз я назвал жилищем (baraque). С появлением первого фантазма, в котором приходит Schlosser, отвинчивающий ванну, начинается её демонтаж по частям.
Это вовсе не абстрактная взаимосвязь, сконструированная мной, но нечто, содержащееся непосредственно в опыте. Наблюдение случая раскрывает для нас, что Ганс уже видел отвинченные ванны, поскольку во время поездок на каникулах в Гмунден ванну возили с собой в ящике. С другой стороны, мы знаем о предыдущих переездах, точные даты которых, к нашему сожалению, неизвестны, но они должны располагаться в периоде, описанном в анамнезе наблюдения, то есть за два года до болезни, о чём у нас есть несколько записей родителей.
Переезд и транспортировка ванны в Гмунден уже снабдили маленького Ганса означающим материалом для того, чтобы обозначить демонтаж всего жилища (baraque). Он уже знает, что такое возможно, это уже было для него опытом, более или менее интегрированным в его манипуляции означающим. Фантазм об отвинченной ванне является своего рода первым шагом в восприятии феномена фобии, который изначально представляется в неясном свете, в виде сигнала к торможению, остановки, границы, рубежа, через который невозможно перейти. Все это может быть приведено в движение лишь в самой фобии, элементы которой могут быть скомбинированы иначе.
В прошлый раз я рассказал вам о множестве разных значений слова щипцы, которое в немецком языке, как и во французском языке, и во многих других, в частности, в греческом, описывают часть лошадиной морды, её передние зубы, а также некоторые другие вещи, означающие щипцы или острогубцы. Именно здесь впервые появляется персонаж, который с помощью щипцов и острогубцев вводит в игру элемент развития -элемент, повторяю, чисто означающий. Вы же не станете ссылаться на инстинктивные модели, которыми якобы уже обладает ребёнок, чтобы объяснить, почему его зад был отвинчен. Это невозможно нигде, кроме как в означающем, то есть в том человеческом мире символа, включающем в себя также орудия и инструменты, где будет развиваться мифическая эволюция, куда маленький Ганс неясным образом и наощупь вступает, пользуясь помощью двух других сотрудничающих с ним персонажей, которые занялись его случаем для психоанализа. Я на мгновение задержусь на том, что есть не только ванна и отвинчивание, есть ещё Bohrer, сверло (perçoir). Как это обычно и бывает, свидетели периода разработки психоанализа обладали обострённым восприятием по отношению к новизне открытия и не имели никаких сомнений по поводу того, что представляет собой это сверло. «Это отцовский пенис», - говорят они. В этом месте текст также отмечен некоторым колебанием - нацелен ли этот пенис на Ганса или он нацелен на мать? Эта двусмысленность совершенно оправдана и тем больше, чем лучше мы понимаем, о чём идёт речь.
Рассмотрите это как подтверждение моих слов о том, что недостаточно иметь в виду более или менее полный набор классических ситуаций в анализе, а именно, что существует перевернутый комплекс Эдипа и что, наблюдая коитус родителей, ребёнок может идентифицировать себя на женской стороне. Мы действительно могли бы обнаружить здесь идентификацию маленького Ганса со своей матерью - почему бы и нет? - но при том условии, что уяснили бы для себя, какой это имеет смысл, поскольку удовлетвориться лишь тем, что просто сказать это, не только не представляет никакого интереса, но и никаким образом не согласуется с появлением в фантазии того, что ребёнок воображает и артикулирует нечто, проделавшее в его животе большую дыру. Это может обрести свой смысл только в контексте, в означающем развитии, о котором идёт речь.
Напомним, что в это время маленький Ганс объясняет своему отцу: «Засунь его, наконец, куда следует». Именно об этом идёт речь в отношениях маленького Ганса и его отца. У нас всегда есть понимание и об этой несостоятельности, и о том усилии, которое предпринимает маленький Ганс, чтобы восстановить, я бы не сказал, нормальную ситуацию - потому что об этом не может быть и речи с того момента, как отец принимает ту роль, которую разыгрывает перед Гансом, то есть уверяет, что он, папа, не злой - но ситуацию структурированную. И в этой структурированной ситуации есть веские причины, в силу которых маленький Ганс, приближаясь к тому, чтобы открутить (déboulonnage - открутить болт, в разг. лишить престижа, «опустить») мать, соответственно, и, в императивной манере претендует занять по отношению к отцу её место.
Повторяю, есть тысяча способов, тысяча вариантов проявлений, посредством которых по ходу анализа дают о себе знать фантазии пассивности маленького мальчика, его идентификации с матерью в фантазматических отношениях с отцом.
Не далее как в моём собственном аналитическом опыте я услышал недавно от одного мужчины, который был не большим гомосексуалистом, чем мог им стать маленький Ганс, как он в определённый момент своего анализа сформулировал, что в детстве он, без всяких сомнений, воображал себя занимающим материнскую позицию. Для него дело было в том, чтобы предложить себя в качестве жертвы на её месте. Вся его детская ситуация в действительности переживалась им на фоне назойливой сексуальной настойчивости отца, персонажа весьма любвеобильного (exubérant), даже требовательного в своих нуждах по отношению к матери, которая противилась их удовлетворению изо всех сил, что ребёнок, правильно или нет, воспринял именно как то, что она переживала ситуацию в качестве жертвы.
Эта идентификация интегрирована в развитие симптоматологии субъекта -субъекта невротического - настолько хорошо, что мы никаким образом не можем остановиться на том, чтобы рассматривать её просто как позицию женскую (féminisée),
Я на мгновение задержусь на том, что есть не только ванна и отвинчивание, есть ещё Bohrer, сверло (perçoir). Как это обычно и бывает, свидетели периода разработки психоанализа обладали обострённым восприятием по отношению к новизне открытия и не имели никаких сомнений по поводу того, что представляет собой это сверло. «Это отцовский пенис», - говорят они. В этом месте текст также отмечен некоторым колебанием - нацелен ли этот пенис на Ганса или он нацелен на мать? Эта двусмысленность совершенно оправдана и тем больше, чем лучше мы понимаем, о чём идёт речь.
Рассмотрите это как подтверждение моих слов о том, что недостаточно иметь в виду более или менее полный набор классических ситуаций в анализе, а именно, что существует перевернутый комплекс Эдипа и что, наблюдая коитус родителей, ребёнок может идентифицировать себя на женской стороне. Мы действительно могли бы обнаружить здесь идентификацию маленького Ганса со своей матерью - почему бы и нет? - но при том условии, что уяснили бы для себя, какой это имеет смысл, поскольку удовлетвориться лишь тем, что просто сказать это, не только не представляет никакого интереса, но и никаким образом не согласуется с появлением в фантазии того, что ребёнок воображает и артикулирует нечто, проделавшее в его животе большую дыру. Это может обрести свой смысл только в контексте, в означающем развитии, о котором идёт речь.
Напомним, что в это время маленький Ганс объясняет своему отцу: «Засунь его, наконец, куда следует». Именно об этом идёт речь в отношениях маленького Ганса и его отца. У нас всегда есть понимание и об этой несостоятельности, и о том усилии, которое предпринимает маленький Ганс, чтобы восстановить, я бы не сказал, нормальную ситуацию - потому что об этом не может быть и речи с того момента, как отец принимает ту роль, которую разыгрывает перед Гансом, то есть уверяет, что он, папа, не злой - но ситуацию структурированную. И в этой структурированной ситуации есть веские причины, в силу которых маленький Ганс, приближаясь к тому, чтобы открутить (déboulonnage - открутить болт, в разг. лишить престижа, «опустить») мать, соответственно, и, в императивной манере претендует занять по отношению к отцу её место.
Повторяю, есть тысяча способов, тысяча вариантов проявлений, посредством которых по ходу анализа дают о себе знать фантазии пассивности маленького мальчика, его идентификации с матерью в фантазматических отношениях с отцом.
Не далее как в моём собственном аналитическом опыте я услышал недавно от одного мужчины, который был не большим гомосексуалистом, чем мог им стать маленький Ганс, как он в определённый момент своего анализа сформулировал, что в детстве он, без всяких сомнений, воображал себя занимающим материнскую позицию. Для него дело было в том, чтобы предложить себя в качестве жертвы на её месте. Вся его детская ситуация в действительности переживалась им на фоне назойливой сексуальной настойчивости отца, персонажа весьма любвеобильного (exubérant), даже требовательного в своих нуждах по отношению к матери, которая противилась их удовлетворению изо всех сил, что ребёнок, правильно или нет, воспринял именно как то, что она переживала ситуацию в качестве жертвы.
Эта идентификация интегрирована в развитие симптоматологии субъекта -субъекта невротического - настолько хорошо, что мы никаким образом не можем остановиться на том, чтобы рассматривать её просто как позицию женскую (féminisée), даже гомосексуальную, представляющую функционально в определённый момент анализа исход этого фантазма в контексте, наделяющим его другим, даже противоположным смыслом, по отношению к тому, что происходит в случае с маленьким Гансом.
Маленький Ганс говорит своему отцу: «Трахай её побольше», - тогда как мой пациент говорит: «Трахай её поменьше». Это не одно и то же, хотя оба и пользуются одними словами «трахай её», даже «трахай меня вместо неё, если нужно». Именно означающая связь термина позволяет нам судить, о чём идёт речь.
В том виде, в котором я вам её представил, сложившаяся ситуация очевидно не имеет выхода, поскольку опять-таки не происходит вмешательства отца. Вы скажите мне: «Вообще-то, отец существует, он там присутствует». Какова функция отца в комплексе Эдипа? Совершенно очевидно, что, в какой бы форме не был представлен тупик отношений ребёнка с матерью, необходимо внедрение другого элемента.
Есть вещи, которые нужно повторять; если мы их не повторяем, мы их забываем. Вот почему мы ещё раз переформулируем комплекс Эдипа.
3
Конечно, я не собираюсь предлагать вам новое определение комплекса Эдипа. Представляя собой фундаментальную схему, он по определению должен быть объяснён тысячей различных способов. Тем не менее, есть структурные элементы, которые мы всегда можем найти в их неизменности, по крайней мере, в том, что касается их взаимного расположения и количества.
В некотором смысле отец становится третьим в отношениях ребёнка и матери. С другой стороны, он становится четвёртым, поскольку уже есть три элемента с учётом несуществующего фаллоса. Вот в чём заключается суть ситуации в себе (en-soi)4, если вы позволите это выражение, которое мне не очень нравится, но я вынужден его использовать, чтобы продвигаться быстрее. Я хочу сказать, что в данный момент имею в виду отца таким, каким он должен быть в той ситуации с другими, в независимости от того, что будет происходить в измерении субъекта для себя (pour-soi). Это выражение мне тоже не очень нравится, потому что вы можете подумать, что это самое для себя (pour-soi) представлено в сознании субъекта, тогда как по большей части оно бессознательно и касается эффектов комплекса Эдипа. Я говорю, что отец должен быть там в себе (en-soi) для того, чтобы подчеркнуть разницу. Какова должна быть его роль?
Я не собираюсь по этому поводу пересматривать всю теорию комплекса Эдипа. И тем не менее скажем, что отец - это тот, кто обладает матерью, кто обладает ей как отец, со своим настоящим пенисом, пенисом, способным удовлетворить, в отличие от ребёнка, испытывающего проблемы со своим инструментом, который одновременно и плохо усвоен и несостоятелен, если не отвергнут и презираем.
Чему нас учит аналитическая теория в комплексе Эдипа? Что делает его своего рода необходимостью? Я не говорю ни о необходимости биологической, ни о необходимости внутренней, но о необходимости по меньшей мере эмпирической,
4 an sich - «в себе, субстанция, подлинная, собственная природа вещей (у Гегеля). У Сартра «особая область бытия», характеризующая бытие как присущее ему самому, без дистанции по отношению к себе (в отличие от бытия «для себя» сознания).
даже гомосексуальную, представляющую функционально в определённый момент анализа исход этого фантазма в контексте, наделяющим его другим, даже противоположным смыслом, по отношению к тому, что происходит в случае с маленьким Гансом.
Маленький Ганс говорит своему отцу: «Трахай её побольше», - тогда как мой пациент говорит: «Трахай её поменьше». Это не одно и то же, хотя оба и пользуются одними словами «трахай её», даже «трахай меня вместо неё, если нужно». Именно означающая связь термина позволяет нам судить, о чём идёт речь.
В том виде, в котором я вам её представил, сложившаяся ситуация очевидно не имеет выхода, поскольку опять-таки не происходит вмешательства отца. Вы скажите мне: «Вообще-то, отец существует, он там присутствует». Какова функция отца в комплексе Эдипа? Совершенно очевидно, что, в какой бы форме не был представлен тупик отношений ребёнка с матерью, необходимо внедрение другого элемента.
Есть вещи, которые нужно повторять; если мы их не повторяем, мы их забываем. Вот почему мы ещё раз переформулируем комплекс Эдипа.
3
Конечно, я не собираюсь предлагать вам новое определение комплекса Эдипа. Представляя собой фундаментальную схему, он по определению должен быть объяснён тысячей различных способов. Тем не менее, есть структурные элементы, которые мы всегда можем найти в их неизменности, по крайней мере, в том, что касается их взаимного расположения и количества.
В некотором смысле отец становится третьим в отношениях ребёнка и матери. С другой стороны, он становится четвёртым, поскольку уже есть три элемента с учётом несуществующего фаллоса. Вот в чём заключается суть ситуации в себе (en-soi)4, если вы позволите это выражение, которое мне не очень нравится, но я вынужден его использовать, чтобы продвигаться быстрее. Я хочу сказать, что в данный момент имею в виду отца таким, каким он должен быть в той ситуации с другими, в независимости от того, что будет происходить в измерении субъекта для себя (pour-soi). Это выражение мне тоже не очень нравится, потому что вы можете подумать, что это самое для себя (pour-soi) представлено в сознании субъекта, тогда как по большей части оно бессознательно и касается эффектов комплекса Эдипа. Я говорю, что отец должен быть там в себе (en-soi) для того, чтобы подчеркнуть разницу. Какова должна быть его роль?
Я не собираюсь по этому поводу пересматривать всю теорию комплекса Эдипа. И тем не менее скажем, что отец - это тот, кто обладает матерью, кто обладает ей как отец, со своим настоящим пенисом, пенисом, способным удовлетворить, в отличие от ребёнка, испытывающего проблемы со своим инструментом, который одновременно и плохо усвоен и несостоятелен, если не отвергнут и презираем.
Чему нас учит аналитическая теория в комплексе Эдипа? Что делает его своего рода необходимостью? Я не говорю ни о необходимости биологической, ни о необходимости внутренней, но о необходимости по меньшей мере эмпирической,
4 an sich - «в себе, субстанция, подлинная, собственная природа вещей (у Гегеля). У Сартра «особая область бытия», характеризующая бытие как присущее ему самому, без дистанции по отношению к себе (в отличие от бытия «для себя» сознания). поскольку его открытие происходит именно в опыте. Если и есть нечто говорящее о существовании комплекса Эдипа, то это обстоятельство, что естественный рост сексуальной потенции у юного мальчика происходит не в один такт и не в два. В действительности, если мы возьмём только физиологический план, это происходит в два такта, но простое рассмотрение этого естественного роста ни в коем случае не является достаточным для объяснения происходящего.
Фактически, чтобы ситуация развивалась в нормальных условиях, - я имею в виду, в таких условиях, которые позволяют человеческому субъекту сохранять достаточную степень присутствия не только в реальном мире, но и в мире символическом, то есть выносить себя в мире реальном, но и в мире символическом, то есть выносить себя в реальном мире, организованным в символическом поле, - недостаточно восприятия лишь того, что я в прошлый раз назвал движением с тем ускорением, которое несёт субъекта и переносит его, необходима также остановка и фиксация двух терминов. Нужно, чтобы, с одной стороны, функционировал настоящий, реальный, действующий пенис отца. И, с другой стороны, нужно, чтобы к его действенности, реальности и достоинству присоединился пенис ребёнка, который с ним сравнивается (Vergleichung). И для того, чтобы это произошло, необходимо осуществить переход путём упразднения (annulation), которое называется комплексом кастрации.
Другими словами, при условии того, что его собственный пенис временно упраздняется (annihilé), ребёнок обнадёживается получить впоследствии доступ к полноценной отцовской функции, то есть стать тем, кто на законных основаниях обладает своей мужественностью. И выглядит так, что наличие этого законного основания имеет решающее значение для благополучного осуществления сексуальной функции у человеческого субъекта. Без учёта этого регистра всё, что мы говорим о детерминизме ранней эякуляции и различных нарушениях сексуальной функции, не имеет никакого смысла.
Вот в чём заключается переосмысление проблемы Эдипа. На это указывает нам опыт, и случается это непредвиденно. Схема ситуации, которую я вам дал накануне, такая же непредвиденная сама по себе. Доказательством тому служит то, что аналитический опыт, открывший Эдипа как интеграцию в функцию мужественности, позволяет нам ещё ближе продвинуться в понимании символического отца.
Символический отец является именем отца. Это принципиальный элемент, регулирующий символический мир и его структуризацию. Он необходим для отнятия (sevrage) на более принципиальном уровне, нежели раннее (primitif) отнятие (sevrage), посредством которого ребёнок выходит из ситуации чистой и прямой обусловленности всемогуществом матери. Имя отца имеет ключевое значение для любой артикуляции человеческого языка, это та причина, по которой в Экклезиасте говорится: «Сказал безумец в сердце своём: нет Бога».
Почему он говорит в своём сердце? Потому что он не может произнести это своим ртом. С другой стороны, строго говоря, само по себе безумно говорить в своём сердце, что Бога нет, просто потому что безумно говорить то, что противоречит самой артикуляции языка. Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь исповедовать здесь деизм.
Есть символический отец. Есть реальный отец. Опыт учит нас, что именно присутствие реального отца играет сущностную роль в расположенности к осуществлению мужской сексуальной функции. Для того чтобы субъект действительно пережил комплекс кастрации, нужно, чтобы реальный отец всерьёз сыграл свою роль.
поскольку его открытие происходит именно в опыте. Если и есть нечто говорящее о существовании комплекса Эдипа, то это обстоятельство, что естественный рост сексуальной потенции у юного мальчика происходит не в один такт и не в два. В действительности, если мы возьмём только физиологический план, это происходит в два такта, но простое рассмотрение этого естественного роста ни в коем случае не является достаточным для объяснения происходящего.
Фактически, чтобы ситуация развивалась в нормальных условиях, - я имею в виду, в таких условиях, которые позволяют человеческому субъекту сохранять достаточную степень присутствия не только в реальном мире, но и в мире символическом, то есть выносить себя в мире реальном, но и в мире символическом, то есть выносить себя в реальном мире, организованным в символическом поле, - недостаточно восприятия лишь того, что я в прошлый раз назвал движением с тем ускорением, которое несёт субъекта и переносит его, необходима также остановка и фиксация двух терминов. Нужно, чтобы, с одной стороны, функционировал настоящий, реальный, действующий пенис отца. И, с другой стороны, нужно, чтобы к его действенности, реальности и достоинству присоединился пенис ребёнка, который с ним сравнивается (Vergleichung). И для того, чтобы это произошло, необходимо осуществить переход путём упразднения (annulation), которое называется комплексом кастрации.
Другими словами, при условии того, что его собственный пенис временно упраздняется (annihilé), ребёнок обнадёживается получить впоследствии доступ к полноценной отцовской функции, то есть стать тем, кто на законных основаниях обладает своей мужественностью. И выглядит так, что наличие этого законного основания имеет решающее значение для благополучного осуществления сексуальной функции у человеческого субъекта. Без учёта этого регистра всё, что мы говорим о детерминизме ранней эякуляции и различных нарушениях сексуальной функции, не имеет никакого смысла.
Вот в чём заключается переосмысление проблемы Эдипа. На это указывает нам опыт, и случается это непредвиденно. Схема ситуации, которую я вам дал накануне, такая же непредвиденная сама по себе. Доказательством тому служит то, что аналитический опыт, открывший Эдипа как интеграцию в функцию мужественности, позволяет нам ещё ближе продвинуться в понимании символического отца.
Символический отец является именем отца. Это принципиальный элемент, регулирующий символический мир и его структуризацию. Он необходим для отнятия (sevrage) на более принципиальном уровне, нежели раннее (primitif) отнятие (sevrage), посредством которого ребёнок выходит из ситуации чистой и прямой обусловленности всемогуществом матери. Имя отца имеет ключевое значение для любой артикуляции человеческого языка, это та причина, по которой в Экклезиасте говорится: «Сказал безумец в сердце своём: нет Бога».
Почему он говорит в своём сердце? Потому что он не может произнести это своим ртом. С другой стороны, строго говоря, само по себе безумно говорить в своём сердце, что Бога нет, просто потому что безумно говорить то, что противоречит самой артикуляции языка. Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь исповедовать здесь деизм.
Есть символический отец. Есть реальный отец. Опыт учит нас, что именно присутствие реального отца играет сущностную роль в расположенности к осуществлению мужской сексуальной функции. Для того чтобы субъект действительно пережил комплекс кастрации, нужно, чтобы реальный отец всерьёз сыграл свою роль. Нужно, чтобы он исполнил свою функцию отца-кастратора, функцию отца в её конкретной, практической (empirique), я собирался сказать, даже вырождающейся форме, имея в виду персонажа примитивного отца в виде ужасного тирана, в котором фрейдистский миф нам его представил. Лишь постольку, поскольку отец, как он есть, исполняет свою воображаемую функцию, которая предстаёт в эмпирических своих проявлениях невыносимой, даже отвратительной, заставляя ощутить своё воздействие как кастрирующее, может комплекс кастрации быть пережит.
Случай маленького Ганса прекрасно это иллюстрирует. Есть символический отец и есть маленький Ганс, который, не будучи безумцем, тотчас уверовал, что Фрейд - это милостивый Бог. Это один из наиболее существенных элементов, помогающих Гансу найти равновесие. Естественно, он уверовал в это так же, как и все мы верим в милостивого Бога, - он верит без веры. Он верит в это, потому что отсылка к некоему высшему свидетелю представляет собой неотъемлемый элемент любой артикуляции истины. Есть некто, знающий всё, он нашёл его, это профессор Фрейд. Какая удача! Он обнаружил, что есть милостивый Бог на земле. Не каждому так повезло.
Это оказывает ему хорошую услугу, но никак не возмещает недостаток воображаемого отца, настоящего отца-кастратора. Вся проблема в этом. Проблема маленького Ганса в том, что ему предстоит найти заместителя тому отцу, который упорно не хочет его кастрировать. Это ключевой момент наблюдения.
Вопрос в том, чтобы понять, каким образом маленькому Гансу удаётся поддерживать свой реальный пенис как раз там, где ему не угрожают. Именно здесь залегает фундамент тревоги. Невыносимость ситуации создаёт именно нехватка кастратора. Фактически на протяжении всего наблюдения вы нигде не видите появления чего бы то ни было, представляющего собой структуризацию, реализацию, осуществление хотя бы фантазматического чего-то такого, что можно было бы назвать кастрацией.
Маленький Ганс настойчиво выискивает рану, и ему подходит всё, что бы в этом смысле ни произошло. В противоположность тому, что говорит Фрейд, эпизод с Фрицем, поранившим ногу о камень, не содержит в себе ничего, что можно было бы связать с кастрацией. Пожелание, чтобы отец получил эту рану, напоминающую мифическое обрезание, появится спустя некоторое время в большом диалоге 21 апреля, когда он скажет своему отцу: «Тебе нужно прийти туда как голый», als Nackter. И все поставлены в тупик, задаваясь вопросом, что же этот ребёнок имел в виду. Есть мнение, что этот ребёнок начинает говорить по-библейски. Даже в наблюдении в скобках есть объяснение: это означает, что ему следовало бы прийти босоногим. И тем не менее прав маленький Ганс. Дело в том, чтобы узнать, выдержит ли отец испытание, противостанет ли как мужчина грозной матери Ганса, прошёл ли сам отец через основополагающую инициацию раной, ударился ли о камень. И вы видите, насколько эта тема в своей наиболее фундаментальной, наиболее мифической форме является тем, чем вдохновляется Ганс всем своим существом.
К сожалению, ничего подобного. В диалоге со своим отцом маленькому Гансу недостаточно было сказать то, что он сказал. В этот момент он только показывает огонь своего неугасимого желания быть ревнуемым ревнивым богом - eifern является библейским термином - а именно отцом, который злится на него и кастрирует. Но этого не происходит, и ситуация разворачивается совершенно иначе. Вскоре я скажу вам, каким образом мы можем её продумать.
Нужно, чтобы он исполнил свою функцию отца-кастратора, функцию отца в её конкретной, практической (empirique), я собирался сказать, даже вырождающейся форме, имея в виду персонажа примитивного отца в виде ужасного тирана, в котором фрейдистский миф нам его представил. Лишь постольку, поскольку отец, как он есть, исполняет свою воображаемую функцию, которая предстаёт в эмпирических своих проявлениях невыносимой, даже отвратительной, заставляя ощутить своё воздействие как кастрирующее, может комплекс кастрации быть пережит.
Случай маленького Ганса прекрасно это иллюстрирует. Есть символический отец и есть маленький Ганс, который, не будучи безумцем, тотчас уверовал, что Фрейд - это милостивый Бог. Это один из наиболее существенных элементов, помогающих Гансу найти равновесие. Естественно, он уверовал в это так же, как и все мы верим в милостивого Бога, - он верит без веры. Он верит в это, потому что отсылка к некоему высшему свидетелю представляет собой неотъемлемый элемент любой артикуляции истины. Есть некто, знающий всё, он нашёл его, это профессор Фрейд. Какая удача! Он обнаружил, что есть милостивый Бог на земле. Не каждому так повезло.
Это оказывает ему хорошую услугу, но никак не возмещает недостаток воображаемого отца, настоящего отца-кастратора. Вся проблема в этом. Проблема маленького Ганса в том, что ему предстоит найти заместителя тому отцу, который упорно не хочет его кастрировать. Это ключевой момент наблюдения.
Вопрос в том, чтобы понять, каким образом маленькому Гансу удаётся поддерживать свой реальный пенис как раз там, где ему не угрожают. Именно здесь залегает фундамент тревоги. Невыносимость ситуации создаёт именно нехватка кастратора. Фактически на протяжении всего наблюдения вы нигде не видите появления чего бы то ни было, представляющего собой структуризацию, реализацию, осуществление хотя бы фантазматического чего-то такого, что можно было бы назвать кастрацией.
Маленький Ганс настойчиво выискивает рану, и ему подходит всё, что бы в этом смысле ни произошло. В противоположность тому, что говорит Фрейд, эпизод с Фрицем, поранившим ногу о камень, не содержит в себе ничего, что можно было бы связать с кастрацией. Пожелание, чтобы отец получил эту рану, напоминающую мифическое обрезание, появится спустя некоторое время в большом диалоге 21 апреля, когда он скажет своему отцу: «Тебе нужно прийти туда как голый», als Nackter. И все поставлены в тупик, задаваясь вопросом, что же этот ребёнок имел в виду. Есть мнение, что этот ребёнок начинает говорить по-библейски. Даже в наблюдении в скобках есть объяснение: это означает, что ему следовало бы прийти босоногим. И тем не менее прав маленький Ганс. Дело в том, чтобы узнать, выдержит ли отец испытание, противостанет ли как мужчина грозной матери Ганса, прошёл ли сам отец через основополагающую инициацию раной, ударился ли о камень. И вы видите, насколько эта тема в своей наиболее фундаментальной, наиболее мифической форме является тем, чем вдохновляется Ганс всем своим существом.
К сожалению, ничего подобного. В диалоге со своим отцом маленькому Гансу недостаточно было сказать то, что он сказал. В этот момент он только показывает огонь своего неугасимого желания быть ревнуемым ревнивым богом - eifern является библейским термином - а именно отцом, который злится на него и кастрирует. Но этого не происходит, и ситуация разворачивается совершенно иначе. Вскоре я скажу вам, каким образом мы можем её продумать. Когда не возникает кастратора в лице отца, появляются несколько персонажей, которые заступают на это место кастратора - Schlosser, начинающий с того, что отвинчивает ванну и далее делает прокол, и другой, откровенно говоря, не вписывающийся в функцию желаемого отца, названный самим маленьким Гансом установщиком, тот, кто фигурирует в заключительном фантазме 2 мая. Поскольку Бог не очень хорошо справляется со всеми этими задачами, необходимо появление deus ex machina, установщика, на которого маленький Ганс возлагает часть функций кастратора, затребованного комплексом кастрации.
Нужно суметь прочитать этот текст. Нет ничего более поразительного, чем то, что осуществляется в последней фантазии, которая буквально завершает ход наблюдения. То, что приходит заменить установщик, это зад маленького Ганса, его седалище. Недостаточно разобрать по частям всё жилище (baraque), нужно изменить кое-что в маленьком Гансе. Без всяких сомнений, мы обнаруживаем в этом схему фундаментальной символизации комплекса кастрации.
Мы видим в самом наблюдении, насколько сам Фрейд послушно следует схеме. Хотя в фантазме маленького Ганса нет и следа какой-либо замены в передней части, отец додумывает это и говорит: «Очевидно, тебе дали другой пенис». И Фрейд следует его примеру. К сожалению, ничего подобного там нет. Ему отвинчивают зад, дают другой и говорят: «Повернись другой стороной». Всё заканчивается на этом, нужно только прочитать текст таким, каким он написан. Именно в этом заключается специфика наблюдения случая и то, что позволяет нам его в целом понять.
В действительности, если, подойдя так близко, не удаётся больше сдвинуться ни на шаг, то происходит это по той причине, что тогда имела бы место не фобия, но комплекс Эдипа и нормальная кастрация. И не возникло бы нужды во всех этих усложнениях, ни в фобии, ни в симптоме, ни в анализе для того, чтобы прийти в пункт, который не обязательно является пунктом, заранее предопределённым, типичным.
Вот что позволяет нам более точно определить функцию отца в этом случае. Бесспорно, он задействован и приносит пользу в анализе. Но в то же время он обусловлен функциями, предопределёнными ситуацией в целом, которые очевидно несовместимы с эффективной реализацией функции отца-кастратора.
Кастрация имеет место именно в силу того, что комплекс Эдипа является кастрацией. Но неспроста мы наощупь обнаружили, что кастрация имеет отношение как отцу, так и к матери. Материнская кастрация - мы видим её в описании первичной (primitive) ситуации - несёт в себе для ребёнка опасность пожирания и укуса. Материнская кастрация предшествует заменяющей её отцовской кастрации.
Последняя, возможно, не менее ужасна, но она определённо более благоприятна, нежели первая, потому что оставляет перспективу развития, чего нельзя сказать о варианте поглощения и пожирания матерью. На стороне отца появляется возможность диалектического развития. Возможно соперничество с отцом, возможно убийство отца, возможно оскопление отца. На этой стороне комплекс кастрации приносит свои плоды в Эдипе, чего не происходит на стороне матери. По той простой причине, что мать невозможно оскопить, потому что у неё нет ничего, подлежащего оскоплению.
Вернёмся к тому положению вещей, в котором мы оставили маленького Ганса. В этом пункте он на перепутье.
Мы уже видим, как намечается способ замещения, который позволит оставить позади первичную (primitive) ситуацию, в которой доминирует в чистом виде угроза
Когда не возникает кастратора в лице отца, появляются несколько персонажей, которые заступают на это место кастратора - Schlosser, начинающий с того, что отвинчивает ванну и далее делает прокол, и другой, откровенно говоря, не вписывающийся в функцию желаемого отца, названный самим маленьким Гансом установщиком, тот, кто фигурирует в заключительном фантазме 2 мая. Поскольку Бог не очень хорошо справляется со всеми этими задачами, необходимо появление deus ex machina, установщика, на которого маленький Ганс возлагает часть функций кастратора, затребованного комплексом кастрации.
Нужно суметь прочитать этот текст. Нет ничего более поразительного, чем то, что осуществляется в последней фантазии, которая буквально завершает ход наблюдения. То, что приходит заменить установщик, это зад маленького Ганса, его седалище. Недостаточно разобрать по частям всё жилище (baraque), нужно изменить кое-что в маленьком Гансе. Без всяких сомнений, мы обнаруживаем в этом схему фундаментальной символизации комплекса кастрации.
Мы видим в самом наблюдении, насколько сам Фрейд послушно следует схеме. Хотя в фантазме маленького Ганса нет и следа какой-либо замены в передней части, отец додумывает это и говорит: «Очевидно, тебе дали другой пенис». И Фрейд следует его примеру. К сожалению, ничего подобного там нет. Ему отвинчивают зад, дают другой и говорят: «Повернись другой стороной». Всё заканчивается на этом, нужно только прочитать текст таким, каким он написан. Именно в этом заключается специфика наблюдения случая и то, что позволяет нам его в целом понять.
В действительности, если, подойдя так близко, не удаётся больше сдвинуться ни на шаг, то происходит это по той причине, что тогда имела бы место не фобия, но комплекс Эдипа и нормальная кастрация. И не возникло бы нужды во всех этих усложнениях, ни в фобии, ни в симптоме, ни в анализе для того, чтобы прийти в пункт, который не обязательно является пунктом, заранее предопределённым, типичным.
Вот что позволяет нам более точно определить функцию отца в этом случае. Бесспорно, он задействован и приносит пользу в анализе. Но в то же время он обусловлен функциями, предопределёнными ситуацией в целом, которые очевидно несовместимы с эффективной реализацией функции отца-кастратора.
Кастрация имеет место именно в силу того, что комплекс Эдипа является кастрацией. Но неспроста мы наощупь обнаружили, что кастрация имеет отношение как отцу, так и к матери. Материнская кастрация - мы видим её в описании первичной (primitive) ситуации - несёт в себе для ребёнка опасность пожирания и укуса. Материнская кастрация предшествует заменяющей её отцовской кастрации.
Последняя, возможно, не менее ужасна, но она определённо более благоприятна, нежели первая, потому что оставляет перспективу развития, чего нельзя сказать о варианте поглощения и пожирания матерью. На стороне отца появляется возможность диалектического развития. Возможно соперничество с отцом, возможно убийство отца, возможно оскопление отца. На этой стороне комплекс кастрации приносит свои плоды в Эдипе, чего не происходит на стороне матери. По той простой причине, что мать невозможно оскопить, потому что у неё нет ничего, подлежащего оскоплению.
Вернёмся к тому положению вещей, в котором мы оставили маленького Ганса. В этом пункте он на перепутье.
Мы уже видим, как намечается способ замещения, который позволит оставить позади первичную (primitive) ситуацию, в которой доминирует в чистом виде угроза тотального пожирания матерью. Кое-что намечается в фантазме о ванне и проколе. Поскольку все фантазмы маленького Ганса представляют собой начало проработки ситуации с помощью артикуляции. Имеет место, если можно так выразиться, возврат угрозы отправителю, то есть матери. Мать развинчивается, развенчивается, просверливается (déboulonnée) и именно отец призван сыграть роль откручивателя и прокалывателя (perceur).
Здесь, опять же, я не делаю ничего другого, как только буквально следую тому, что пишет Фрейд. Он настолько захвачен этой ролью того, кто откручивает, прокалывает, просверливает, что делает замечание - не решая вопроса, так как для этого потребовалось бы обратиться к данным филологии, этнографии, мифологии и так далее - о связи, которая может иметь место между Bohrer, сверлом, и geboren, родиться. Между двумя корнями нет связи. Как нет связи в латыни между ferio, стучать, и fero, носить. Это разные корни, и в разных языках между ними остаётся чёткое различие. Наконец, есть ferare, прокалывать, что явно отличается как от первого, так и от второго. Но важно то, что Фрейд задерживает своё внимание на означающем, на чисто означающей проблематике, которая здесь возникает, что он вспоминает о Прометее, который откручивает, прокалывает, сверлит (perceur), в отличие от того, кто проколот (percé), gebohrt, и того, кто рождён, geboren - слово, означающее вынашивание, рождение ребенка на свет. Я упоминаю об этом в скобках, чтобы подчеркнуть интерес Фрейда к означающему.
Какова линия, по которой будут развиваться последствия решения или, скорее, замещения, предпринятого Гансом? Если решение это только замещение, то он в некотором смысле бессилен заставить созреть - позвольте мне это выражение, речь здесь не идёт об инстинктивном созревании - или подтолкнуть в направлении, которое не окажется тупиковым, диалектическое развитие ситуации. Следует полагать, что кое-чего он достигает, раз есть развитие. Дело в том, чтобы понять, чего именно, и понять в его целом. Сегодня я смогу только указать на это.
Какими обходными путями пойдет развитие событий, начиная с середины апреля? Анна появляется как элемент, падение которого возможно и желательно. Он воспринимается как инструментальный элемент (так же, как материнский укус, как заменитель кастрирующего вмешательства) и ориентирован в этом направлении, поскольку соотносится не с пенисом, но кое с чем другим, что в последнем фантазме подлежит замене. Следует полагать, что эта замена уже сама по себе является в определённой степени удовлетворительной и в любом случае достаточна для ослабления фобии. В конце концов Ганс изменился, именно это было достигнуто. В следующий раз мы рассмотрим захватывающие и наиважнейшие для развития Ганса последствия того, чего удалось достичь.
Анна вступает в игру, что становится ещё одним неусваиваемым элементом ситуации. Весь процесс производства фантазмов Ганса принимает форму возвращения этого непереносимого элемента реального в регистр воображаемого, в котором он может быть реинтегрирован. Этот процесс разбит на этапы, которые мы постараемся описать один за другим.
Прочитайте и перечитайте наблюдение с этим ключом. Посмотрите, как Анна реинтегрируется в совершенно фантазматической (fantasmatique) форме. Маленький Ганс говорит нам, например: «Два года назад Анна уже приезжала с нами в Гмунден». На самом деле она тогда была в животе своей матери, но маленький Ганс тем не менее
тотального пожирания матерью. Кое-что намечается в фантазме о ванне и проколе. Поскольку все фантазмы маленького Ганса представляют собой начало проработки ситуации с помощью артикуляции. Имеет место, если можно так выразиться, возврат угрозы отправителю, то есть матери. Мать развинчивается, развенчивается, просверливается (déboulonnée) и именно отец призван сыграть роль откручивателя и прокалывателя (perceur).
Здесь, опять же, я не делаю ничего другого, как только буквально следую тому, что пишет Фрейд. Он настолько захвачен этой ролью того, кто откручивает, прокалывает, просверливает, что делает замечание - не решая вопроса, так как для этого потребовалось бы обратиться к данным филологии, этнографии, мифологии и так далее - о связи, которая может иметь место между Bohrer, сверлом, и geboren, родиться. Между двумя корнями нет связи. Как нет связи в латыни между ferio, стучать, и fero, носить. Это разные корни, и в разных языках между ними остаётся чёткое различие. Наконец, есть ferare, прокалывать, что явно отличается как от первого, так и от второго. Но важно то, что Фрейд задерживает своё внимание на означающем, на чисто означающей проблематике, которая здесь возникает, что он вспоминает о Прометее, который откручивает, прокалывает, сверлит (perceur), в отличие от того, кто проколот (percé), gebohrt, и того, кто рождён, geboren - слово, означающее вынашивание, рождение ребенка на свет. Я упоминаю об этом в скобках, чтобы подчеркнуть интерес Фрейда к означающему.
Какова линия, по которой будут развиваться последствия решения или, скорее, замещения, предпринятого Гансом? Если решение это только замещение, то он в некотором смысле бессилен заставить созреть - позвольте мне это выражение, речь здесь не идёт об инстинктивном созревании - или подтолкнуть в направлении, которое не окажется тупиковым, диалектическое развитие ситуации. Следует полагать, что кое-чего он достигает, раз есть развитие. Дело в том, чтобы понять, чего именно, и понять в его целом. Сегодня я смогу только указать на это.
Какими обходными путями пойдет развитие событий, начиная с середины апреля? Анна появляется как элемент, падение которого возможно и желательно. Он воспринимается как инструментальный элемент (так же, как материнский укус, как заменитель кастрирующего вмешательства) и ориентирован в этом направлении, поскольку соотносится не с пенисом, но кое с чем другим, что в последнем фантазме подлежит замене. Следует полагать, что эта замена уже сама по себе является в определённой степени удовлетворительной и в любом случае достаточна для ослабления фобии. В конце концов Ганс изменился, именно это было достигнуто. В следующий раз мы рассмотрим захватывающие и наиважнейшие для развития Ганса последствия того, чего удалось достичь.
Анна вступает в игру, что становится ещё одним неусваиваемым элементом ситуации. Весь процесс производства фантазмов Ганса принимает форму возвращения этого непереносимого элемента реального в регистр воображаемого, в котором он может быть реинтегрирован. Этот процесс разбит на этапы, которые мы постараемся описать один за другим.
Прочитайте и перечитайте наблюдение с этим ключом. Посмотрите, как Анна реинтегрируется в совершенно фантазматической (fantasmatique) форме. Маленький Ганс говорит нам, например: «Два года назад Анна уже приезжала с нами в Гмунден». На самом деле она тогда была в животе своей матери, но маленький Ганс тем не менее рассказывает нам, что её привезли в маленьком багажнике экипажа и что она беззаботно проводила там время. Или ещё, что во все предыдущие годы её так возили, потому что маленькая Анна была там всегда. Для маленького Ганса невыносимо представить себе, что Анна отличается от той, которая была на каникулах в Гмундене, и он компенсирует это припоминанием.
Я применяю этот термин именно с акцентом на его смысл в теории Платона, противоположный функции повторения и вновь найденного объекта. Маленький Ганс делает из Анны объект, Идея о котором была всегда. Как Платон должен был иметь нечто, объясняющее наш доступ в высший мир, чтобы мы были в него вхожи, даже не принадлежа ему, так же и маленький Ганс сводит Анну к тому, что всегда было в памяти. Это припоминание является первым этапом освоения реального с помощью воображаемого, и это имеет другой смысл, нежели истории об инстинктивной регрессии.
Второй этап. После того, как Анна стала Идеей в смысле термина Платона, даже идеалом, что он заставляет её сделать? Он усаживает её верхом на лошадку тревоги. Что представляет собой находку одновременно юмористическую, блестящую, мифическую и эпическую. Здесь мы обнаруживаем все характерные черты эпических текстов, в которых мы из кожи вон лезем, описывая два состояния конденсации, два этапа эпопеи и измышляя всякого рода реконструкторов (¡¡^егроШеигз), комментаторов, мистификаторов, объясняя то, что в эпопее, как и в мифе, направлено на объяснение происходящего в воображаемом мире и одновременно в мире реальном.
Здесь маленький Ганс не может устранить кучера, но, с другой стороны, нужно, чтобы и маленькая Анна тоже держала поводья. Тогда в одной фразе он говорит, что поводья были в руках одного, но также и в руках другого. Здесь получает особенно яркое выражение измерение внутреннего противоречия, которое в мифах часто заставляет нас предполагать некоторую несогласованность, спутанность двух историй, хотя в реальности автор, будь то Гомер или маленький Ганс, находится во власти противоречия двух принципиально различных регистров.
В общем, с того момента, как она становится образом, сестра превращается в его высшее Я. С помощью этого ключа вы откроете значение всех оценок, которые с определённого момента касаются сюжета о маленькой Анне, включая оценки восхищённые. Они не просто иронические, они сделаны в отношении маленького другого, находящегося перед ним, и имеют для его позиции принципиальное значение. Он заставляет её сделать то, посредством чего он сможет стать хозяином положения. Когда маленькая Анна достаточно хорошо объездит грозную лошадь, тогда маленький Ганс сможет фантазировать, что он тоже укротил лошадь, и сразу же вслед за этим возникнет отхлёстанная лошадь. Таким образом маленький Ганс начинает поверять на опыте напутствие, сделанное некогда Ницше: «Если ты собрался к женщине, не забудь хлыст».
Не следует видеть в сделанной здесь остановке сути урока, который я хотел вам сегодня преподнести. Это лишь вынужденный перерыв по причине позднего часа, до которого мы задержались за разговором.
5 июня 1957
рассказывает нам, что её привезли в маленьком багажнике экипажа и что она беззаботно проводила там время. Или ещё, что во все предыдущие годы её так возили, потому что маленькая Анна была там всегда. Для маленького Ганса невыносимо представить себе, что Анна отличается от той, которая была на каникулах в Гмундене, и он компенсирует это припоминанием.
Я применяю этот термин именно с акцентом на его смысл в теории Платона, противоположный функции повторения и вновь найденного объекта. Маленький Ганс делает из Анны объект, Идея о котором была всегда. Как Платон должен был иметь нечто, объясняющее наш доступ в высший мир, чтобы мы были в него вхожи, даже не принадлежа ему, так же и маленький Ганс сводит Анну к тому, что всегда было в памяти. Это припоминание является первым этапом освоения реального с помощью воображаемого, и это имеет другой смысл, нежели истории об инстинктивной регрессии.
Второй этап. После того, как Анна стала Идеей в смысле термина Платона, даже идеалом, что он заставляет её сделать? Он усаживает её верхом на лошадку тревоги. Что представляет собой находку одновременно юмористическую, блестящую, мифическую и эпическую. Здесь мы обнаруживаем все характерные черты эпических текстов, в которых мы из кожи вон лезем, описывая два состояния конденсации, два этапа эпопеи и измышляя всякого рода реконструкторов (¡¡^егроШеигз), комментаторов, мистификаторов, объясняя то, что в эпопее, как и в мифе, направлено на объяснение происходящего в воображаемом мире и одновременно в мире реальном.
Здесь маленький Ганс не может устранить кучера, но, с другой стороны, нужно, чтобы и маленькая Анна тоже держала поводья. Тогда в одной фразе он говорит, что поводья были в руках одного, но также и в руках другого. Здесь получает особенно яркое выражение измерение внутреннего противоречия, которое в мифах часто заставляет нас предполагать некоторую несогласованность, спутанность двух историй, хотя в реальности автор, будь то Гомер или маленький Ганс, находится во власти противоречия двух принципиально различных регистров.
В общем, с того момента, как она становится образом, сестра превращается в его высшее Я. С помощью этого ключа вы откроете значение всех оценок, которые с определённого момента касаются сюжета о маленькой Анне, включая оценки восхищённые. Они не просто иронические, они сделаны в отношении маленького другого, находящегося перед ним, и имеют для его позиции принципиальное значение. Он заставляет её сделать то, посредством чего он сможет стать хозяином положения. Когда маленькая Анна достаточно хорошо объездит грозную лошадь, тогда маленький Ганс сможет фантазировать, что он тоже укротил лошадь, и сразу же вслед за этим возникнет отхлёстанная лошадь. Таким образом маленький Ганс начинает поверять на опыте напутствие, сделанное некогда Ницше: «Если ты собрался к женщине, не забудь хлыст».
Не следует видеть в сделанной здесь остановке сути урока, который я хотел вам сегодня преподнести. Это лишь вынужденный перерыв по причине позднего часа, до которого мы задержались за разговором.
5 июня 1957

 Отец в холодильнике
Сноп и серп
Отцовская метафора Удвоенная мать Воображаемое отцовство
Учебный год завершается, и история маленького Ганса, будем надеяться, тоже близится к концу.
В преддверии сегодняшней встречи будет уместным напомнить вам о том, что в этом году мы задались целью пересмотреть понятие объектных отношений. И сейчас, кажется, будет небесполезным сделать маленькое отступление, чтобы увидеть не столько пройденный путь - тот или иной путь всегда оказывается пройден - сколько определённый эффект демистификации, которому, как вы знаете, я придаю в деле анализа большое значение.
В этом эффекте и заключается, как мне кажется, минимальное требование к аналитической интерпретации (formulation), которая состоит в том, чтобы обращать внимание вот на что. Человек определённо имеет дело со своими инстинктами (instincts) - инстинктами, в которые я, несмотря ни на что, верю, включая инстинкт смерти. Но то, что привносит анализ, сразу же позволяет увидеть невозможность свести всё к одной достаточно простой и достаточно незамысловатой формуле, вокруг которой аналитики так сплотились - формуле, согласно которой все проблемы оказываются разрешены тогда, когда отношения субъекта с себе подобным становятся, как говорится, отношениями личности с личностью, а не отношениями с объектом.
То, что я пытался показать вам здесь объектные отношения в их реальной сложности, ещё не означает, что мне претит сам по себе термин. Почему бы нашему ближнему не быть полноценным объектом? Я бы сказал больше - дай Бог, чтобы он им, этим объектом, стал. Ведь на самом деле анализ показывает нам, что, как правило, изначально он и до объекта-то не дотягивает. Он лишь нечто такое, что занимает место означающего внутри нашего вопрошания, поскольку невроз, как я вам говорил и не раз, является вопросом.
Объект не так прост. Объект представляет собой нечто такое, чем совершенно точно нужно овладеть и, как напоминает нам Фрейд, невозможно им овладеть, изначально его не потеряв. Объектом всегда овладевают заново. Лишь вернувшись в прежде покинутое место, человек может прийти к тому, что называют, неподходящим образом, его собственной целостностью.
Конечно, крайне желательно установить связь между нами и какими-то первичными субъектами, которые, действительно, являют собой полноту личности. Но эта почва является наименее приспособленной для продвижения, которое оказывается чревато всевозможными проскальзываниями и недоразумениями. Личность в нашем обычном представлении является тем существом, за которым мы, как и за самими собой, признаём право сказать я. Но поскольку слишком очевидным является то, что наибольшее смущение у нас вызывает необходимость сказать я в полном смысле, что аналитический опыт рельефно показывает, то каждый раз, когда мы думаем о другом, как о том, кто говорит я, мы, как правило, соскальзываем на то, чтобы заставить его выговаривать я наше собственное, то есть ввести его в наши собственные миражи.
Отец в холодильнике
Сноп и серп
Отцовская метафора Удвоенная мать Воображаемое отцовство
Учебный год завершается, и история маленького Ганса, будем надеяться, тоже близится к концу.
В преддверии сегодняшней встречи будет уместным напомнить вам о том, что в этом году мы задались целью пересмотреть понятие объектных отношений. И сейчас, кажется, будет небесполезным сделать маленькое отступление, чтобы увидеть не столько пройденный путь - тот или иной путь всегда оказывается пройден - сколько определённый эффект демистификации, которому, как вы знаете, я придаю в деле анализа большое значение.
В этом эффекте и заключается, как мне кажется, минимальное требование к аналитической интерпретации (formulation), которая состоит в том, чтобы обращать внимание вот на что. Человек определённо имеет дело со своими инстинктами (instincts) - инстинктами, в которые я, несмотря ни на что, верю, включая инстинкт смерти. Но то, что привносит анализ, сразу же позволяет увидеть невозможность свести всё к одной достаточно простой и достаточно незамысловатой формуле, вокруг которой аналитики так сплотились - формуле, согласно которой все проблемы оказываются разрешены тогда, когда отношения субъекта с себе подобным становятся, как говорится, отношениями личности с личностью, а не отношениями с объектом.
То, что я пытался показать вам здесь объектные отношения в их реальной сложности, ещё не означает, что мне претит сам по себе термин. Почему бы нашему ближнему не быть полноценным объектом? Я бы сказал больше - дай Бог, чтобы он им, этим объектом, стал. Ведь на самом деле анализ показывает нам, что, как правило, изначально он и до объекта-то не дотягивает. Он лишь нечто такое, что занимает место означающего внутри нашего вопрошания, поскольку невроз, как я вам говорил и не раз, является вопросом.
Объект не так прост. Объект представляет собой нечто такое, чем совершенно точно нужно овладеть и, как напоминает нам Фрейд, невозможно им овладеть, изначально его не потеряв. Объектом всегда овладевают заново. Лишь вернувшись в прежде покинутое место, человек может прийти к тому, что называют, неподходящим образом, его собственной целостностью.
Конечно, крайне желательно установить связь между нами и какими-то первичными субъектами, которые, действительно, являют собой полноту личности. Но эта почва является наименее приспособленной для продвижения, которое оказывается чревато всевозможными проскальзываниями и недоразумениями. Личность в нашем обычном представлении является тем существом, за которым мы, как и за самими собой, признаём право сказать я. Но поскольку слишком очевидным является то, что наибольшее смущение у нас вызывает необходимость сказать я в полном смысле, что аналитический опыт рельефно показывает, то каждый раз, когда мы думаем о другом, как о том, кто говорит я, мы, как правило, соскальзываем на то, чтобы заставить его выговаривать я наше собственное, то есть ввести его в наши собственные миражи. Короче говоря, как я подчеркнул это в прошлом году в конце моего семинара о психозах, это не проблема я, а проблема ты, которую сложнее прояснить, когда дело касается встречи с личностью. Всё указывает на то, что это ты представляет собой предельное означающее. В конечном итоге мы его никогда не достигаем, мы останавливаемся где-то на полпути. Тем не менее именно от него мы получаем все полномочия (investitures), и не случайно в конце моего прошлогоднего семинара я остановился на формуле: ты - тот, кто за мной последуешь или не последуешь, кто сделает это или кто этого не сделает.
Если аналитический опыт нам что-то показывает, то именно то, что все межчеловеческие отношения основаны на полномочиях (investiture), которые в действительности исходят от Другого. Этот Другой находится прямо и непосредственно в нас в форме бессознательного, но ничто в нашем собственном развитии не поддаётся пониманию, кроме как посредством констелляции, подразумевающей абсолютного Другого как место речи. Если комплекс Эдипа имеет какой-то смысл, то именно потому, что даёт в качестве фундамента нашего построения между реальным и символическим, в качестве основы нашего прогресса, существование того, кто имеет слово, того, кто может говорить, - отца. Короче говоря, он конкретизирует его в функции, которая сама по себе проблематична. Вопрошание что есть отец? расположено в центре аналитического опыта и является, по крайней мере, для нас, аналитиков, навечно неразрешимым.
Отталкиваясь от этого положения, я хотел бы сегодня вернуться к проблеме маленького Ганса и показать вам, как он расположился относительно того, чем отец является и чем не является. Но нужно вернуться к вопросу, который прозвучал выше.
1
Я начну с замечания о том, что единственное место, в котором вопрошание об отце может рассчитывать на полный и достоверный ответ, безусловно, расположено на территории некоторой традиции. Речь не о соседней комнате, как я часто говорю об этом феноменологически, но о соседней двери.
Если где-то отец и обнаруживает свой синтез, свой полный смысл, то происходит это в традиции, называемой традицией религиозной. Мы видим, что не просто так в ходе исторического развития формируется одна-единственная, иудео-христианская, традиция, в рамках которой предпринята попытка наладить согласие между полами на принципе противопоставления потенции (puissance) и акта (acte), которое опосредуется любовью. Вне этой традиции любые отношения с объектом, заметим это хорошенько, подразумевают третье измерение. Артикулированное Аристотелем, оно было впоследствии упразднено, так сказать, апокрифическим Аристотелем, Аристотелем теологии, которая была приписана ему гораздо позднее. Каждому известно и о её существовании, и о её апокрифичности. Аристотелевский термин, без которого формирование объекта в принципе не обходится, добавляется в качестве третьего принципа к форме, 8Î.ÔOÇ, и материи, и Лп, это термин лишение, OTÉpnoiÇ.
Объектные отношения, как они определяются в аналитической литературе и в учении Фрейда, вращаются вокруг термина лишения, который стал для меня отправным пунктом в этом году. Этот термин является центральным для понимания того положения, что любой прогресс интеграции в свой собственный пол как мужчины, так и
Короче говоря, как я подчеркнул это в прошлом году в конце моего семинара о психозах, это не проблема я, а проблема ты, которую сложнее прояснить, когда дело касается встречи с личностью. Всё указывает на то, что это ты представляет собой предельное означающее. В конечном итоге мы его никогда не достигаем, мы останавливаемся где-то на полпути. Тем не менее именно от него мы получаем все полномочия (investitures), и не случайно в конце моего прошлогоднего семинара я остановился на формуле: ты - тот, кто за мной последуешь или не последуешь, кто сделает это или кто этого не сделает.
Если аналитический опыт нам что-то показывает, то именно то, что все межчеловеческие отношения основаны на полномочиях (investiture), которые в действительности исходят от Другого. Этот Другой находится прямо и непосредственно в нас в форме бессознательного, но ничто в нашем собственном развитии не поддаётся пониманию, кроме как посредством констелляции, подразумевающей абсолютного Другого как место речи. Если комплекс Эдипа имеет какой-то смысл, то именно потому, что даёт в качестве фундамента нашего построения между реальным и символическим, в качестве основы нашего прогресса, существование того, кто имеет слово, того, кто может говорить, - отца. Короче говоря, он конкретизирует его в функции, которая сама по себе проблематична. Вопрошание что есть отец? расположено в центре аналитического опыта и является, по крайней мере, для нас, аналитиков, навечно неразрешимым.
Отталкиваясь от этого положения, я хотел бы сегодня вернуться к проблеме маленького Ганса и показать вам, как он расположился относительно того, чем отец является и чем не является. Но нужно вернуться к вопросу, который прозвучал выше.
1
Я начну с замечания о том, что единственное место, в котором вопрошание об отце может рассчитывать на полный и достоверный ответ, безусловно, расположено на территории некоторой традиции. Речь не о соседней комнате, как я часто говорю об этом феноменологически, но о соседней двери.
Если где-то отец и обнаруживает свой синтез, свой полный смысл, то происходит это в традиции, называемой традицией религиозной. Мы видим, что не просто так в ходе исторического развития формируется одна-единственная, иудео-христианская, традиция, в рамках которой предпринята попытка наладить согласие между полами на принципе противопоставления потенции (puissance) и акта (acte), которое опосредуется любовью. Вне этой традиции любые отношения с объектом, заметим это хорошенько, подразумевают третье измерение. Артикулированное Аристотелем, оно было впоследствии упразднено, так сказать, апокрифическим Аристотелем, Аристотелем теологии, которая была приписана ему гораздо позднее. Каждому известно и о её существовании, и о её апокрифичности. Аристотелевский термин, без которого формирование объекта в принципе не обходится, добавляется в качестве третьего принципа к форме, 8Î.ÔOÇ, и материи, и Лп, это термин лишение, OTÉpnoiÇ.
Объектные отношения, как они определяются в аналитической литературе и в учении Фрейда, вращаются вокруг термина лишения, который стал для меня отправным пунктом в этом году. Этот термин является центральным для понимания того положения, что любой прогресс интеграции в свой собственный пол как мужчины, так и женщины требует признания лишения. Один пол принимает лишение, и другой пол принимает лишение для возможности полностью принять свой собственный пол. Короче говоря, Penis-neid - с одной стороны, комплекс кастрации - с другой.
Всё это непосредственно проявляется в опыте. И весьма занимательно видеть в более-менее завуалированном виде недобросовестную идею о том, что созревание (maturation) генитальности включает в себя жертвенность (oblativité), полное признание другого, в силу чего и должна быть установлена эта предполагаемая, заданная изначально гармония между мужчиной и женщиной, которая, однако, как мы видим это каждый день, лишь бесконечно обнаруживает свой провал.
Пойдите и скажите своей супруге сегодня, что она, - как выражается теолог, следующий Аристотелю и всей средневековой и схоластической традиции, - пойдите, скажите сегодня супруге, что она - потенция (puissance), а вы, мужчина, вы - акт (acte). «Меня это совершенно не устраивает, - скажут вам. - Вы что, принимаете меня за пустое место?» И совершенно очевидно, что женщина попадает в круг тех же проблем, что и мы. Нет нужды рассматривать феминистскую или социальную сторону вопроса, достаточно процитировать прекрасное четверостишие, которое Аполлинер вложил в уста Терезы-Тиресия, а точнее, её мужа, который, спасаясь от жандарма, говорит ему:
Я честная женщина мужеска пола
А жена моя омужчинела и унесла скрипку, маслёнку, рояль
Теперь она министр, адвокат, по-всякому служит людям
Конечно, нам следует обеими ногами встать на твёрдую почву нашего опыта. И если оный несколько продвинулся в вопросе сексуальности, который поднимается в нашем жизненном и даже невротическом опыте всё чаще, то именно в силу того, что мы научились размещать отношения между двумя полами на разных уровнях объектных отношений. Мы прекрасно увидели, что всё это значит, и всего лишь приподняли покров недостойного стыда, признав, что если обязаны анализу определённым прогрессом, то как раз в плане того, что следует называть своим именем - в плане эротизма.
В этом плане отношения между полами действительно проясняются, поскольку движутся к ответу на вопрос по поводу своего пола, которым задаётся субъект, представляющий собой нечто, пришедшее в этот мир и никогда не удовлетворённое до конца - к той пресловутой совершенной жертвенности, в которой состоит, якобы, идеальная гармония между мужчиной и женщиной. Но гармонию мы находим лишь на линии горизонта, что не позволяет нам даже рассматривать её как осуществляемую анализом цель.
Чтобы иметь, если можно так выразиться, здоровый взгляд на прогресс нашего исследования, нужно уяснить, что в связи мужчины и женщины, как только она устанавливается, всегда имеет место открытое зияние. Что в конечном счёте приемлемо в такой перспективе в глазах философа, то есть того, кто занимает стороннюю позицию? Что женщина, а именно супруга, по сути, выполняет для него ту функцию, которую она выполняла для Сократа, а именно испытывает его терпение, его терпение по отношению к реальному.
Чтобы поживее проникнуться тем, что конкретизирует сегодня эти мои слова и вернёт нас к маленькому Гансу, я сообщу вам информацию, которую один из моих замечательных друзей обнаружил в, по большей части, информационной газете и донёс
женщины требует признания лишения. Один пол принимает лишение, и другой пол принимает лишение для возможности полностью принять свой собственный пол. Короче говоря, Penis-neid - с одной стороны, комплекс кастрации - с другой.
Всё это непосредственно проявляется в опыте. И весьма занимательно видеть в более-менее завуалированном виде недобросовестную идею о том, что созревание (maturation) генитальности включает в себя жертвенность (oblativité), полное признание другого, в силу чего и должна быть установлена эта предполагаемая, заданная изначально гармония между мужчиной и женщиной, которая, однако, как мы видим это каждый день, лишь бесконечно обнаруживает свой провал.
Пойдите и скажите своей супруге сегодня, что она, - как выражается теолог, следующий Аристотелю и всей средневековой и схоластической традиции, - пойдите, скажите сегодня супруге, что она - потенция (puissance), а вы, мужчина, вы - акт (acte). «Меня это совершенно не устраивает, - скажут вам. - Вы что, принимаете меня за пустое место?» И совершенно очевидно, что женщина попадает в круг тех же проблем, что и мы. Нет нужды рассматривать феминистскую или социальную сторону вопроса, достаточно процитировать прекрасное четверостишие, которое Аполлинер вложил в уста Терезы-Тиресия, а точнее, её мужа, который, спасаясь от жандарма, говорит ему:
Я честная женщина мужеска пола
А жена моя омужчинела и унесла скрипку, маслёнку, рояль
Теперь она министр, адвокат, по-всякому служит людям
Конечно, нам следует обеими ногами встать на твёрдую почву нашего опыта. И если оный несколько продвинулся в вопросе сексуальности, который поднимается в нашем жизненном и даже невротическом опыте всё чаще, то именно в силу того, что мы научились размещать отношения между двумя полами на разных уровнях объектных отношений. Мы прекрасно увидели, что всё это значит, и всего лишь приподняли покров недостойного стыда, признав, что если обязаны анализу определённым прогрессом, то как раз в плане того, что следует называть своим именем - в плане эротизма.
В этом плане отношения между полами действительно проясняются, поскольку движутся к ответу на вопрос по поводу своего пола, которым задаётся субъект, представляющий собой нечто, пришедшее в этот мир и никогда не удовлетворённое до конца - к той пресловутой совершенной жертвенности, в которой состоит, якобы, идеальная гармония между мужчиной и женщиной. Но гармонию мы находим лишь на линии горизонта, что не позволяет нам даже рассматривать её как осуществляемую анализом цель.
Чтобы иметь, если можно так выразиться, здоровый взгляд на прогресс нашего исследования, нужно уяснить, что в связи мужчины и женщины, как только она устанавливается, всегда имеет место открытое зияние. Что в конечном счёте приемлемо в такой перспективе в глазах философа, то есть того, кто занимает стороннюю позицию? Что женщина, а именно супруга, по сути, выполняет для него ту функцию, которую она выполняла для Сократа, а именно испытывает его терпение, его терпение по отношению к реальному.
Чтобы поживее проникнуться тем, что конкретизирует сегодня эти мои слова и вернёт нас к маленькому Гансу, я сообщу вам информацию, которую один из моих замечательных друзей обнаружил в, по большей части, информационной газете и донёс до меня. Эта маленькая новость пришла к нам из американской глубинки. После смерти своего мужа женщина, связанная с ним узами вечной любви, рожала от него каждые десять месяцев ребёнка.
Это может показаться вам странным. Не стоит полагать, что дело касалось партеногенетического феномена. Напротив, речь идёт об искусственном оплодотворении. В критический момент заболевания, от которого скончался муж, эта женщина, обречённая на вечное хранение верности, запаслась достаточным количеством семенной жидкости, позволившей ей продолжать род покойного по своему усмотрению, с наименьшими задержками, в заданном ритме.
Нам пришлось дожидаться этой маленькой, из ряда вон выходящей истории, хотя мы её могли бы придумать сами. Это наиболее яркая иллюстрация, которую мы могли бы дать тому, что я называю неизвестной переменной х отцовства. Здесь вы можете увидеть иллюстрацию моих слов о том, что символический отец - это отец мёртвый. Но то, что появляется здесь нового и заодно подчёркивает важное значение этой ремарки, это то, что в данном случае и реальный отец также является отцом мёртвым.
Я полагаю, вы не упустили из виду тех проблем, которые несёт в себе подобная возможность. Во что в таких условиях превращается комплекс Эдипа? Исходя из первого же приближения к нашему опыту, легко сделать некоторые шутливые предположения о том, каким образом можно обрисовать термин холодной женщины (femme froide). Холодная жена (femme froide) - гласила бы новая пословица - остывший муж (mari refroidi). Я могу также напомнить слоган, предложенный одним из моих друзей для рекламы марки холодильников. Есть некоторая сложность с тем, чтобы сохранить эффект воздействия этого слогана, поскольку особое значение он приобретает для англо-саксонских душ. Представьте красивый плакат, на котором мы видим чопорного вида дам и надпись: «She didn’t care her frigid air until her friend received a Frigidaire», «Она была холодной до тех пор, пока её друг не купил холодильник». Иногда так бывает.
На самом деле эта история великолепно иллюстрирует то, что реальное представление об отце ни в коем случае не смешивается с представлением о его плодородности. Проблема расположена в другом месте, как мы увидим, спросив себя, что произойдет тогда с эдиповым комплексом. Представьте, к чему это приведёт: через сотню лет после того, как мы вступили на этот путь, женщины смогут рожать от наших современников мужчин-гениев их прямых потомков, которые отныне будут бережно храниться в пробирках. В этом случае мы наиболее радикальным образом отнимаем кое-что у отца - и речь в том числе. Вопрос заключается в том, каким образом, в какой форме пропишется в психике ребёнка речь его предка, единственным представителем и посредником которой будет мать. Как она заставит говорить законсервированного в банке предка?
Это, будучи отнюдь не научной фантастикой, помогает обнаружить одно из измерений проблемы. И поскольку я только что отправлял вас в соседнюю дверь для идеального решения проблемы брака, будет интересно посмотреть, какую позицию займёт Церковь по вопросу участия благоверного супруга в посмертном оплодотворении. Если она будет обращаться к тому, что она обычно выдвигает в таких случаях на передний план, а именно к фундаментальному характеру естественных практик, то можно будет на это заметить, что если таковая практика становится возможной, то лишь в силу того, что мы прекрасно научились отличать природу от того, чего в ней нет. Поэтому, возможно, имеет смысл уточнить термин естественное, и это
до меня. Эта маленькая новость пришла к нам из американской глубинки. После смерти своего мужа женщина, связанная с ним узами вечной любви, рожала от него каждые десять месяцев ребёнка.
Это может показаться вам странным. Не стоит полагать, что дело касалось партеногенетического феномена. Напротив, речь идёт об искусственном оплодотворении. В критический момент заболевания, от которого скончался муж, эта женщина, обречённая на вечное хранение верности, запаслась достаточным количеством семенной жидкости, позволившей ей продолжать род покойного по своему усмотрению, с наименьшими задержками, в заданном ритме.
Нам пришлось дожидаться этой маленькой, из ряда вон выходящей истории, хотя мы её могли бы придумать сами. Это наиболее яркая иллюстрация, которую мы могли бы дать тому, что я называю неизвестной переменной х отцовства. Здесь вы можете увидеть иллюстрацию моих слов о том, что символический отец - это отец мёртвый. Но то, что появляется здесь нового и заодно подчёркивает важное значение этой ремарки, это то, что в данном случае и реальный отец также является отцом мёртвым.
Я полагаю, вы не упустили из виду тех проблем, которые несёт в себе подобная возможность. Во что в таких условиях превращается комплекс Эдипа? Исходя из первого же приближения к нашему опыту, легко сделать некоторые шутливые предположения о том, каким образом можно обрисовать термин холодной женщины (femme froide). Холодная жена (femme froide) - гласила бы новая пословица - остывший муж (mari refroidi). Я могу также напомнить слоган, предложенный одним из моих друзей для рекламы марки холодильников. Есть некоторая сложность с тем, чтобы сохранить эффект воздействия этого слогана, поскольку особое значение он приобретает для англо-саксонских душ. Представьте красивый плакат, на котором мы видим чопорного вида дам и надпись: «She didn’t care her frigid air until her friend received a Frigidaire», «Она была холодной до тех пор, пока её друг не купил холодильник». Иногда так бывает.
На самом деле эта история великолепно иллюстрирует то, что реальное представление об отце ни в коем случае не смешивается с представлением о его плодородности. Проблема расположена в другом месте, как мы увидим, спросив себя, что произойдет тогда с эдиповым комплексом. Представьте, к чему это приведёт: через сотню лет после того, как мы вступили на этот путь, женщины смогут рожать от наших современников мужчин-гениев их прямых потомков, которые отныне будут бережно храниться в пробирках. В этом случае мы наиболее радикальным образом отнимаем кое-что у отца - и речь в том числе. Вопрос заключается в том, каким образом, в какой форме пропишется в психике ребёнка речь его предка, единственным представителем и посредником которой будет мать. Как она заставит говорить законсервированного в банке предка?
Это, будучи отнюдь не научной фантастикой, помогает обнаружить одно из измерений проблемы. И поскольку я только что отправлял вас в соседнюю дверь для идеального решения проблемы брака, будет интересно посмотреть, какую позицию займёт Церковь по вопросу участия благоверного супруга в посмертном оплодотворении. Если она будет обращаться к тому, что она обычно выдвигает в таких случаях на передний план, а именно к фундаментальному характеру естественных практик, то можно будет на это заметить, что если таковая практика становится возможной, то лишь в силу того, что мы прекрасно научились отличать природу от того, чего в ней нет. Поэтому, возможно, имеет смысл уточнить термин естественное, и это приведёт нас к необходимости подчеркнуть глубоко искусственный характер того, что до сих пор называлось природой. Короче говоря, возможно и наше мнение к тому времени станет не совсем бесполезным. Возможно, когда-нибудь наша добрая подруга Франсуаза Дольто или кто-то из её учеников станет Отцом Церкви.
Различения воображаемого, символического и реального может оказаться недостаточно, чтобы определить условия этой проблемы, которая с тех пор, как заявила о себе в реальности, не кажется мне хоть как-то приближающейся к разрешению. Но эта история облегчает нам возможность сформулировать, как я и намеревался сегодня это сделать, термин, но не сам по себе, а в его отношении к субъекту, в который может быть вписана санкция функции отца.
2
Как только мы проводим ревизию своих представлений и избавляемся от излишних декоративных элементов, всякое введение, если можно так выразиться, в отцовскую функцию представляется нам предметом метафорического опыта. Я собираюсь продемонстрировать вам это, напомнив, под какой рубрикой в прошлом году я представил то, что называю метафорой.
Метафора является принципом, который осуществляется не в том связующем измерении означающей цепочки, где имеет место метонимическое функционирование, а в измерении замещения. В прошлом году я постарался найти это в книге, которая действительно под рукой у всех, в словаре Quillet, откуда я взял первый же попавшийся пример, а именно строку Гюго: «И сноп его не знал ни жадности, ни злобы».
Вы скажете, что судьба благоволила ко мне, потому что и для сегодняшней демонстрации он придётся точно впору, как кольцо на палец. Я отвечу вам, что для аналогичной демонстрации столь же применимой окажется любая другая метафора.
Что такое метафора ?
Это не поэтическая искра, как говорят сюрреалисты, возникающая между двумя терминами, которые разнородны в воображении настолько, насколько это возможно. Такое определение выглядит натянутым, потому что ясно, что этот несчастный сноп не может быть ни жадным, ни злым и по-человечески странно связывать подлежащее с определением посредством отрицания, которое, безусловно, опирается на возможное утверждение. Понятно, что сам сноп ни жадный, ни злой. И жадность, и злоба, так же как и сноп, являются атрибутами, которыми обладает не меньше снопа сам Вооз - Вооз, использующий свои свойства и достоинства подобающим образом, ни у кого не спрашивая совета и не распространяясь о своих чувствах.
Между чем и чем возникает метафорическое образование? Между тем, что выражено термином сноп его, и тем, кого сноп его заменяет, то есть тем месье, о котором нам с некоторого момента говорят в ясных выражениях и которого именуют Воозом. Сноп занял его место, которое уже обладает некоторым обобщённым смыслом, в котором Вооз, очистившись от негативных качеств, уже имеет свойство не быть ни жадным, ни злым. Тут-то сноп и занимает его место, чтобы буквально в одно мгновение его упразднить. Мы обнаруживаем схему задействования символа в смерти вещи. Здесь это проявляетсяещё более наглядно - устраняется имя персонажа, его заменяет сноп.
Если и существует метафора, если она имеет смысл, если она создаёт измерение идиллической поэзии, то лишь в силу того, что её сноп, то есть нечто по сути своей
приведёт нас к необходимости подчеркнуть глубоко искусственный характер того, что до сих пор называлось природой. Короче говоря, возможно и наше мнение к тому времени станет не совсем бесполезным. Возможно, когда-нибудь наша добрая подруга Франсуаза Дольто или кто-то из её учеников станет Отцом Церкви.
Различения воображаемого, символического и реального может оказаться недостаточно, чтобы определить условия этой проблемы, которая с тех пор, как заявила о себе в реальности, не кажется мне хоть как-то приближающейся к разрешению. Но эта история облегчает нам возможность сформулировать, как я и намеревался сегодня это сделать, термин, но не сам по себе, а в его отношении к субъекту, в который может быть вписана санкция функции отца.
2
Как только мы проводим ревизию своих представлений и избавляемся от излишних декоративных элементов, всякое введение, если можно так выразиться, в отцовскую функцию представляется нам предметом метафорического опыта. Я собираюсь продемонстрировать вам это, напомнив, под какой рубрикой в прошлом году я представил то, что называю метафорой.
Метафора является принципом, который осуществляется не в том связующем измерении означающей цепочки, где имеет место метонимическое функционирование, а в измерении замещения. В прошлом году я постарался найти это в книге, которая действительно под рукой у всех, в словаре Quillet, откуда я взял первый же попавшийся пример, а именно строку Гюго: «И сноп его не знал ни жадности, ни злобы».
Вы скажете, что судьба благоволила ко мне, потому что и для сегодняшней демонстрации он придётся точно впору, как кольцо на палец. Я отвечу вам, что для аналогичной демонстрации столь же применимой окажется любая другая метафора.
Что такое метафора ?
Это не поэтическая искра, как говорят сюрреалисты, возникающая между двумя терминами, которые разнородны в воображении настолько, насколько это возможно. Такое определение выглядит натянутым, потому что ясно, что этот несчастный сноп не может быть ни жадным, ни злым и по-человечески странно связывать подлежащее с определением посредством отрицания, которое, безусловно, опирается на возможное утверждение. Понятно, что сам сноп ни жадный, ни злой. И жадность, и злоба, так же как и сноп, являются атрибутами, которыми обладает не меньше снопа сам Вооз - Вооз, использующий свои свойства и достоинства подобающим образом, ни у кого не спрашивая совета и не распространяясь о своих чувствах.
Между чем и чем возникает метафорическое образование? Между тем, что выражено термином сноп его, и тем, кого сноп его заменяет, то есть тем месье, о котором нам с некоторого момента говорят в ясных выражениях и которого именуют Воозом. Сноп занял его место, которое уже обладает некоторым обобщённым смыслом, в котором Вооз, очистившись от негативных качеств, уже имеет свойство не быть ни жадным, ни злым. Тут-то сноп и занимает его место, чтобы буквально в одно мгновение его упразднить. Мы обнаруживаем схему задействования символа в смерти вещи. Здесь это проявляетсяещё более наглядно - устраняется имя персонажа, его заменяет сноп.
Если и существует метафора, если она имеет смысл, если она создаёт измерение идиллической поэзии, то лишь в силу того, что её сноп, то есть нечто по сути своей природное, может заменить Вооза. И Вооз, после того как его затушевали, скрыли, упразднили, снова появляется в плодородном сиянии снопа. Он действительно не знает ни жадности, ни злобы, он является чистым и непосредственным плодородием природы.
Это обретает точный смысл в следующем отрывке. Далее в поэме Вооз в сновидении получает известие о том, что, несмотря на преклонный, как он сам говорит, восьмидесятилетний возраст, он вскоре станет отцом, это означает, что из него, из его живота вырастет то великое дерево, у подножья которого пел царь, говорится в тексте, и в кроне которого умирал Бог.
Любое сотворение нового смысла в человеческой культуре является по сути своей метафорическим. Речь идёт о замене, которая в то же время поддерживает то, что заменяет. В напряжённости между тем, что упразднено, удалено, и тем, что его заменяет, залегает это новое измерение, которое вводит столь наглядно поэтическая импровизация. Это новое измерение, очевидно воплощённое в воозовском мифе, представляет собой функцию отца.
Конечно, как это обычно и бывает, старик Гюго далёк от того, чтобы строго придерживаться прямого курса, его немного заносит то вправо, то влево, но то, что совершенно ясно, звучит в следующем:
Пока Вооз дремал, совсем неподалеку
Моавитянка Руфь легла, открывши грудь,
И сладко маялась, и не могла уснуть,
И с тайным трепетом ждала лучей востока.
Стиль этого отрывка балансирует на грани двусмысленности, где реализм сочетается с резким, неровным освещением, напоминающим игры светотени на картинах Караваджо. Несмотря на свою популярную грубоватость, они остаются тем, что в наши дни наиболее возвышенно передает смысл сакрального.
Чуть ниже речь идёт всё о том же:
И спал далекий Ур, и спал Еримадеф;
Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,
Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?
Ни в моём прошлогоднем курсе, ни в том, что я недавно написал о снопе в поэме о Воозе и Руфи, я не довёл исследования до конечного пункта, где поэт развивает метафору. Я отложил серп в сторону, поскольку, опять же вне контекста того, чем мы здесь занимаемся, читателям это могло показаться некоторой натяжкой. Тем не менее вся поэма подводит нас к образу, чей интуитивно понятный и ёмкий характер восхищает людей веками.
природное, может заменить Вооза. И Вооз, после того как его затушевали, скрыли, упразднили, снова появляется в плодородном сиянии снопа. Он действительно не знает ни жадности, ни злобы, он является чистым и непосредственным плодородием природы.
Это обретает точный смысл в следующем отрывке. Далее в поэме Вооз в сновидении получает известие о том, что, несмотря на преклонный, как он сам говорит, восьмидесятилетний возраст, он вскоре станет отцом, это означает, что из него, из его живота вырастет то великое дерево, у подножья которого пел царь, говорится в тексте, и в кроне которого умирал Бог.
Любое сотворение нового смысла в человеческой культуре является по сути своей метафорическим. Речь идёт о замене, которая в то же время поддерживает то, что заменяет. В напряжённости между тем, что упразднено, удалено, и тем, что его заменяет, залегает это новое измерение, которое вводит столь наглядно поэтическая импровизация. Это новое измерение, очевидно воплощённое в воозовском мифе, представляет собой функцию отца.
Конечно, как это обычно и бывает, старик Гюго далёк от того, чтобы строго придерживаться прямого курса, его немного заносит то вправо, то влево, но то, что совершенно ясно, звучит в следующем:
Пока Вооз дремал, совсем неподалеку
Моавитянка Руфь легла, открывши грудь,
И сладко маялась, и не могла уснуть,
И с тайным трепетом ждала лучей востока.
Стиль этого отрывка балансирует на грани двусмысленности, где реализм сочетается с резким, неровным освещением, напоминающим игры светотени на картинах Караваджо. Несмотря на свою популярную грубоватость, они остаются тем, что в наши дни наиболее возвышенно передает смысл сакрального.
Чуть ниже речь идёт всё о том же:
И спал далекий Ур, и спал Еримадеф;
Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,
Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?
Ни в моём прошлогоднем курсе, ни в том, что я недавно написал о снопе в поэме о Воозе и Руфи, я не довёл исследования до конечного пункта, где поэт развивает метафору. Я отложил серп в сторону, поскольку, опять же вне контекста того, чем мы здесь занимаемся, читателям это могло показаться некоторой натяжкой. Тем не менее вся поэма подводит нас к образу, чей интуитивно понятный и ёмкий характер восхищает людей веками. В действительности речь идёт о тонком и ясном полумесяце луны. Но от вас не может ускользнуть, что эта вещь подразумевает, и если она представляет собой нечто иное, нежели прекрасную живописную черту, жёлтый мазок на синем небе, то этот серп в небе является вечным серпом материнства, который уже сыграл свою скромную роль в отношениях Кроноса и Урана, Зевса и Кроноса. Это могущество, о котором я только что говорил, которое так ясно и отчётливо отражено в мистических представлениях о женщине.
Этим серпом, который у неё всегда под рукой, жница действительно срежет сноп, о котором идёт речь, тот самый, от которого пойдёт род Мессии.
Наш маленький Ганс в образовании, развитии и разрешении своей фобии может надлежащим образом вписаться в уравнение только исходя из тех терминов, которые мы только что вывели.
В комплексе Эдипа у нас есть х, который означает ребёнка со всеми его проблемами с матерью, М. И именно по мере того, как возникнет нечто такое, что сформирует отцовскую метафору, сможет занять свое место тот называемый комплексом кастрации означающий элемент, который является основополагающим для любого индивидуального развития, что справедливо как для мужчины, так и для женщины.
Таким образом, мы получаем следующее уравнение:
В действительности речь идёт о тонком и ясном полумесяце луны. Но от вас не может ускользнуть, что эта вещь подразумевает, и если она представляет собой нечто иное, нежели прекрасную живописную черту, жёлтый мазок на синем небе, то этот серп в небе является вечным серпом материнства, который уже сыграл свою скромную роль в отношениях Кроноса и Урана, Зевса и Кроноса. Это могущество, о котором я только что говорил, которое так ясно и отчётливо отражено в мистических представлениях о женщине.
Этим серпом, который у неё всегда под рукой, жница действительно срежет сноп, о котором идёт речь, тот самый, от которого пойдёт род Мессии.
Наш маленький Ганс в образовании, развитии и разрешении своей фобии может надлежащим образом вписаться в уравнение только исходя из тех терминов, которые мы только что вывели.
В комплексе Эдипа у нас есть х, который означает ребёнка со всеми его проблемами с матерью, М. И именно по мере того, как возникнет нечто такое, что сформирует отцовскую метафору, сможет занять свое место тот называемый комплексом кастрации означающий элемент, который является основополагающим для любого индивидуального развития, что справедливо как для мужчины, так и для женщины.
Таким образом, мы получаем следующее уравнение: Р - это отцовская метафора.
х более или менее выпадает (élidé) в зависимости от случая, то есть в зависимости от момента развития и проблем, возникающих у ребёнка в доэдипальный период в отношениях с матерью, М.
Горизонтальное S представляет собой запись для обозначения связи эдипальной метафоры с важной для любой концепции объекта фазой, складывающейся из перевёрнутого С, серпа комплекса кастрации, и значения, s, то есть того, в чём существо обретает себя и в чём х получает своё решение.
Эта формула соответствует ключевому моменту прохождения (franchissement) комплекса Эдипа. Она определяет то, с чем мы имеем дело в случае маленького Ганса, с той уже описанной мной неразрешимой проблемой, которая заключается для него на достигнутом им этапе развития в том факте, что мать представляет собой нечто сложное, выраженное в этой формуле со всеми вытекающими из неё трудностями:
Р - это отцовская метафора.
х более или менее выпадает (élidé) в зависимости от случая, то есть в зависимости от момента развития и проблем, возникающих у ребёнка в доэдипальный период в отношениях с матерью, М.
Горизонтальное S представляет собой запись для обозначения связи эдипальной метафоры с важной для любой концепции объекта фазой, складывающейся из перевёрнутого С, серпа комплекса кастрации, и значения, s, то есть того, в чём существо обретает себя и в чём х получает своё решение.
Эта формула соответствует ключевому моменту прохождения (franchissement) комплекса Эдипа. Она определяет то, с чем мы имеем дело в случае маленького Ганса, с той уже описанной мной неразрешимой проблемой, которая заключается для него на достигнутом им этапе развития в том факте, что мать представляет собой нечто сложное, выраженное в этой формуле со всеми вытекающими из неё трудностями: Читается это как Мать плюс Фаллос плюс А, где А - Анна, и описывает эта формула тупик, в котором оказался Ганс. Он не может найти выход, потому что там нет отца, нет того, что позволило бы метафоризировать его отношения с матерью. Одним словом, нет выхода, предоставляемого серпом, большим С, комплекса кастрации, и нет возможности опосредования перехода (médiation), то есть возможности потерять и заново обрести свой пенис.
Читается это как Мать плюс Фаллос плюс А, где А - Анна, и описывает эта формула тупик, в котором оказался Ганс. Он не может найти выход, потому что там нет отца, нет того, что позволило бы метафоризировать его отношения с матерью. Одним словом, нет выхода, предоставляемого серпом, большим С, комплекса кастрации, и нет возможности опосредования перехода (médiation), то есть возможности потерять и заново обрести свой пенис. С другой стороны уравнения он обнаруживает лишь вероятный укус матери, тот самый укус, с которым он сам плотоядно набрасывается на неё, поскольку ему её не хватает. Нет других реальных отношений с матерью, кроме тех, которые выявляет аналитическая теория, а именно кроме отношений пожирания (dévoration). Оказавшись в этом тупике, маленький Ганс не знает других реальных отношений, кроме тех, что, справедливо или нет, называют садистско-оральными. Я записываю это как m, к чему добавляется всё, что для него является реальным, в частности, то реальное, которое только что обнаружило себя и не упускает случая усложнить ситуацию, а именно П, его реальный пенис. Всё это сводится к следующей формуле:
С другой стороны уравнения он обнаруживает лишь вероятный укус матери, тот самый укус, с которым он сам плотоядно набрасывается на неё, поскольку ему её не хватает. Нет других реальных отношений с матерью, кроме тех, которые выявляет аналитическая теория, а именно кроме отношений пожирания (dévoration). Оказавшись в этом тупике, маленький Ганс не знает других реальных отношений, кроме тех, что, справедливо или нет, называют садистско-оральными. Я записываю это как m, к чему добавляется всё, что для него является реальным, в частности, то реальное, которое только что обнаружило себя и не упускает случая усложнить ситуацию, а именно П, его реальный пенис. Всё это сводится к следующей формуле: Как только его проблема представляется таким образом, становится необходимым, поскольку ничего другого не остаётся, ввести этот элемент метафорического опосредования (médiation), то есть лошадь, причем норовистую, обозначенную как ‘I. Таким образом, возникновение фобии вписывается в ту же формулу, которую я только что вам дал:
(----5--- J М ~ m + П
\ М + <р + а/
Эта формула, эквивалентная отцовской метафоре, тем не менее не решает вопрос укуса, поскольку он является для маленького Ганса главной реальной опасностью, и в особенности опасностью той реальности, которая внезапно возникла накануне, а именно его генитальной реальности.
Эти формулы могут показаться вам несколько искусственными (artificielles). Не стоит так полагать. Сперва попробуйте ими воспользоваться, тогда и посмотрите, смогут ли они оказаться для вас полезными. Я могу показать вам тысячу вариантов их непосредственного применения. Вот один.
Ганс говорит о лошади, что она кусает, угрожает пенису, а также падает, почему, судя по словам Ганса, она и была задействована. Сначала она появилась, потому что, двигаясь запряжённой впереди фургона для перевозки багажа маленькой Лиззи, могла обернуться и укусить. Как раз в этот день, 1-го марта, Ганс говорит нам, что подхватил глупость. В другой день, 5 апреля, Ганс также говорит, что подхватил глупость, когда он был с матерью и видел падение лошади, запряжённой в омнибус. Выражаясь точнее, один элемент, уже прикрепившийся к некоторому значению, был привлечён им в качестве чего-то, заходящего дальше любого значения, что получает своё удостоверение в афоризме или определяющем утверждении Ганса: «Теперь все лошади будут падать».
Так вот, именно функция падения и является общим термином для всего, что фигурирует в нижней части уравнения. М - мы уже отметили как элемент падения матери, ф - фаллос матери, который больше не надёжен, он уже вне игры, однако Ганс делает всё, чтобы эту игру поддерживать. Наконец, а - дети, в частности маленькая Анна, которую он больше всего в мире хотел бы видеть падающей, даже если бы пришлось немного её подтолкнуть.
Как только его проблема представляется таким образом, становится необходимым, поскольку ничего другого не остаётся, ввести этот элемент метафорического опосредования (médiation), то есть лошадь, причем норовистую, обозначенную как ‘I. Таким образом, возникновение фобии вписывается в ту же формулу, которую я только что вам дал:
(----5--- J М ~ m + П
\ М + <р + а/
Эта формула, эквивалентная отцовской метафоре, тем не менее не решает вопрос укуса, поскольку он является для маленького Ганса главной реальной опасностью, и в особенности опасностью той реальности, которая внезапно возникла накануне, а именно его генитальной реальности.
Эти формулы могут показаться вам несколько искусственными (artificielles). Не стоит так полагать. Сперва попробуйте ими воспользоваться, тогда и посмотрите, смогут ли они оказаться для вас полезными. Я могу показать вам тысячу вариантов их непосредственного применения. Вот один.
Ганс говорит о лошади, что она кусает, угрожает пенису, а также падает, почему, судя по словам Ганса, она и была задействована. Сначала она появилась, потому что, двигаясь запряжённой впереди фургона для перевозки багажа маленькой Лиззи, могла обернуться и укусить. Как раз в этот день, 1-го марта, Ганс говорит нам, что подхватил глупость. В другой день, 5 апреля, Ганс также говорит, что подхватил глупость, когда он был с матерью и видел падение лошади, запряжённой в омнибус. Выражаясь точнее, один элемент, уже прикрепившийся к некоторому значению, был привлечён им в качестве чего-то, заходящего дальше любого значения, что получает своё удостоверение в афоризме или определяющем утверждении Ганса: «Теперь все лошади будут падать».
Так вот, именно функция падения и является общим термином для всего, что фигурирует в нижней части уравнения. М - мы уже отметили как элемент падения матери, ф - фаллос матери, который больше не надёжен, он уже вне игры, однако Ганс делает всё, чтобы эту игру поддерживать. Наконец, а - дети, в частности маленькая Анна, которую он больше всего в мире хотел бы видеть падающей, даже если бы пришлось немного её подтолкнуть. Так, в действенной, образной и активной манере лошадь объединяет все функции падения под общим знаменателем. Именно в этом качестве она начинает функционировать как главный элемент рассматриваемой фобии, где мы получаем наглядное представление о том, чем являются на самом деле объекты для человеческой психики.
Возможно, это и есть нечто такое, что заслуживает названия объекта, но нельзя переоценить важность особой задачи характеристики объекта, которая встаёт перед нами, когда мы имеем дело с объектом фобии или фетишем. Конечно, мы понимаем, насколько они действительно существуют как объекты в силу того, что создают в психике субъекта настоящие пограничные столбики, размечая область желания в случае фетиша и территорию его перемещений в случае фобии. Таким образом, объект оказывается одновременно в реальном и в то же время от реального отстранённым. С другой стороны, он не допускает другого доступного способа осмысления, кроме как посредством этой означающей формализации.
Скажем так, до настоящего времени другой, более удовлетворительной, мы не нашли. Если я вознамерился представить вам формулу объекта в чуть более сложном виде, чем это было сделано ранее, то замечу, что происходит это по той причине, что не иначе как сам Фрейд именно на этом заканчивает свой текст. Он отчётливо формулирует, что лошадь является объектом, заменяющим все образы и все спутанные значения, вокруг которых тревога субъекта не может успокоиться. Её объект действительно почти произволен, поэтому Фрейд называет её сигналом, намечающим в пространстве путаницы границы, которые, оставаясь произвольными, тем не менее вводят разграничивающий элемент, формирующий начальную предпосылку для установления порядка в виде первого кристалла организованной взаимосвязи символического и реального.
Именно это и происходит по мере продвижения анализа Ганса, если мы можем назвать то, что имеет место в этом наблюдении, анализом в полном смысле этого слова. Не похоже, по крайней мере читая Месье Джонса, что психоаналитики достаточно хорошо уловили смысл оговорок Фрейда по поводу исключительности этого случая в силу того, что анализ проводил именно отец ребёнка, хотя и под его руководством. Именно поэтому Фрейд не слишком полагался на возможное расширение этого метода. Похоже, что аналитики здесь удивляются робости Фрейда. На самом деле, не стоит ли заподозрить, что анализ этот, будучи проведённым отцом, мог носить специфические черты, которые исключают, по крайней мере частично, само измерение переноса? Другими словами, не оказывается ли вздорное мнение Анны Фрейд об отсутствии возможности переноса в анализе детей здесь применимо - применимо именно потому, что речь идёт об отце?
На самом деле в любом анализе ребёнка, проводимом аналитиком, присутствие переноса даёт о себе знать слишком очевидно, точно так же, как и у взрослого, и даже лучше, чем где бы то ни было ещё. Здесь же речь идёт о чём-то особенном, мы подойдём к этому позже, чтобы рассмотреть, что из этого следует.
Как бы то ни было, эта формула позволяет наиболее строгим образом разметить (scander) весь ход вмешательства отца.
Я думаю в следующий раз продемонстрировать вам, что эта формула действительно позволяет узнать, почему некоторые вмешательства отца остаются
Так, в действенной, образной и активной манере лошадь объединяет все функции падения под общим знаменателем. Именно в этом качестве она начинает функционировать как главный элемент рассматриваемой фобии, где мы получаем наглядное представление о том, чем являются на самом деле объекты для человеческой психики.
Возможно, это и есть нечто такое, что заслуживает названия объекта, но нельзя переоценить важность особой задачи характеристики объекта, которая встаёт перед нами, когда мы имеем дело с объектом фобии или фетишем. Конечно, мы понимаем, насколько они действительно существуют как объекты в силу того, что создают в психике субъекта настоящие пограничные столбики, размечая область желания в случае фетиша и территорию его перемещений в случае фобии. Таким образом, объект оказывается одновременно в реальном и в то же время от реального отстранённым. С другой стороны, он не допускает другого доступного способа осмысления, кроме как посредством этой означающей формализации.
Скажем так, до настоящего времени другой, более удовлетворительной, мы не нашли. Если я вознамерился представить вам формулу объекта в чуть более сложном виде, чем это было сделано ранее, то замечу, что происходит это по той причине, что не иначе как сам Фрейд именно на этом заканчивает свой текст. Он отчётливо формулирует, что лошадь является объектом, заменяющим все образы и все спутанные значения, вокруг которых тревога субъекта не может успокоиться. Её объект действительно почти произволен, поэтому Фрейд называет её сигналом, намечающим в пространстве путаницы границы, которые, оставаясь произвольными, тем не менее вводят разграничивающий элемент, формирующий начальную предпосылку для установления порядка в виде первого кристалла организованной взаимосвязи символического и реального.
Именно это и происходит по мере продвижения анализа Ганса, если мы можем назвать то, что имеет место в этом наблюдении, анализом в полном смысле этого слова. Не похоже, по крайней мере читая Месье Джонса, что психоаналитики достаточно хорошо уловили смысл оговорок Фрейда по поводу исключительности этого случая в силу того, что анализ проводил именно отец ребёнка, хотя и под его руководством. Именно поэтому Фрейд не слишком полагался на возможное расширение этого метода. Похоже, что аналитики здесь удивляются робости Фрейда. На самом деле, не стоит ли заподозрить, что анализ этот, будучи проведённым отцом, мог носить специфические черты, которые исключают, по крайней мере частично, само измерение переноса? Другими словами, не оказывается ли вздорное мнение Анны Фрейд об отсутствии возможности переноса в анализе детей здесь применимо - применимо именно потому, что речь идёт об отце?
На самом деле в любом анализе ребёнка, проводимом аналитиком, присутствие переноса даёт о себе знать слишком очевидно, точно так же, как и у взрослого, и даже лучше, чем где бы то ни было ещё. Здесь же речь идёт о чём-то особенном, мы подойдём к этому позже, чтобы рассмотреть, что из этого следует.
Как бы то ни было, эта формула позволяет наиболее строгим образом разметить (scander) весь ход вмешательства отца.
Я думаю в следующий раз продемонстрировать вам, что эта формула действительно позволяет узнать, почему некоторые вмешательства отца остаются безрезультатными и неуслышанными, а другие, напротив, приводят в действие мифическую трансформацию.
3
Случай маленького Ганса показывает нам в своём развитии преобразования этого уравнения, в которых быстрее всего выявляются возможности прогресса и внутреннее метафорическое изобилие. Сегодня я ограничусь тем, что укажу вам на последний, крайний термин, вписанный в эту формализацию. Я вам уже достаточно о ней сказал, чтобы вы смогли осмыслить её значение.
То, что мы видим в конце, несомненно, является решением, которое включает маленького Ганса в регистр пригодных для жизни объектных отношений. Является ли это успехом с точки зрения эдипальной интеграции? Перед тем как в следующий раз заняться этим вопросом более подробно, мы посмотрим прямо сейчас, в каком отношении это так, а в каком - нет.
В тексте, там, где маленький Ганс в итоге формулирует свою позицию, он говорит нам: «Теперь - я папа, der Vatti». Нам нет нужды задаваться вопросом о том, как у него могла появиться эта идея, принимая во внимание отца, которого он на протяжении всего наблюдения подначивает, уговаривая его: «Так сделай же своё отцовское дело». В последнем замечательном фантазме отец догоняет маленького Ганса прямо на платформе поезда, хотя тот уже давно уехал далеко вперёд. И с кем он уехал? Как будто бы по чистой случайности он уехал с бабушкой.
Первое, что отец у него спрашивает:
- И что бы ты делал на моём месте, если бы был отцом?
- А, ну это просто, каждое воскресенье я возил бы тебя увидеться с бабушкой.
Ничего не изменилось в отношениях сына и отца. Поэтому мы вправе предположить, что это не совсем типичная реализация комплекса Эдипа.
На самом деле мы замечаем это очень быстро, если умеем читать текст. Связь с отцом далека от того, чтобы быть нарушенной, они даже ещё сильнее привязываются друг к другу в этом аналитическом опыте, но как прекрасно выразился маленький Ганс: «Теперь ты будешь дедушкой». И в какой момент он говорит это? Прочитайте хорошенько текст - в том разговоре он начал с того, что сказал, что сам был отцом.
Этот термин, дедушка, появляется там совершенно обособленно. Сначала разговор идёт о матери, и мы увидим, о какой именно. Далее речь заходит о другой женщине, о бабушке. Но с точки зрения маленького Ганса-для-себя нет никакой связи между этим дедушкой и этой бабушкой.
Не напрасно Фрейд с удовлетворением, от которого нам совсем не легче, подчёркивает, что вопрос Эдипа был очень элегантно решён этим маленьким парнем, который становится супругом своей матери и отправляет своего отца к бабушке. Скажем, что это было элегантным, даже юмористическим способом уйти от вопроса. Но ничто во всём, что написал Фрейд, до сих пор не указывает на возможность принимать это решение, такое, как может показаться, очевидное, в качестве типичного исхода комплекса Эдипа.
Со стороны маленького Ганса мы хорошо видим проработку, которая удерживает некоторую преемственность в порядке родовых линий. Если бы не удалось дойти хотя бы до этого, то маленький Ганс вообще бы ничего не смог решить и польза от фобии
безрезультатными и неуслышанными, а другие, напротив, приводят в действие мифическую трансформацию.
3
Случай маленького Ганса показывает нам в своём развитии преобразования этого уравнения, в которых быстрее всего выявляются возможности прогресса и внутреннее метафорическое изобилие. Сегодня я ограничусь тем, что укажу вам на последний, крайний термин, вписанный в эту формализацию. Я вам уже достаточно о ней сказал, чтобы вы смогли осмыслить её значение.
То, что мы видим в конце, несомненно, является решением, которое включает маленького Ганса в регистр пригодных для жизни объектных отношений. Является ли это успехом с точки зрения эдипальной интеграции? Перед тем как в следующий раз заняться этим вопросом более подробно, мы посмотрим прямо сейчас, в каком отношении это так, а в каком - нет.
В тексте, там, где маленький Ганс в итоге формулирует свою позицию, он говорит нам: «Теперь - я папа, der Vatti». Нам нет нужды задаваться вопросом о том, как у него могла появиться эта идея, принимая во внимание отца, которого он на протяжении всего наблюдения подначивает, уговаривая его: «Так сделай же своё отцовское дело». В последнем замечательном фантазме отец догоняет маленького Ганса прямо на платформе поезда, хотя тот уже давно уехал далеко вперёд. И с кем он уехал? Как будто бы по чистой случайности он уехал с бабушкой.
Первое, что отец у него спрашивает:
- И что бы ты делал на моём месте, если бы был отцом?
- А, ну это просто, каждое воскресенье я возил бы тебя увидеться с бабушкой.
Ничего не изменилось в отношениях сына и отца. Поэтому мы вправе предположить, что это не совсем типичная реализация комплекса Эдипа.
На самом деле мы замечаем это очень быстро, если умеем читать текст. Связь с отцом далека от того, чтобы быть нарушенной, они даже ещё сильнее привязываются друг к другу в этом аналитическом опыте, но как прекрасно выразился маленький Ганс: «Теперь ты будешь дедушкой». И в какой момент он говорит это? Прочитайте хорошенько текст - в том разговоре он начал с того, что сказал, что сам был отцом.
Этот термин, дедушка, появляется там совершенно обособленно. Сначала разговор идёт о матери, и мы увидим, о какой именно. Далее речь заходит о другой женщине, о бабушке. Но с точки зрения маленького Ганса-для-себя нет никакой связи между этим дедушкой и этой бабушкой.
Не напрасно Фрейд с удовлетворением, от которого нам совсем не легче, подчёркивает, что вопрос Эдипа был очень элегантно решён этим маленьким парнем, который становится супругом своей матери и отправляет своего отца к бабушке. Скажем, что это было элегантным, даже юмористическим способом уйти от вопроса. Но ничто во всём, что написал Фрейд, до сих пор не указывает на возможность принимать это решение, такое, как может показаться, очевидное, в качестве типичного исхода комплекса Эдипа.
Со стороны маленького Ганса мы хорошо видим проработку, которая удерживает некоторую преемственность в порядке родовых линий. Если бы не удалось дойти хотя бы до этого, то маленький Ганс вообще бы ничего не смог решить и польза от фобии была бы нулевой. Поскольку он видит себя отцом, маленький Ганс может быть представлен функцией, которую можно записать примерно так:
была бы нулевой. Поскольку он видит себя отцом, маленький Ганс может быть представлен функцией, которую можно записать примерно так: Это мама и бабушка. Мама в итоге всего процесса раздваивается. Это очень важный пункт, в котором три опорные точки позволяют ребёнку найти равновесие, что является минимумом для того, чтобы можно было установить отношения с объектом. Тройку, которую он не смог образовать со своим отцом, он образовал с бабушкой, в объектных отношениях с которой он слишком хорошо видел лишь её решающую, даже подавляющую роль.
Именно в силу того, что маленький Ганс добавляет к своей матери ещё одну, он устанавливает для себя отцовство. Какого рода отцовство? Отцовство воображаемое.
Что с этого момента говорит маленький Ганс? У кого будут дети? У него. Он чётко об этом заявляет. Но когда отец, как слон в посудной лавке, спрашивает его: «У тебя с мамой будут дети?» «Вовсе нет, - отвечает ему маленький Ганс, - что ещё это значит? Ты говорил, что отец сам по себе не может иметь детей, а теперь хочешь, чтобы у меня они были?»
В диалоге этот настолько поразительный момент колебания указывает, насколько вытеснено у Ганса то, что относится к отцовству, хотя с этого момента он, напротив, говорит, что будет иметь детей, но дети эти будут воображаемыми.
Он совершенно чётко говорит о детях, он хотел бы, чтобы они у него были, но, с другой стороны, он не хотел бы, чтобы они были у матери. Отсюда и его желание получить гарантии такой возможности на будущее. Для того, чтобы у матери больше не было детей, он готов пойти на всё, включая щедрый подкуп - не стоит забывать, что мы всё-таки имеем дело с маленьким наследником капиталистов - великого по преимуществу родителя, которым является Месье Аист, обладающий таким странным обликом. В следующий раз мы посмотрим, с каким местом и с какой функцией будет уместно его сопоставить и каково его истинное лицо. Дело доходит до подкупа Отца-Аиста, лишь бы больше не появилось реального ребёнка.
Отцовская функция, которую принимает на себя ребёнок, является воображаемой. Ганс заступает на место матери и, как у неё, у него появляются дети. Он будет заботиться об этих воображаемых детях тем способом, которым ему удалось проблему ребёнка, в том числе и по отношению к маленькой Анне, полностью разрешить.
В чем состоит его фантазм о ящике, аисте, маленькой Анне, которая уже существовала ещё до своего рождения? В том, чтобы воображать свою сестру, фантазировать о ней. Таким образом у него появятся выдуманные дети. По сути, он превратится в настоящего поэта, станет творцом в порядке воображаемого.
Завершённой форме своих воображаемых творений он даёт имя Лоди. Отцу очень интересно: «Что означает Лоди? Может, шоколоди? - Нет, это saffalodi». На самом деле saffalodi означает маленькая сосиска. Фаллический характер образа указывает на воображаемое преобразование, которому подвергся не обретённый и в то же время бесконечно воображаемый матерью фаллос. В итоге мы видим его репродукцию в форме маленькой Лоди.
Женщина навсегда останется для него только фантазией об этих маленьких сёстрах-дочерях, вокруг которых разворачивается весь его детский кризис. Это не станет в полном смысле фетишем, поскольку является, если я могу так выразится, подлинным фетишем. Он не остановится на том, что написано на вуали, он найдёт типичную гетеросексуальную форму для своего объекта, но его отношения с женщинами с этого момента навсегда и безусловно будут отмечены их нарциссическим происхождением, в ходе которого он занял орто-положение по отношению к женщине-партнёру. Женщина-партнёр будет, одним словом, происходить для него не от матери, а от воображаемых детей, которых он может сделать для матери; они сами унаследуют фаллос, этот центральный элемент первичной (primitif) игры любовных отношений и любовного пленения матерью.
Это мама и бабушка. Мама в итоге всего процесса раздваивается. Это очень важный пункт, в котором три опорные точки позволяют ребёнку найти равновесие, что является минимумом для того, чтобы можно было установить отношения с объектом. Тройку, которую он не смог образовать со своим отцом, он образовал с бабушкой, в объектных отношениях с которой он слишком хорошо видел лишь её решающую, даже подавляющую роль.
Именно в силу того, что маленький Ганс добавляет к своей матери ещё одну, он устанавливает для себя отцовство. Какого рода отцовство? Отцовство воображаемое.
Что с этого момента говорит маленький Ганс? У кого будут дети? У него. Он чётко об этом заявляет. Но когда отец, как слон в посудной лавке, спрашивает его: «У тебя с мамой будут дети?» «Вовсе нет, - отвечает ему маленький Ганс, - что ещё это значит? Ты говорил, что отец сам по себе не может иметь детей, а теперь хочешь, чтобы у меня они были?»
В диалоге этот настолько поразительный момент колебания указывает, насколько вытеснено у Ганса то, что относится к отцовству, хотя с этого момента он, напротив, говорит, что будет иметь детей, но дети эти будут воображаемыми.
Он совершенно чётко говорит о детях, он хотел бы, чтобы они у него были, но, с другой стороны, он не хотел бы, чтобы они были у матери. Отсюда и его желание получить гарантии такой возможности на будущее. Для того, чтобы у матери больше не было детей, он готов пойти на всё, включая щедрый подкуп - не стоит забывать, что мы всё-таки имеем дело с маленьким наследником капиталистов - великого по преимуществу родителя, которым является Месье Аист, обладающий таким странным обликом. В следующий раз мы посмотрим, с каким местом и с какой функцией будет уместно его сопоставить и каково его истинное лицо. Дело доходит до подкупа Отца-Аиста, лишь бы больше не появилось реального ребёнка.
Отцовская функция, которую принимает на себя ребёнок, является воображаемой. Ганс заступает на место матери и, как у неё, у него появляются дети. Он будет заботиться об этих воображаемых детях тем способом, которым ему удалось проблему ребёнка, в том числе и по отношению к маленькой Анне, полностью разрешить.
В чем состоит его фантазм о ящике, аисте, маленькой Анне, которая уже существовала ещё до своего рождения? В том, чтобы воображать свою сестру, фантазировать о ней. Таким образом у него появятся выдуманные дети. По сути, он превратится в настоящего поэта, станет творцом в порядке воображаемого.
Завершённой форме своих воображаемых творений он даёт имя Лоди. Отцу очень интересно: «Что означает Лоди? Может, шоколоди? - Нет, это saffalodi». На самом деле saffalodi означает маленькая сосиска. Фаллический характер образа указывает на воображаемое преобразование, которому подвергся не обретённый и в то же время бесконечно воображаемый матерью фаллос. В итоге мы видим его репродукцию в форме маленькой Лоди.
Женщина навсегда останется для него только фантазией об этих маленьких сёстрах-дочерях, вокруг которых разворачивается весь его детский кризис. Это не станет в полном смысле фетишем, поскольку является, если я могу так выразится, подлинным фетишем. Он не остановится на том, что написано на вуали, он найдёт типичную гетеросексуальную форму для своего объекта, но его отношения с женщинами с этого момента навсегда и безусловно будут отмечены их нарциссическим происхождением, в ходе которого он занял орто-положение по отношению к женщине-партнёру. Женщина-партнёр будет, одним словом, происходить для него не от матери, а от воображаемых детей, которых он может сделать для матери; они сами унаследуют фаллос, этот центральный элемент первичной (primitif) игры любовных отношений и любовного пленения матерью. Вернувшись к нашему уравнению, мы в итоге получаем по одну сторону -удостоверение отношений Ганса как нового отца, как Vatti, с материнской линией и по другую сторону - маленькую Анну верхом на лошади, занимающую доминирующее положение в любой повозке, в любом поезде, во всём том, что мать волочёт за собой.
Действительно, именно при посредничестве маленькой Анны Гансу удаётся сделать то, что мы обсуждали в прошлый раз, то есть подчинить мать, не просто отхлестать её, но и, как показывает нам продолжение истории, посмотреть, что там у неё в животе. Однажды извлечённый маленький кастрирующий ножичек становится гораздо менее опасным.
Вернувшись к нашему уравнению, мы в итоге получаем по одну сторону -удостоверение отношений Ганса как нового отца, как Vatti, с материнской линией и по другую сторону - маленькую Анну верхом на лошади, занимающую доминирующее положение в любой повозке, в любом поезде, во всём том, что мать волочёт за собой.
Действительно, именно при посредничестве маленькой Анны Гансу удаётся сделать то, что мы обсуждали в прошлый раз, то есть подчинить мать, не просто отхлестать её, но и, как показывает нам продолжение истории, посмотреть, что там у неё в животе. Однажды извлечённый маленький кастрирующий ножичек становится гораздо менее опасным. Такова формула, которая, будучи противоположной предыдущей, соответствует конечному пункту трансформации маленького Ганса.
Конечно, он будет отмечен всеми признаками нормального гетеросексуала. Тем не менее, он достигает этого пункта, преодолевая в Эдипе нетипичный путь, связанный с этой несостоятельностью (carence) отца. Вы удивитесь, возможно, не сочтя эту несостоятельность столь уж значительной, но ход всего наблюдения беспрестанно демонстрирует нам неудачи отца и его ошибки, которые постоянно подмечает сам маленький Ганс. Таким образом, определённо нет ничего удивительного в том, что этот нетипичный характер, который приобретает в итоге разрешение фобии, будет нести на себе её печать.
Я прошу вас просто зафиксировать внимание на этих двух крайностях и допустить возможность осмыслить и сформулировать их переходность из одной в другую посредством серии преобразований.
Конечно, здесь не стоит слишком полагаться на строгую систематизацию. Это новый тип логики. Если продолжить её развивать, то возможно, что она окажется лишь введением в ряд вопросов, связанных с её формализацией (formalisme). Справедливы ли для неё уже сформулированные в других областях логики законы?
Фрейд уже в Traumdeutung кое-что рассказывает нам о логике бессознательного, иначе говоря, об означающих в бессознательном. Это определённо представляет собой нечто иное, нежели наша обычная логика. Добрая четверть Traumdeutung посвящена тому, чтобы показать, каким образом определённое число сущностных логических выражений, таких как или-или, противопоставление, причинность, могут быть перенесены в порядок бессознательного. Эта логика может быть отличной от нашей обычной логики. Также как топология - это геометрия из каучука, здесь мы имеем дело с логикой из каучука.
Такова формула, которая, будучи противоположной предыдущей, соответствует конечному пункту трансформации маленького Ганса.
Конечно, он будет отмечен всеми признаками нормального гетеросексуала. Тем не менее, он достигает этого пункта, преодолевая в Эдипе нетипичный путь, связанный с этой несостоятельностью (carence) отца. Вы удивитесь, возможно, не сочтя эту несостоятельность столь уж значительной, но ход всего наблюдения беспрестанно демонстрирует нам неудачи отца и его ошибки, которые постоянно подмечает сам маленький Ганс. Таким образом, определённо нет ничего удивительного в том, что этот нетипичный характер, который приобретает в итоге разрешение фобии, будет нести на себе её печать.
Я прошу вас просто зафиксировать внимание на этих двух крайностях и допустить возможность осмыслить и сформулировать их переходность из одной в другую посредством серии преобразований.
Конечно, здесь не стоит слишком полагаться на строгую систематизацию. Это новый тип логики. Если продолжить её развивать, то возможно, что она окажется лишь введением в ряд вопросов, связанных с её формализацией (formalisme). Справедливы ли для неё уже сформулированные в других областях логики законы?
Фрейд уже в Traumdeutung кое-что рассказывает нам о логике бессознательного, иначе говоря, об означающих в бессознательном. Это определённо представляет собой нечто иное, нежели наша обычная логика. Добрая четверть Traumdeutung посвящена тому, чтобы показать, каким образом определённое число сущностных логических выражений, таких как или-или, противопоставление, причинность, могут быть перенесены в порядок бессознательного. Эта логика может быть отличной от нашей обычной логики. Также как топология - это геометрия из каучука, здесь мы имеем дело с логикой из каучука. Из каучука не означает, что возможно всё. Ничто не позволит нам расцепить два кольца, проходящие одно через другое, даже если они из каучука, до тех пор, пока мир остается таким, каков он есть. Это говорит нам о том, что логика из каучука не обрекает ( condamnée ) на полную свободу - она требует определения целого ряда терминов.
Короче говоря, после разрешения фобии маленького Ганса проявляет себя следующая конфигурация. Несмотря на присутствие и настойчивую активность отца, маленький Ганс вписывается в пространство матриархальной линии рода или, проще говоря, прибегает к удвоению матери, поскольку если третий персонаж действительно необходим, а отец им стать не способен, то этим третьим становится известная нам бабушка.
С другой стороны, что устанавливает связь Ганса с объектом, который отныне будет объектом его желаний? Я уже обращал ваше внимание на то, что в анамнезе мы располагаем свидетельством об одной вещи, которая связывает его с Гмунденом, с младшей сестрой, с маленькими девочками, то есть с детьми, поскольку они являются дочками его матери, но и его дочками, его воображаемыми девочками. Эта изначально нарциссическая структура его отношений с женщинами проявляет себя на исходе, на излёте разрешения его фобии. Какие следы оставит после себя переход через фобию? Останется нечто очень любопытное - маленький ягнёнок, тот, с которым он предаётся весьма своеобразным играм, например, позволяет ягненку его бодать.
Однажды он попытался усадить верхом на маленького ягнёнка свою сестру. Это именно та позиция верхом на лошади, которую она занимает в фантазии о большом ящике на последнем этапе перед разрешением фобии. Нужно было, чтобы сначала доминировала сестра, чтобы он, маленький Ганс, смог обойтись с лошадью так, как она этого заслуживает, то есть ударить её. В этот момент очевидно равенство между лошадью и матерью: одолеть лошадь - то же самое, что одолеть мать. Младшая сестра верхом на маленьком ягнёнке - вот та конфигурация, которая выстраивается в конце.
Я не могу лишить себя удовольствия, а вас одной загадки, и расскажу вам о произведении, вокруг которого наш учитель, Фрейд, развернул свой анализ Леонардо да Винчи: не о «Мадонне в скалах», а о большом картоне «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», который находится в Лувре и которому предшествует эскиз, хранящийся в Берлингтон Хаус. Вот он.
Весь анализ Фрейда Леонардо да Винчи вращается вокруг этой странной андрогинной фигуры, Святой Анны - она, кстати, напоминает Святого Иоанна Крестителя - Мадонны и ребёнка. И здесь, в отличие от картона в Лондоне, двоюродный брат Спасителя, а именно Иоанн Креститель, как раз и есть маленький ягнёнок.
Эта конфигурация не преминула привлечь внимание Фрейда и она действительно является стержнем его построения в уникальной работе «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи». Я надеюсь, что до конца этого года вы возьмёте на себя труд прочитать её, потому что, возможно, именно на ней я и завершу для вас свой семинар.
Вы не можете пройти мимо невероятно загадочного характера всей ситуации, в которой впервые использован термин нарциссизм - написать нечто подобное в то время было дерзостью на грани безумия. С тех пор, читая Фрейда, мы значительно преуспели в скотомизации и забвении вещей, подобных этой.
Прочтите, и вы убедитесь, насколько сложно понять то, что он в конечном счёте хочет сказать. Но заодно прочитайте и для того, чтобы понять, насколько всё это до сих
Из каучука не означает, что возможно всё. Ничто не позволит нам расцепить два кольца, проходящие одно через другое, даже если они из каучука, до тех пор, пока мир остается таким, каков он есть. Это говорит нам о том, что логика из каучука не обрекает ( condamnée ) на полную свободу - она требует определения целого ряда терминов.
Короче говоря, после разрешения фобии маленького Ганса проявляет себя следующая конфигурация. Несмотря на присутствие и настойчивую активность отца, маленький Ганс вписывается в пространство матриархальной линии рода или, проще говоря, прибегает к удвоению матери, поскольку если третий персонаж действительно необходим, а отец им стать не способен, то этим третьим становится известная нам бабушка.
С другой стороны, что устанавливает связь Ганса с объектом, который отныне будет объектом его желаний? Я уже обращал ваше внимание на то, что в анамнезе мы располагаем свидетельством об одной вещи, которая связывает его с Гмунденом, с младшей сестрой, с маленькими девочками, то есть с детьми, поскольку они являются дочками его матери, но и его дочками, его воображаемыми девочками. Эта изначально нарциссическая структура его отношений с женщинами проявляет себя на исходе, на излёте разрешения его фобии. Какие следы оставит после себя переход через фобию? Останется нечто очень любопытное - маленький ягнёнок, тот, с которым он предаётся весьма своеобразным играм, например, позволяет ягненку его бодать.
Однажды он попытался усадить верхом на маленького ягнёнка свою сестру. Это именно та позиция верхом на лошади, которую она занимает в фантазии о большом ящике на последнем этапе перед разрешением фобии. Нужно было, чтобы сначала доминировала сестра, чтобы он, маленький Ганс, смог обойтись с лошадью так, как она этого заслуживает, то есть ударить её. В этот момент очевидно равенство между лошадью и матерью: одолеть лошадь - то же самое, что одолеть мать. Младшая сестра верхом на маленьком ягнёнке - вот та конфигурация, которая выстраивается в конце.
Я не могу лишить себя удовольствия, а вас одной загадки, и расскажу вам о произведении, вокруг которого наш учитель, Фрейд, развернул свой анализ Леонардо да Винчи: не о «Мадонне в скалах», а о большом картоне «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», который находится в Лувре и которому предшествует эскиз, хранящийся в Берлингтон Хаус. Вот он.
Весь анализ Фрейда Леонардо да Винчи вращается вокруг этой странной андрогинной фигуры, Святой Анны - она, кстати, напоминает Святого Иоанна Крестителя - Мадонны и ребёнка. И здесь, в отличие от картона в Лондоне, двоюродный брат Спасителя, а именно Иоанн Креститель, как раз и есть маленький ягнёнок.
Эта конфигурация не преминула привлечь внимание Фрейда и она действительно является стержнем его построения в уникальной работе «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи». Я надеюсь, что до конца этого года вы возьмёте на себя труд прочитать её, потому что, возможно, именно на ней я и завершу для вас свой семинар.
Вы не можете пройти мимо невероятно загадочного характера всей ситуации, в которой впервые использован термин нарциссизм - написать нечто подобное в то время было дерзостью на грани безумия. С тех пор, читая Фрейда, мы значительно преуспели в скотомизации и забвении вещей, подобных этой.
Прочтите, и вы убедитесь, насколько сложно понять то, что он в конечном счёте хочет сказать. Но заодно прочитайте и для того, чтобы понять, насколько всё это до сих пор актуально, несмотря на все ошибки - поскольку они есть, хотя и не имеют определяющего значения.
Эта особая конфигурация, которая, если можно так выразиться, представляет нам humanissima Мпйа, очень человеческую или даже слишком человеческую Троицу, противоположную divinissima, которую она сменяет - это то, к чему мы должны вернуться.
Краеугольный камень, на который я хотел вам указать, - это насущная
необходимость четвёртого термина, который мы находим в остаточной форме в виде ягнёнка, того самого животного, что мы встретили в фобии.
19 июня 1957
пор актуально, несмотря на все ошибки - поскольку они есть, хотя и не имеют определяющего значения.
Эта особая конфигурация, которая, если можно так выразиться, представляет нам humanissima Мпйа, очень человеческую или даже слишком человеческую Троицу, противоположную divinissima, которую она сменяет - это то, к чему мы должны вернуться.
Краеугольный камень, на который я хотел вам указать, - это насущная
необходимость четвёртого термина, который мы находим в остаточной форме в виде ягнёнка, того самого животного, что мы встретили в фобии.
19 июня 1957
 и что оно останавливает взаимодействие с маленьким Гансом. Но дальше он размышляет о возможном участии отца в чём-то таком, что имеет, по его предположению, место в собственном Я маленького Ганса и из чего будет развиваться Сверх-Я. Это измышление не является слишком смелой экстраполяцией, а просто говорит о том, что автор считает нужным поместить данный случай в какой-то определёвснный регистр. Мы можем уловить его сомнения - он описывает феномен, о котором идёт речь, то говоря, что Сверх-Я находится in statu nascendi, в процессе рождения, то утверждая, что оно определённо ещё не родилось или что это и есть рождение Сверх-Я. Всё это весьма странно.
Затем предлагается одна ссылка на работы Месье Исаковера, который очень настаивал на преобладании слуховой сферы при формировании Сверх-Я. Этот автор, безусловно, предчувствовал непрестанно занимающую нас проблему, связанную с функцией речи в происхождении этого приводящего к норме кризиса, который мы называем комплексом Эдипа. Мы обязаны ему за важные замечания о том, как при случае проявляет себя механизм, с помощью которого мы усваиваем эту несущую конструкцию (monture), эту матричную сеть (réseau de formes), которая выстраивает Сверх-Я. Это усвоение происходит, когда субъект слышит чисто синтаксические модуляции, прямо говоря, пустые речи, поскольку значение имеет только их движение. В этих перемещениях определённой интенсивности мы способны, говорит он, схватить за живое нечто, связанное с архаическими элементами; из речи взрослого ребёнок интегрирует только её структуру, ещё не понимая смысла. Это и есть, по сути дела, как он полагает, интериоризация - первая форма, позволяющая нам осмыслить, что такое Сверх-Я.
Это интересное замечание, которое в рамках нашего семинара можно было бы сопоставить с диалогом между Гансом и его отцом. Но совершенно точно не для того, чтобы найти какое бы то ни было соответствие. С одной стороны, предполагается, что Сверх-Я как внутренняя инстанция основано на интеграции субъектом общего движения и фундаментальной структуры речи. С другой стороны, дело касается диалога, целиком вынесенного вовне (extériorisé). Стоит ли рассчитывать на разрешение парадокса, обращаясь к упомянутому замечанию?
Конечно, я допускаю необходимость поиска обобщающих сопоставлений для того, что мы описываем. Но я всегда подчёркиваю необходимость как можно ближе придерживаться самого по себе опыта. Только при этом условии у нас появляется шанс развивать и применять концепты аналитической практики.
Поэтому мы ни в коем случае не последуем примеру Месье Флисса.
1
Всё, что мы сделали до сих пор, опирается на ряд положений, которые не являются абсолютными, поскольку они основаны на предыдущих комментариях, содержащих всевозможные размышления об аналитическом опыте и о том, что он нам даёт. Одно из этих положений касается того, что невроз представляет собой вопрос субъекта, касающийся самого его существования.
В истерии этот вопрос приобретает следующие формулировки. Что означает пол, которым я обладаю? Что значит быть того или иного пола? Откуда у меня появляется сама по себе возможность задаться этим вопросом? Ведь на самом деле, в силу
и что оно останавливает взаимодействие с маленьким Гансом. Но дальше он размышляет о возможном участии отца в чём-то таком, что имеет, по его предположению, место в собственном Я маленького Ганса и из чего будет развиваться Сверх-Я. Это измышление не является слишком смелой экстраполяцией, а просто говорит о том, что автор считает нужным поместить данный случай в какой-то определёвснный регистр. Мы можем уловить его сомнения - он описывает феномен, о котором идёт речь, то говоря, что Сверх-Я находится in statu nascendi, в процессе рождения, то утверждая, что оно определённо ещё не родилось или что это и есть рождение Сверх-Я. Всё это весьма странно.
Затем предлагается одна ссылка на работы Месье Исаковера, который очень настаивал на преобладании слуховой сферы при формировании Сверх-Я. Этот автор, безусловно, предчувствовал непрестанно занимающую нас проблему, связанную с функцией речи в происхождении этого приводящего к норме кризиса, который мы называем комплексом Эдипа. Мы обязаны ему за важные замечания о том, как при случае проявляет себя механизм, с помощью которого мы усваиваем эту несущую конструкцию (monture), эту матричную сеть (réseau de formes), которая выстраивает Сверх-Я. Это усвоение происходит, когда субъект слышит чисто синтаксические модуляции, прямо говоря, пустые речи, поскольку значение имеет только их движение. В этих перемещениях определённой интенсивности мы способны, говорит он, схватить за живое нечто, связанное с архаическими элементами; из речи взрослого ребёнок интегрирует только её структуру, ещё не понимая смысла. Это и есть, по сути дела, как он полагает, интериоризация - первая форма, позволяющая нам осмыслить, что такое Сверх-Я.
Это интересное замечание, которое в рамках нашего семинара можно было бы сопоставить с диалогом между Гансом и его отцом. Но совершенно точно не для того, чтобы найти какое бы то ни было соответствие. С одной стороны, предполагается, что Сверх-Я как внутренняя инстанция основано на интеграции субъектом общего движения и фундаментальной структуры речи. С другой стороны, дело касается диалога, целиком вынесенного вовне (extériorisé). Стоит ли рассчитывать на разрешение парадокса, обращаясь к упомянутому замечанию?
Конечно, я допускаю необходимость поиска обобщающих сопоставлений для того, что мы описываем. Но я всегда подчёркиваю необходимость как можно ближе придерживаться самого по себе опыта. Только при этом условии у нас появляется шанс развивать и применять концепты аналитической практики.
Поэтому мы ни в коем случае не последуем примеру Месье Флисса.
1
Всё, что мы сделали до сих пор, опирается на ряд положений, которые не являются абсолютными, поскольку они основаны на предыдущих комментариях, содержащих всевозможные размышления об аналитическом опыте и о том, что он нам даёт. Одно из этих положений касается того, что невроз представляет собой вопрос субъекта, касающийся самого его существования.
В истерии этот вопрос приобретает следующие формулировки. Что означает пол, которым я обладаю? Что значит быть того или иного пола? Откуда у меня появляется сама по себе возможность задаться этим вопросом? Ведь на самом деле, в силу возникновения измерения символического, человек уже не просто мужчина или женщина, теперь ему нужно расположить себя по отношению к чему-то символизированному, тому, что называется мужским и женским.
Если невроз связан с измерением существования, то связь эта ещё более драматична в неврозе навязчивости, где речь идёт не только об отношении субъекта к своему полу, но и к самому факту своего существования. Именно так и звучат навязчивые вопросы. Что значит существовать? Как соотнесён я с тем, кто я есть, не будучи им, поскольку могу обойтись без него и отступить от него достаточно далеко, чтобы представить себя мертвецом?
Если невроз является такого рода скрытым от самого субъекта вопросом, но организованным, выстроенным как вопрос, то симптомы следует понимать как живые элементы этого вопроса, который субъект, сам того не зная, артикулирует. Вопрос, так сказать, живой, и субъект не знает, что он пребывает в этом вопросе. Он сам зачастую является его элементом, который может располагаться на разных уровнях - как на уровне элементарном в квазиалфавитном порядке, так и на синтаксическом, более высоком уровне, где мы можем говорить о функции метафорической и о функции метонимической, исходя из идеи, предложенной лингвистами, по крайней мере некоторыми из них, о двух основных сторонах артикуляции языка. То, что создаёт сложность в следовании верным курсом при чтении комментариев наблюдений, это постоянная необходимость воздерживаться от абсолютного предпочтения той или иной из этих сторон.
Чтобы наблюдение можно было расшифровать, нужно начинать с анализа. Суть невротического вопроса состоит в том, что он скрыт, поэтому нет никаких оснований полагать, что его смысл сможет открыться тому, кто ограничится поверхностным его описанием - он так и останется нечитаемым, загадочным, иероглифическим. Именно по этой причине мы в течение десятков лет до появления Фрейда получали наблюдения о неврозе без всякого подозрения на существование этого языка. Поскольку невроз - это язык.
Так что только в той мере, в которой имеет место начало расшифровки, мы начинаем улавливать преобразования и осуществлять манипуляции, в процессе которых подтверждается, что речь идёт именно о тексте - тексте, в котором с помощью ряда структур мы вновь обнаруживаем себя самих. Структуры эти проявляются только тогда, когда мы имеем дело с текстом.
Мы можем делать это на уровне просто-напросто членения, как это происходит в случаях особенно закрытых, загадочных, в манере, не сильно отличной от той, что представлена в одном тексте По, который напоминает нам об общих методах расшифровки посланий, отправленных в стиле кода или архикода. Осуществляя подсчёт знаков, которые появляются наибольшее количество раз, мы приходим к интересным предположениям, а именно, что такой-то знак соответствует такой-то букве того языка, на который мы хотим перевести закодированный текст.
В случае с невротиками мы, к счастью, имеем дело с операциями более высокого порядка, где мы обнаруживаем определённые, хорошо известные нам синтаксические множества. Опасность заключается в очевидном соблазне свести эти синтаксические множества к тому, что называется душевными качествами, и даже сместить их смысл ещё ближе к своего рода естественной инстинктуализации. Таким образом, упускается из виду то, что сразу же занимает главенствующее положение, тот
возникновения измерения символического, человек уже не просто мужчина или женщина, теперь ему нужно расположить себя по отношению к чему-то символизированному, тому, что называется мужским и женским.
Если невроз связан с измерением существования, то связь эта ещё более драматична в неврозе навязчивости, где речь идёт не только об отношении субъекта к своему полу, но и к самому факту своего существования. Именно так и звучат навязчивые вопросы. Что значит существовать? Как соотнесён я с тем, кто я есть, не будучи им, поскольку могу обойтись без него и отступить от него достаточно далеко, чтобы представить себя мертвецом?
Если невроз является такого рода скрытым от самого субъекта вопросом, но организованным, выстроенным как вопрос, то симптомы следует понимать как живые элементы этого вопроса, который субъект, сам того не зная, артикулирует. Вопрос, так сказать, живой, и субъект не знает, что он пребывает в этом вопросе. Он сам зачастую является его элементом, который может располагаться на разных уровнях - как на уровне элементарном в квазиалфавитном порядке, так и на синтаксическом, более высоком уровне, где мы можем говорить о функции метафорической и о функции метонимической, исходя из идеи, предложенной лингвистами, по крайней мере некоторыми из них, о двух основных сторонах артикуляции языка. То, что создаёт сложность в следовании верным курсом при чтении комментариев наблюдений, это постоянная необходимость воздерживаться от абсолютного предпочтения той или иной из этих сторон.
Чтобы наблюдение можно было расшифровать, нужно начинать с анализа. Суть невротического вопроса состоит в том, что он скрыт, поэтому нет никаких оснований полагать, что его смысл сможет открыться тому, кто ограничится поверхностным его описанием - он так и останется нечитаемым, загадочным, иероглифическим. Именно по этой причине мы в течение десятков лет до появления Фрейда получали наблюдения о неврозе без всякого подозрения на существование этого языка. Поскольку невроз - это язык.
Так что только в той мере, в которой имеет место начало расшифровки, мы начинаем улавливать преобразования и осуществлять манипуляции, в процессе которых подтверждается, что речь идёт именно о тексте - тексте, в котором с помощью ряда структур мы вновь обнаруживаем себя самих. Структуры эти проявляются только тогда, когда мы имеем дело с текстом.
Мы можем делать это на уровне просто-напросто членения, как это происходит в случаях особенно закрытых, загадочных, в манере, не сильно отличной от той, что представлена в одном тексте По, который напоминает нам об общих методах расшифровки посланий, отправленных в стиле кода или архикода. Осуществляя подсчёт знаков, которые появляются наибольшее количество раз, мы приходим к интересным предположениям, а именно, что такой-то знак соответствует такой-то букве того языка, на который мы хотим перевести закодированный текст.
В случае с невротиками мы, к счастью, имеем дело с операциями более высокого порядка, где мы обнаруживаем определённые, хорошо известные нам синтаксические множества. Опасность заключается в очевидном соблазне свести эти синтаксические множества к тому, что называется душевными качествами, и даже сместить их смысл ещё ближе к своего рода естественной инстинктуализации. Таким образом, упускается из виду то, что сразу же занимает главенствующее положение, тот организующий узел, который придаёт некоторым из этих множеств ценность единства значения, делает их тем, что обычно называют словом. Именно в этом смысле я говорил недавно о пресловутой идентификации мальчика с матерью, отмечая, что такая идентификация никогда не происходит только по отношению к общему продвижению аналитического процесса. На 319 странице немецкого текста случая Ганса Фрейд энергично обращает наше внимание на то, что «путь анализа никогда не может повторить ход развития невроза».
Вот мы и дошли до сути вопроса. В наших усилиях по расшифровке мы должны следовать тому, что затягивается в настоящий узел в тексте невроза. Однако этот текст сам по себе в текущей ситуации обусловлен использованием элемента прошлого субъекта в качестве означающего элемента. Вот одна из наиболее ясных форм того неизвестного х, которое стоит за сгущением. По мере того, как мы приближаемся к означающим элементам текста, мы всё менее способны абстрагироваться от того факта, что они распадаются на два слагаемых (termes), расположенных в двух весьма отдалённых друг от друга пунктах истории субъекта, и тем не менее нам нужно найти решение в условиях их актуальной организации. Это то, что заставляет нас искать каждый раз новое решение, определяя свои собственные законы для каждого такого организованного дискурса, соответствующего тому неврозу, с которым мы имеем дело.
Но есть не только организованный дискурс, есть ещё способ, посредством которого завязывается диалог для поиска решения этого дискурса, и это ещё более усложняет положение дел. Налаживание этого диалога на самом деле предполагает, что мы предлагаем себя в качестве того места, где должна быть реализована часть терминов этого дискурса. Виртуально и изначально этот последний, в силу одного только факта, что он является дискурсом, несёт в себе некоторую часть этого Другого, который является местом, свидетелем, гарантом, идеальным местом его подлинности.
Именно там, в раскрывающем диалоге, где формулируется смысл дискурса, мы в принципе располагаем себя. Именно к нему мы и призваны, именно там наблюдаем мы появление элементов бессознательного субъекта, то есть терминов, которые приходят на то место, которое занимаем мы. Диалог постепенно расшифровывает дискурс, показывая нам, какова функция того персонажа, которым мы становимся. Это то, что называется переносом. По ходу анализа этот персонаж обязательно меняется.
Вот как мы стараемся прояснить смысл дискурса. Мы своей собственной личностью интегрированы в качестве означающих элементов в дискурс невроза и именно в силу этого оказываемся порой способны разгадать его смысл.
Принципиально важно всегда иметь в виду эти два плана интерсубъективности как фундаментальную структуру, в которой развивается история расшифровки. И это всегда должно занимать своё место в наблюдении.
В случае маленького Ганса мы должны были подчеркнуть сложность отношений с отцом. Не будем на самом деле забывать, что этот последний и есть тот, кто делает анализ. Таким образом, есть отец реальный, актуальный, ведущий с ребёнком диалог. Это тот отец, который держит речь. Но за ним стоит другой отец, которому эта речь предоставляется, он выступает в качестве свидетеля её истины. Другого, высшего, всемогущего отца представляет собой Фрейд. В этом заключается характерная черта случая, которая заслуживает особого внимания. Что касается структуры, о которой идёт речь, то её можно проследить во всей области отношений анализируемого и аналитика.
организующий узел, который придаёт некоторым из этих множеств ценность единства значения, делает их тем, что обычно называют словом. Именно в этом смысле я говорил недавно о пресловутой идентификации мальчика с матерью, отмечая, что такая идентификация никогда не происходит только по отношению к общему продвижению аналитического процесса. На 319 странице немецкого текста случая Ганса Фрейд энергично обращает наше внимание на то, что «путь анализа никогда не может повторить ход развития невроза».
Вот мы и дошли до сути вопроса. В наших усилиях по расшифровке мы должны следовать тому, что затягивается в настоящий узел в тексте невроза. Однако этот текст сам по себе в текущей ситуации обусловлен использованием элемента прошлого субъекта в качестве означающего элемента. Вот одна из наиболее ясных форм того неизвестного х, которое стоит за сгущением. По мере того, как мы приближаемся к означающим элементам текста, мы всё менее способны абстрагироваться от того факта, что они распадаются на два слагаемых (termes), расположенных в двух весьма отдалённых друг от друга пунктах истории субъекта, и тем не менее нам нужно найти решение в условиях их актуальной организации. Это то, что заставляет нас искать каждый раз новое решение, определяя свои собственные законы для каждого такого организованного дискурса, соответствующего тому неврозу, с которым мы имеем дело.
Но есть не только организованный дискурс, есть ещё способ, посредством которого завязывается диалог для поиска решения этого дискурса, и это ещё более усложняет положение дел. Налаживание этого диалога на самом деле предполагает, что мы предлагаем себя в качестве того места, где должна быть реализована часть терминов этого дискурса. Виртуально и изначально этот последний, в силу одного только факта, что он является дискурсом, несёт в себе некоторую часть этого Другого, который является местом, свидетелем, гарантом, идеальным местом его подлинности.
Именно там, в раскрывающем диалоге, где формулируется смысл дискурса, мы в принципе располагаем себя. Именно к нему мы и призваны, именно там наблюдаем мы появление элементов бессознательного субъекта, то есть терминов, которые приходят на то место, которое занимаем мы. Диалог постепенно расшифровывает дискурс, показывая нам, какова функция того персонажа, которым мы становимся. Это то, что называется переносом. По ходу анализа этот персонаж обязательно меняется.
Вот как мы стараемся прояснить смысл дискурса. Мы своей собственной личностью интегрированы в качестве означающих элементов в дискурс невроза и именно в силу этого оказываемся порой способны разгадать его смысл.
Принципиально важно всегда иметь в виду эти два плана интерсубъективности как фундаментальную структуру, в которой развивается история расшифровки. И это всегда должно занимать своё место в наблюдении.
В случае маленького Ганса мы должны были подчеркнуть сложность отношений с отцом. Не будем на самом деле забывать, что этот последний и есть тот, кто делает анализ. Таким образом, есть отец реальный, актуальный, ведущий с ребёнком диалог. Это тот отец, который держит речь. Но за ним стоит другой отец, которому эта речь предоставляется, он выступает в качестве свидетеля её истины. Другого, высшего, всемогущего отца представляет собой Фрейд. В этом заключается характерная черта случая, которая заслуживает особого внимания. Что касается структуры, о которой идёт речь, то её можно проследить во всей области отношений анализируемого и аналитика. К тому же эта разновидность высшей инстанции настолько присуща функции отца, что всегда каким-то образом стремится к воспроизводству.
Именно в этом и заключается специфика случаев, в которых пациент имел дело непосредственно с самим отцом Фрейдом. За ним не стояла высшая власть и не было удвоения, пациент хорошо понимал, что напрямую имеет дело с тем, кто привёл к возникновению новой вселенной значений, новых отношений человека с его собственным смыслом и его положением и кто сделал это в интересах пациента, который находится перед ним. То, что кажется нам парадоксальным как в порой весьма удивительных результатах, которых достигал Фрейд, так и весьма удивительных способах вмешательства, которые были присущи его технике, ничем иным объяснить нельзя.
Будучи усвоенным, это позволяет нам лучше установить, в сторону какого смысла смещается наш интерес. В течении нескольких лет вы видели меня за разработкой фундаментальной схемы субъекта, а именно схемы символических отношений между субъектом и тем Другим, который является персонажем бессознательного, который его ведёт и направляет, тогда как воображаемый другой, маленький другой, играет роль посредника, экрана. Мало-помалу наш интерес сместился, и мы перешли к осмыслению структуры самого дискурса, о котором идёт речь, структуры, которая поднимает другие, не менее оригинальные проблемы.
Даже в курсе этого года мы постепенно сместили наш интерес. Конечно, есть законы интерсубъективности. Это законы, регулирующие отношения субъекта с маленьким другим и большим Другим. Но это ещё не всё, с чем мы имеем дело. К исконной (originale) функции дискурса, суть которой касается языка, стоит приближаться поступательно, шаг за шагом. Дискурс тоже имеет законы, а связь означающего и означаемого представляет собой нечто отличное от интерсубъективности, хотя они могут взаимно пересекаться, как пересекаются отношения воображаемого и символического.
Так, по мере продвижения в этом году в теме объектных отношений мы прояснили изначальное (originale) положение элементов, которые и в самом деле являются объектами, находятся на той первоначальной, учредительной стадии, где объекты формируются, но при этом тем не менее совершенно не являются объектами в полном смысле. Во всяком случае, они сильно отличаются от реальных объектов, поскольку они обязаны своим обнаружением психопатологии, то есть болезни.
Это объекты, зависящие от означающего.
2
Выделяя объекты, зависимые от означающего, я сделал это вначале в отношении фетиша и до конца этого года смогу продвинуться не дальше, чем рассмотрение фобии.
Тем не менее, если вы хорошо поняли то, что мы пытались задействовать каждый раз, когда говорили о фобии маленького Ганса, у вас есть модель, которую вы можете применить для углублённого и расширенного понимания других случаев невроза, а именно истерии и невроза навязчивости.
В фобии это проявляет себя особенно чётко и показательно. Имея дело с фобией юного субъекта, вы всегда сможете увидеть, что объектом этой фобии является означающее. Внешне оно выглядит относительно просто, чего не скажешь об
К тому же эта разновидность высшей инстанции настолько присуща функции отца, что всегда каким-то образом стремится к воспроизводству.
Именно в этом и заключается специфика случаев, в которых пациент имел дело непосредственно с самим отцом Фрейдом. За ним не стояла высшая власть и не было удвоения, пациент хорошо понимал, что напрямую имеет дело с тем, кто привёл к возникновению новой вселенной значений, новых отношений человека с его собственным смыслом и его положением и кто сделал это в интересах пациента, который находится перед ним. То, что кажется нам парадоксальным как в порой весьма удивительных результатах, которых достигал Фрейд, так и весьма удивительных способах вмешательства, которые были присущи его технике, ничем иным объяснить нельзя.
Будучи усвоенным, это позволяет нам лучше установить, в сторону какого смысла смещается наш интерес. В течении нескольких лет вы видели меня за разработкой фундаментальной схемы субъекта, а именно схемы символических отношений между субъектом и тем Другим, который является персонажем бессознательного, который его ведёт и направляет, тогда как воображаемый другой, маленький другой, играет роль посредника, экрана. Мало-помалу наш интерес сместился, и мы перешли к осмыслению структуры самого дискурса, о котором идёт речь, структуры, которая поднимает другие, не менее оригинальные проблемы.
Даже в курсе этого года мы постепенно сместили наш интерес. Конечно, есть законы интерсубъективности. Это законы, регулирующие отношения субъекта с маленьким другим и большим Другим. Но это ещё не всё, с чем мы имеем дело. К исконной (originale) функции дискурса, суть которой касается языка, стоит приближаться поступательно, шаг за шагом. Дискурс тоже имеет законы, а связь означающего и означаемого представляет собой нечто отличное от интерсубъективности, хотя они могут взаимно пересекаться, как пересекаются отношения воображаемого и символического.
Так, по мере продвижения в этом году в теме объектных отношений мы прояснили изначальное (originale) положение элементов, которые и в самом деле являются объектами, находятся на той первоначальной, учредительной стадии, где объекты формируются, но при этом тем не менее совершенно не являются объектами в полном смысле. Во всяком случае, они сильно отличаются от реальных объектов, поскольку они обязаны своим обнаружением психопатологии, то есть болезни.
Это объекты, зависящие от означающего.
2
Выделяя объекты, зависимые от означающего, я сделал это вначале в отношении фетиша и до конца этого года смогу продвинуться не дальше, чем рассмотрение фобии.
Тем не менее, если вы хорошо поняли то, что мы пытались задействовать каждый раз, когда говорили о фобии маленького Ганса, у вас есть модель, которую вы можете применить для углублённого и расширенного понимания других случаев невроза, а именно истерии и невроза навязчивости.
В фобии это проявляет себя особенно чётко и показательно. Имея дело с фобией юного субъекта, вы всегда сможете увидеть, что объектом этой фобии является означающее. Внешне оно выглядит относительно просто, чего не скажешь об обращении с ним, как только вы вступаете в его игру. Но на простейшем уровне это -означающее.
В этом состоит смысл данной мной формулы:
(__1---Ам
\ М + ф + а/
Термины под чертой представляют то, что входит и постепенно усложняет элементарные отношения с присутствующей и отсутствующей матерью, от фигуры которой мы оттолкнулись, когда я рассказал вам о символе фрустрации S(M). Именно здесь с возрастом формируются в процессе развития отношения ребёнка с матерью.
Случай маленького Ганса начинается для нас с чрезвычайно непростой стадии, на которой мать усложняется всевозможными дополнительными элементами. Прежде всего таким элементом является фаллос, ф. Я вам говорил, что фаллос определённо был критическим зияющим элементом в тех отношениях, которые современная аналитическая диалектика представляет намнастолько замкнутыми между двумя участниками. Мы же, напротив, должны понять, до какой степени связан ребёнок с воображаемой функцией у матери. С другой стороны, есть другой ребёнок, а, который хотя бы на мгновение прогоняет, отлучает ребёнка от материнской заботы.
Вы всегда увидите появление фобии у ребёнка в этот критический типичный момент, когда недостаёт чего-то такого, что сыграет определяющую роль на выходе из, казалось бы, безвыходного кризиса отношений ребёнка и матери. Чтобы это показать, нам нет нужды строить предположения. Всё аналитическое построение опирается на конструкцию эдипова комплекса, которую можно формализовать так:
обращении с ним, как только вы вступаете в его игру. Но на простейшем уровне это -означающее.
В этом состоит смысл данной мной формулы:
(__1---Ам
\ М + ф + а/
Термины под чертой представляют то, что входит и постепенно усложняет элементарные отношения с присутствующей и отсутствующей матерью, от фигуры которой мы оттолкнулись, когда я рассказал вам о символе фрустрации S(M). Именно здесь с возрастом формируются в процессе развития отношения ребёнка с матерью.
Случай маленького Ганса начинается для нас с чрезвычайно непростой стадии, на которой мать усложняется всевозможными дополнительными элементами. Прежде всего таким элементом является фаллос, ф. Я вам говорил, что фаллос определённо был критическим зияющим элементом в тех отношениях, которые современная аналитическая диалектика представляет намнастолько замкнутыми между двумя участниками. Мы же, напротив, должны понять, до какой степени связан ребёнок с воображаемой функцией у матери. С другой стороны, есть другой ребёнок, а, который хотя бы на мгновение прогоняет, отлучает ребёнка от материнской заботы.
Вы всегда увидите появление фобии у ребёнка в этот критический типичный момент, когда недостаёт чего-то такого, что сыграет определяющую роль на выходе из, казалось бы, безвыходного кризиса отношений ребёнка и матери. Чтобы это показать, нам нет нужды строить предположения. Всё аналитическое построение опирается на конструкцию эдипова комплекса, которую можно формализовать так: Если комплекс Эдипа что-то значит, то это сводится к следующему: начиная с определённого момента, отношения с матерью рассматриваются и переживаются в связи с отцом. Здесь отец удостоен большого Р, потому что мы полагаем его отцом в полном смысле этого слова. Это отец на уровне символического отца. Это Имя Отца, устанавливающее существование отца во всей сложности, в которой он перед нами предстаёт. Опыт психопатологии позволяет разобрать эту сложность, описав её как эдипов комплекс. Введение этого символического элемента привносит новое, радикальное измерение в отношения ребёнка и матери.
Чтобы заполнить вторую часть уравнения, мы должны исходить из эмпирических данных. То, на существование чего эти данные указывают, можно приблизительно и с учётом необходимости дополнительных комментариев описать так:
Если комплекс Эдипа что-то значит, то это сводится к следующему: начиная с определённого момента, отношения с матерью рассматриваются и переживаются в связи с отцом. Здесь отец удостоен большого Р, потому что мы полагаем его отцом в полном смысле этого слова. Это отец на уровне символического отца. Это Имя Отца, устанавливающее существование отца во всей сложности, в которой он перед нами предстаёт. Опыт психопатологии позволяет разобрать эту сложность, описав её как эдипов комплекс. Введение этого символического элемента привносит новое, радикальное измерение в отношения ребёнка и матери.
Чтобы заполнить вторую часть уравнения, мы должны исходить из эмпирических данных. То, на существование чего эти данные указывают, можно приблизительно и с учётом необходимости дополнительных комментариев описать так: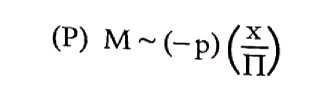 То, что я записал как П под х, представляет собой реальный пенис. (-р) - это то, что противостоит ребёнку, находясь с ним в своего рода воображаемом антагонизме. Это воображаемая функция отца, которая играет свою агрессивную, репрессивную роль в комплексе кастрации.
То, что я записал как П под х, представляет собой реальный пенис. (-р) - это то, что противостоит ребёнку, находясь с ним в своего рода воображаемом антагонизме. Это воображаемая функция отца, которая играет свою агрессивную, репрессивную роль в комплексе кастрации. Если мы хотим формализовать опыт фрейдовского анализа, мы должны строго следовать его букве и хотя бы на время допустить его достоверность. А Фрейд утверждает постоянство комплекса кастрации. Какие бы дискуссии он не породил в дальнейшем, мы никогда не упускаем его из виду, и опыт подтверждает нам его согласованность с комплексом Эдипа.
С одной стороны, что-то происходит в отношениях с матерью, которая вводит отца как символический фактор. Он является тем, кто обладает матерью, кто на законных основаниях наслаждается ей. Эта одновременно фундаментальная и проблематичная функция иногда может ослабевать или распадаться.
С другой стороны, имеется нечто, чья роль состоит во включении в инстинктивную игру субъекта и в усвоении им своих функций важнейшего значения, специфичного именно для человеческого рода, поскольку в развитии этого последнего имеется дополнительное измерение - измерение символического порядка. Это присутствующее, проживаемое в опыте человека значение зовётся кастрацией.
Анализ представляет кастрацию наиболее инструментальным образом -ножницы, серп, топор, нож. Это означающие, которые наносят ущерб сексуальной функции. Они являются частью инстинктивного снаряжения, если так можно выразиться, сексуальных отношений человеческого вида. Мы можем попробовать уточнить, каким снаряжением пользуются те или иные виды животных. К примеру, яркую манишку на груди малиновки, вероятно, можно рассматривать в качестве сигнального элемента как на случай парада, так и на случай межполовой борьбы. Как бы то ни было, у животных мы обнаруживаем устойчивый эквивалент того парадоксального элемента, который у человека связан с означающим, известным как комплекс кастрации.
Именно так можем мы, таким образом, записать формулу комплекса Эдипа с его коррелятом - комплексом кастрации. Но нужно иметь в виду, что сам по себе комплекс Эдипа организуется в плане символическом, что предполагает учреждающий его существование символический порядок. Один эпизод из отчёта о наблюдении маленького Ганса хорошо нам это показывает.
В определённый момент их диалога отец пытается подвести Ганса к рассмотрению всевозможных физиологических объяснений. Застенчивый отец не доводит дело до конца, как это обычно с ним и бывает. Но бедный маленький Ганс говорит, что толком не понял функцию женского органа, и отец, отчаявшись, в итоге даёт ему объяснение, хотя фантазмы маленького Ганса прямо указывают на его прекрасную осведомлённость о том, что всё это находится в животе у матери, независимо от того, символизирована ли она лошадью или машиной. Но отец не замечает того, что ребёнка интересует только генеалогическая конструкция.
Этот интерес соответствует одному из нормальных моментов развития субъекта. Возможно, он здесь усилен особыми трудностями невроза, но он нормален; у маленького Ганса он появляется по мере приближения к весьма продвинутой стадии наблюдения. Ребёнок затевает этот долгий разговор только для того, чтобы смоделировать (construire) существующие генеалогические возможности, то есть чтобы понять, какими способами ребёнок может быть связан с отцом или матерью и что они означают.
Он доходит до создания одной из самых оригинальных сексуальных теорий. Фрейд говорит, что подобную можно встретить у детей не часто, и в любом наблюдении действительно есть своеобразные элементы. Эта теория состоит в следующем -
Если мы хотим формализовать опыт фрейдовского анализа, мы должны строго следовать его букве и хотя бы на время допустить его достоверность. А Фрейд утверждает постоянство комплекса кастрации. Какие бы дискуссии он не породил в дальнейшем, мы никогда не упускаем его из виду, и опыт подтверждает нам его согласованность с комплексом Эдипа.
С одной стороны, что-то происходит в отношениях с матерью, которая вводит отца как символический фактор. Он является тем, кто обладает матерью, кто на законных основаниях наслаждается ей. Эта одновременно фундаментальная и проблематичная функция иногда может ослабевать или распадаться.
С другой стороны, имеется нечто, чья роль состоит во включении в инстинктивную игру субъекта и в усвоении им своих функций важнейшего значения, специфичного именно для человеческого рода, поскольку в развитии этого последнего имеется дополнительное измерение - измерение символического порядка. Это присутствующее, проживаемое в опыте человека значение зовётся кастрацией.
Анализ представляет кастрацию наиболее инструментальным образом -ножницы, серп, топор, нож. Это означающие, которые наносят ущерб сексуальной функции. Они являются частью инстинктивного снаряжения, если так можно выразиться, сексуальных отношений человеческого вида. Мы можем попробовать уточнить, каким снаряжением пользуются те или иные виды животных. К примеру, яркую манишку на груди малиновки, вероятно, можно рассматривать в качестве сигнального элемента как на случай парада, так и на случай межполовой борьбы. Как бы то ни было, у животных мы обнаруживаем устойчивый эквивалент того парадоксального элемента, который у человека связан с означающим, известным как комплекс кастрации.
Именно так можем мы, таким образом, записать формулу комплекса Эдипа с его коррелятом - комплексом кастрации. Но нужно иметь в виду, что сам по себе комплекс Эдипа организуется в плане символическом, что предполагает учреждающий его существование символический порядок. Один эпизод из отчёта о наблюдении маленького Ганса хорошо нам это показывает.
В определённый момент их диалога отец пытается подвести Ганса к рассмотрению всевозможных физиологических объяснений. Застенчивый отец не доводит дело до конца, как это обычно с ним и бывает. Но бедный маленький Ганс говорит, что толком не понял функцию женского органа, и отец, отчаявшись, в итоге даёт ему объяснение, хотя фантазмы маленького Ганса прямо указывают на его прекрасную осведомлённость о том, что всё это находится в животе у матери, независимо от того, символизирована ли она лошадью или машиной. Но отец не замечает того, что ребёнка интересует только генеалогическая конструкция.
Этот интерес соответствует одному из нормальных моментов развития субъекта. Возможно, он здесь усилен особыми трудностями невроза, но он нормален; у маленького Ганса он появляется по мере приближения к весьма продвинутой стадии наблюдения. Ребёнок затевает этот долгий разговор только для того, чтобы смоделировать (construire) существующие генеалогические возможности, то есть чтобы понять, какими способами ребёнок может быть связан с отцом или матерью и что они означают.
Он доходит до создания одной из самых оригинальных сексуальных теорий. Фрейд говорит, что подобную можно встретить у детей не часто, и в любом наблюдении действительно есть своеобразные элементы. Эта теория состоит в следующем - маленькие мальчики рожают маленьких девочек, а маленькие девочки рожают маленьких мальчиков. Не думайте, что такую теорию нельзя найти в генеалогической организации. Можно даже сказать, что она несёт в себе зерно истины и согласуется с элементарными структурами родства.
Именно потому, что женщины делают мужчин, и могут последние в дальнейшем оказать им ответную услугу, которая позволит женщинам выполнять свои функции деторождения. Предполагается, конечно, что мы подразумеваем это происходящим в символическом порядке, то есть в некотором порядке, который определяет регулярную смену поколений. В порядке природы, как я вам множество раз говорил, нет никакого препятствия к тому, чтобы сводить всё исключительно к женской линии последующих поколений, без всякой дискриминации, касающейся плода, без ограничений на возможность беременности от сына матери и, при возможности с его стороны, последующих поколений. То, что интересует маленького Ганса, это символический порядок как центр тяжести всей его настолько пышной и причудливой конструкции.
В более общих терминах скажем, что обращение к символическому порядку возникает у ребёнка по отношению к большому Р в форме вопроса Что такое отец? Отец действительно является стержнем, фиктивным и конкретным центром управления генеалогическим порядком, который позволяет ребёнку удовлетворительным образом включить себя в мир, в который он был рождён, с какой бы стороны - культурной, природной или сверхъестественной - о нём ни судить, и о котором ему нужно получить какие-то представления, культурные или природные, или сверхъестественные. Он появляется на свет в человеческом мире, организованном порядком символического, и именно с ним ребёнок встречается лицом к лицу.
Разве не открывает для нас психоанализ, какому обязательному минимуму необходимо соответствовать реальному отцу, какому требованию он должен отвечать, чтобы сообщить, дать ощутить и передать ребёнку понимание его места в этом символическом порядке? Также предполагается, что всё происходящее при неврозах призвано как-то компенсировать трудности и неудачи ребёнка, имеющего дело с Эдипом.
Ситуацию усложняет ещё одна вещь. Это то, что мы называем регрессиями. Речь идёт о промежуточных элементах, которые приходят из первичных (primitive) отношений с матерью, которые уже содержат определённый символизм дуальности. Между этими первичными отношениями и моментом, когда, собственно говоря, образуется Эдип, могут иметь место всевозможные происшествия, связанные не с чем иным, как с тем, что различные элементы обмена ребёнка начинают играть свою роль в постижении символического порядка. Короче говоря, догенитальное может быть интегрировано на эдипальном уровне и усложнить вопрос невроза.
В случае фобии дело обстоит просто. Никто не спорит, что в этом случае ребёнок достигает, по крайней мере на время, того, что называют генитальной стадией, где проблемы интеграции пола субъекта встают перед ним во всей полноте. Поэтому функцию фобического элемента нам следует продумать именно на этом уровне.
Фрейд считал функцию фобического элемента гомогенной по отношению к примитивной (primitive) функции, которая была выделена этнографами его времени -функции тотема. Вероятно, что в свете актуального продвижения структурной антропологии, где тотем больше не играет главной, ключевой роли и на его месте появилось что-то другое, это уже пройденный этап. И хотя в конечном счёте вряд ли
маленькие мальчики рожают маленьких девочек, а маленькие девочки рожают маленьких мальчиков. Не думайте, что такую теорию нельзя найти в генеалогической организации. Можно даже сказать, что она несёт в себе зерно истины и согласуется с элементарными структурами родства.
Именно потому, что женщины делают мужчин, и могут последние в дальнейшем оказать им ответную услугу, которая позволит женщинам выполнять свои функции деторождения. Предполагается, конечно, что мы подразумеваем это происходящим в символическом порядке, то есть в некотором порядке, который определяет регулярную смену поколений. В порядке природы, как я вам множество раз говорил, нет никакого препятствия к тому, чтобы сводить всё исключительно к женской линии последующих поколений, без всякой дискриминации, касающейся плода, без ограничений на возможность беременности от сына матери и, при возможности с его стороны, последующих поколений. То, что интересует маленького Ганса, это символический порядок как центр тяжести всей его настолько пышной и причудливой конструкции.
В более общих терминах скажем, что обращение к символическому порядку возникает у ребёнка по отношению к большому Р в форме вопроса Что такое отец? Отец действительно является стержнем, фиктивным и конкретным центром управления генеалогическим порядком, который позволяет ребёнку удовлетворительным образом включить себя в мир, в который он был рождён, с какой бы стороны - культурной, природной или сверхъестественной - о нём ни судить, и о котором ему нужно получить какие-то представления, культурные или природные, или сверхъестественные. Он появляется на свет в человеческом мире, организованном порядком символического, и именно с ним ребёнок встречается лицом к лицу.
Разве не открывает для нас психоанализ, какому обязательному минимуму необходимо соответствовать реальному отцу, какому требованию он должен отвечать, чтобы сообщить, дать ощутить и передать ребёнку понимание его места в этом символическом порядке? Также предполагается, что всё происходящее при неврозах призвано как-то компенсировать трудности и неудачи ребёнка, имеющего дело с Эдипом.
Ситуацию усложняет ещё одна вещь. Это то, что мы называем регрессиями. Речь идёт о промежуточных элементах, которые приходят из первичных (primitive) отношений с матерью, которые уже содержат определённый символизм дуальности. Между этими первичными отношениями и моментом, когда, собственно говоря, образуется Эдип, могут иметь место всевозможные происшествия, связанные не с чем иным, как с тем, что различные элементы обмена ребёнка начинают играть свою роль в постижении символического порядка. Короче говоря, догенитальное может быть интегрировано на эдипальном уровне и усложнить вопрос невроза.
В случае фобии дело обстоит просто. Никто не спорит, что в этом случае ребёнок достигает, по крайней мере на время, того, что называют генитальной стадией, где проблемы интеграции пола субъекта встают перед ним во всей полноте. Поэтому функцию фобического элемента нам следует продумать именно на этом уровне.
Фрейд считал функцию фобического элемента гомогенной по отношению к примитивной (primitive) функции, которая была выделена этнографами его времени -функции тотема. Вероятно, что в свете актуального продвижения структурной антропологии, где тотем больше не играет главной, ключевой роли и на его месте появилось что-то другое, это уже пройденный этап. И хотя в конечном счёте вряд ли только в перспективе фобии Фрейд придаёт значение тотему в аналитическом опыте, для нашей аналитической практики нам нужно тем не менее привести фобический объект к формулировке, которая была бы менее сомнительной, чем тотемические отношения. Вот для чего я в прошлый раз ввёл то, что назвал метафорической функцией фобического объекта.
Это означает, что фобический объект начинает играть роль, с которой по причине некоторой несостоятельности (carence), а в случае маленького Ганса по причине реальной несостоятельности, не справляется персонаж отца. Так, фобический объект играет ту же самую метафорическую роль, которую я пытался проиллюстрировать для вас с помощью образа И сноп его не знал ни жадности, ни злобы.
Я показал вам, как поэт использовал метафору, чтобы подчеркнуть изначальность отцовского измерения, воплощённого этим стариком, чтобы вернуть ему мужественность, наделив его природным плодородием снопа.
В этой животворящей поэзии, которой в данном случае становится фобия, лошадь выполняет ту же функцию. Она является элементом, вокруг которого вращаются всевозможные значения, формирующие в итоге элемент, восполняющий то, чего не хватает развитию субъекта, то есть то, чего недостаёт обстоятельствам его развития, которые предлагает ему диалектика среды, в которую он погружён. Но это возможно только в воображении.
Это означающее в чистом виде. Оно не лишено той предзаданности, которую в телеге культурного наследия субъект волочёт за собой. В конечном счёте субъекту не приходится искать его где-то в другом месте, кроме как там, где находятся всевозможные геральдические образы - в книге с картинками. Это не естественные, а рукотворные образы, образы, нарисованные рукой человека, имеющие свою историю в том смысле истории, которая складывается из мифологических фрагментов и фольклора. Именно в своей книге, прямо возле картинки с ящиком у аиста на красной дымоходной трубе, маленький Ганс находит изображение лошади, которую подковывают. Мы ясно видим, что речь идёт о лошади нарисованной.
Ничего удивительного, что субъекты регулярно прибегают к формам, которые можно назвать типичными, потому что они всегда возникают в определённых контекстах, в определённых связках или ассоциациях, которые могут ускользать от тех, кто становятся их носителем. Субъект выбирает из них одну, чтобы решить конкретную задачу, которая обеспечивает временную стабилизацию некоторых состояний, в данном случае - состояния тревоги. Для того, чтобы решить задачу по трансформации этой тревоги в локализированный страх, субъект выбирает форму, которая становится точкой фиксации, шарниром, стержнем, на которой крепится всё неустойчивое, всё, что находится под угрозой быть сметённым внутренней волной, возникшей на выходе из кризиса отношений с матерью. В случае маленького Ганса такую роль играет лошадь.
Конечно, это весьма запутывает процесс развития ребёнка, и для его окружения это является паразитическим и патологическим элементом. Но аналитическая установка показывает нам, что наряду с этим оно играет роль зацепки, важнейшую роль держателя. Этот элемент становится пунктом, вокруг которого субъект может продолжать переживать то, что в противном случае давало бы о себе знать невыносимой тревогой.
Весь аналитический прогресс этого случая состоит в извлечении, в выявлении возможностей компенсации кризиса, которые предоставляет ребёнку использование
только в перспективе фобии Фрейд придаёт значение тотему в аналитическом опыте, для нашей аналитической практики нам нужно тем не менее привести фобический объект к формулировке, которая была бы менее сомнительной, чем тотемические отношения. Вот для чего я в прошлый раз ввёл то, что назвал метафорической функцией фобического объекта.
Это означает, что фобический объект начинает играть роль, с которой по причине некоторой несостоятельности (carence), а в случае маленького Ганса по причине реальной несостоятельности, не справляется персонаж отца. Так, фобический объект играет ту же самую метафорическую роль, которую я пытался проиллюстрировать для вас с помощью образа И сноп его не знал ни жадности, ни злобы.
Я показал вам, как поэт использовал метафору, чтобы подчеркнуть изначальность отцовского измерения, воплощённого этим стариком, чтобы вернуть ему мужественность, наделив его природным плодородием снопа.
В этой животворящей поэзии, которой в данном случае становится фобия, лошадь выполняет ту же функцию. Она является элементом, вокруг которого вращаются всевозможные значения, формирующие в итоге элемент, восполняющий то, чего не хватает развитию субъекта, то есть то, чего недостаёт обстоятельствам его развития, которые предлагает ему диалектика среды, в которую он погружён. Но это возможно только в воображении.
Это означающее в чистом виде. Оно не лишено той предзаданности, которую в телеге культурного наследия субъект волочёт за собой. В конечном счёте субъекту не приходится искать его где-то в другом месте, кроме как там, где находятся всевозможные геральдические образы - в книге с картинками. Это не естественные, а рукотворные образы, образы, нарисованные рукой человека, имеющие свою историю в том смысле истории, которая складывается из мифологических фрагментов и фольклора. Именно в своей книге, прямо возле картинки с ящиком у аиста на красной дымоходной трубе, маленький Ганс находит изображение лошади, которую подковывают. Мы ясно видим, что речь идёт о лошади нарисованной.
Ничего удивительного, что субъекты регулярно прибегают к формам, которые можно назвать типичными, потому что они всегда возникают в определённых контекстах, в определённых связках или ассоциациях, которые могут ускользать от тех, кто становятся их носителем. Субъект выбирает из них одну, чтобы решить конкретную задачу, которая обеспечивает временную стабилизацию некоторых состояний, в данном случае - состояния тревоги. Для того, чтобы решить задачу по трансформации этой тревоги в локализированный страх, субъект выбирает форму, которая становится точкой фиксации, шарниром, стержнем, на которой крепится всё неустойчивое, всё, что находится под угрозой быть сметённым внутренней волной, возникшей на выходе из кризиса отношений с матерью. В случае маленького Ганса такую роль играет лошадь.
Конечно, это весьма запутывает процесс развития ребёнка, и для его окружения это является паразитическим и патологическим элементом. Но аналитическая установка показывает нам, что наряду с этим оно играет роль зацепки, важнейшую роль держателя. Этот элемент становится пунктом, вокруг которого субъект может продолжать переживать то, что в противном случае давало бы о себе знать невыносимой тревогой.
Весь аналитический прогресс этого случая состоит в извлечении, в выявлении возможностей компенсации кризиса, которые предоставляет ребёнку использование этого важнейшего означающего. Дело в том, чтобы позволить этому означающему сыграть роль, которую отводит ему ребёнок в конструкции своего невроза, чтобы установить отношения с символическим, принимая его в качестве опоры и ориентира в порядке символического.
Вот чему способствует фобия. Она позволяет ребёнку обращаться с этим означающим и привлекать более широкие возможности для развития, чем те, которые оно в себе несёт. На самом деле само по себе означающее изначально не содержит все те значения, которые мы ему приписываем, оно содержит их скорее в силу занимаемого им места, того места, где должен быть символический отец. В том положении, где означающее метафорически соотносится с отцом, оно позволяет осуществиться любым переносам и любым необходимым преобразованиям в отношениях всего сложного и проблематичного, что записано в знаменателе под чертой, - а именно матери, фаллической функции и ребёнка - отношениях, которые в связи с реальной матерью необходимо выстраиваются каждый раз в отчетливый треугольник. Для этого и возникает нужда в неподвластной ребенку инстанции, в чём-то пугающем или даже кусающем.
Поэтому с другой стороны мы записываем то, что является наибольшей угрозой для ребёнка, а именно его реальный пенис.
______2_______
(М + <Р + а) м ~ т + П
3
Что показывает нам наблюдение маленького Ганса? То, что в подобной структуре нет смысла подвергать нападкам её правдоподобность или неправдоподобность.
Дело не в том, чтобы говорить ребёнку, что это глупость, Dummheit, и не в том, чтобы делать весьма обоснованные замечания о взаимосвязи его прикосновений к делателю-пипи и тем, что он внушает больший страх, чем глупость, как будто таким образом мы серьёзно мобилизуем ситуацию, как раз наоборот.
Если вы прочитаете наблюдение в свете предоставленной мной схемы, вы увидите, что эти вмешательства, которые хотя и не прошли без некоторых последствий, никогда не приобретают прямого побудительного значения, не имеют желательной для нас действенности. Напротив, весь интерес наблюдения состоит в том, что оно ясно показывает, что в таких случаях ребёнок реагирует, усиливая сущностные элементы своей собственной символической формулировки проблемы. Он заново разыгрывает со своей матерью драму появления-исчезновения фаллоса У неё есть? У неё нет?, ясно показывая, что это символ, что он принял его как таковой, и это вовсе не дезорганизует его. Поэтому эта схема имеет такое важное значение.
Вот о чём для нас идёт речь в анализе; возможно, это в действительности и есть эволюция этой схемы, позволяющей ребёнку развивать обширную систему значений, а не просто придерживаться временного решения быть маленьким фобиком, который боится лошадей. Но это уравнение может быть решено только по своим собственным правилам, которые являются правилами определённого дискурса, одной конкретной и
этого важнейшего означающего. Дело в том, чтобы позволить этому означающему сыграть роль, которую отводит ему ребёнок в конструкции своего невроза, чтобы установить отношения с символическим, принимая его в качестве опоры и ориентира в порядке символического.
Вот чему способствует фобия. Она позволяет ребёнку обращаться с этим означающим и привлекать более широкие возможности для развития, чем те, которые оно в себе несёт. На самом деле само по себе означающее изначально не содержит все те значения, которые мы ему приписываем, оно содержит их скорее в силу занимаемого им места, того места, где должен быть символический отец. В том положении, где означающее метафорически соотносится с отцом, оно позволяет осуществиться любым переносам и любым необходимым преобразованиям в отношениях всего сложного и проблематичного, что записано в знаменателе под чертой, - а именно матери, фаллической функции и ребёнка - отношениях, которые в связи с реальной матерью необходимо выстраиваются каждый раз в отчетливый треугольник. Для этого и возникает нужда в неподвластной ребенку инстанции, в чём-то пугающем или даже кусающем.
Поэтому с другой стороны мы записываем то, что является наибольшей угрозой для ребёнка, а именно его реальный пенис.
______2_______
(М + <Р + а) м ~ т + П
3
Что показывает нам наблюдение маленького Ганса? То, что в подобной структуре нет смысла подвергать нападкам её правдоподобность или неправдоподобность.
Дело не в том, чтобы говорить ребёнку, что это глупость, Dummheit, и не в том, чтобы делать весьма обоснованные замечания о взаимосвязи его прикосновений к делателю-пипи и тем, что он внушает больший страх, чем глупость, как будто таким образом мы серьёзно мобилизуем ситуацию, как раз наоборот.
Если вы прочитаете наблюдение в свете предоставленной мной схемы, вы увидите, что эти вмешательства, которые хотя и не прошли без некоторых последствий, никогда не приобретают прямого побудительного значения, не имеют желательной для нас действенности. Напротив, весь интерес наблюдения состоит в том, что оно ясно показывает, что в таких случаях ребёнок реагирует, усиливая сущностные элементы своей собственной символической формулировки проблемы. Он заново разыгрывает со своей матерью драму появления-исчезновения фаллоса У неё есть? У неё нет?, ясно показывая, что это символ, что он принял его как таковой, и это вовсе не дезорганизует его. Поэтому эта схема имеет такое важное значение.
Вот о чём для нас идёт речь в анализе; возможно, это в действительности и есть эволюция этой схемы, позволяющей ребёнку развивать обширную систему значений, а не просто придерживаться временного решения быть маленьким фобиком, который боится лошадей. Но это уравнение может быть решено только по своим собственным правилам, которые являются правилами определённого дискурса, одной конкретной и никакой другой диалектики. Нельзя к нему подходить, не принимая в расчёт того, что это уравнение направлено на поддержку символического порядка.
Теперь мы можем представить общую схему того, что представляет собой этот порядок в развитии.
Неспроста вмешивается отец - как большой символический Отец, Фрейд, так и маленький отец, любимый отец, который имеет лишь один, хотя и большой недостаток, состоящий в неспособности его выполнять функцию отца и хотя бы на время функцию отца или бога, который был бы ревнив, eifern, в чём его и обвиняет маленький Ганс.
Отец говорит с ним очень ласково и проникновенно (dévouement), потому что не способен быть чем-то большим, чем был до сих пор, потому что он остаётся отцом, не выполняющим в реальном свою роль до конца, то есть как реальный отец он неполно исполняет свою функцию. Что касается ребёнка, то он делает со своей матерью буквально всё, что ему в голову взбредёт, например, отправляется в её кровать без оглядки на отца. Это не означает, что он не любит своего отца, но показывает, что отец не исполняет для него функцию, которая обеспечивала бы прямой и соответствующий схеме выход из сложившейся ситуации. Таким образом, мы имеем дело со следующим затруднением: отец, следуя инструкции Фрейда, прямо начинает с термина П, и это доказывает, что тот ещё не составил себе о ситуации окончательного представления.
Мы бы могли погрузиться по этому поводу в детальные описания, которые позволили бы нам предельно строгим образом сформулировать, о чём идёт речь, прибегнув к серии алгебраических формулировок, трансформирующихся одни в другие. Я с этим немного повременю из опасения, что ваши умы могут быть ещё не вполне готовы для того, что, я думаю, ждёт нас в будущем в клиническом и терапевтическом порядках анализа случаев. Любой случай, по крайней мере на своих основных этапах, должен, по идее, быть сформулирован в серии преобразований.
В прошлый раз я приводил вам пример, написав на доске исходную формулу:
никакой другой диалектики. Нельзя к нему подходить, не принимая в расчёт того, что это уравнение направлено на поддержку символического порядка.
Теперь мы можем представить общую схему того, что представляет собой этот порядок в развитии.
Неспроста вмешивается отец - как большой символический Отец, Фрейд, так и маленький отец, любимый отец, который имеет лишь один, хотя и большой недостаток, состоящий в неспособности его выполнять функцию отца и хотя бы на время функцию отца или бога, который был бы ревнив, eifern, в чём его и обвиняет маленький Ганс.
Отец говорит с ним очень ласково и проникновенно (dévouement), потому что не способен быть чем-то большим, чем был до сих пор, потому что он остаётся отцом, не выполняющим в реальном свою роль до конца, то есть как реальный отец он неполно исполняет свою функцию. Что касается ребёнка, то он делает со своей матерью буквально всё, что ему в голову взбредёт, например, отправляется в её кровать без оглядки на отца. Это не означает, что он не любит своего отца, но показывает, что отец не исполняет для него функцию, которая обеспечивала бы прямой и соответствующий схеме выход из сложившейся ситуации. Таким образом, мы имеем дело со следующим затруднением: отец, следуя инструкции Фрейда, прямо начинает с термина П, и это доказывает, что тот ещё не составил себе о ситуации окончательного представления.
Мы бы могли погрузиться по этому поводу в детальные описания, которые позволили бы нам предельно строгим образом сформулировать, о чём идёт речь, прибегнув к серии алгебраических формулировок, трансформирующихся одни в другие. Я с этим немного повременю из опасения, что ваши умы могут быть ещё не вполне готовы для того, что, я думаю, ждёт нас в будущем в клиническом и терапевтическом порядках анализа случаев. Любой случай, по крайней мере на своих основных этапах, должен, по идее, быть сформулирован в серии преобразований.
В прошлый раз я приводил вам пример, написав на доске исходную формулу: И далее конечную формулу:
/ ‘I \
\М + (р + а/ М~ т + П
И ещё одну:
р(М)(М')~(|)п
Всё это взято в большой Л логификации.
И далее конечную формулу:
/ ‘I \
\М + (р + а/ М~ т + П
И ещё одну:
р(М)(М')~(|)п
Всё это взято в большой Л логификации. Как только мы об этом договорились и эта Л заняла место между большим Р и малым р, мы могли бы задуматься о том, в какой решающий момент происходит трансформация. Когда малое р оказывается здесь, в m+П, а большое Р - на уровне большого ‘I? До настоящего момента я не касался этих последовательных трансформаций, но ничто нам не мешает сделать это, проследив за происходящим в наблюдении и за тем, каким образом развивается ситуация.
Как только мы об этом договорились и эта Л заняла место между большим Р и малым р, мы могли бы задуматься о том, в какой решающий момент происходит трансформация. Когда малое р оказывается здесь, в m+П, а большое Р - на уровне большого ‘I? До настоящего момента я не касался этих последовательных трансформаций, но ничто нам не мешает сделать это, проследив за происходящим в наблюдении и за тем, каким образом развивается ситуация. Сразу же после вмешательства Фрейда, 5 апреля появляется фантазм, который играет главенствующую роль и который даст впоследствии место всему, что будет проходить под знаком Verkehr, то есть транспорта, с учётом двусмысленности значения слова. Можно сказать, что определённым способом в этом фантазме весьма чётко воплощается первый термин нашего уравнения.
И действительно, тогда Ганс развивает фантазм о телеге, на которую он забрался, чтобы поиграть, и которая, влекомая лошадью, неожиданно трогается. Этот фантазм подтверждает трансформацию его страхов и представляет собой первую попытку диалектизации фобии, которую можно записать так:
Сразу же после вмешательства Фрейда, 5 апреля появляется фантазм, который играет главенствующую роль и который даст впоследствии место всему, что будет проходить под знаком Verkehr, то есть транспорта, с учётом двусмысленности значения слова. Можно сказать, что определённым способом в этом фантазме весьма чётко воплощается первый термин нашего уравнения.
И действительно, тогда Ганс развивает фантазм о телеге, на которую он забрался, чтобы поиграть, и которая, влекомая лошадью, неожиданно трогается. Этот фантазм подтверждает трансформацию его страхов и представляет собой первую попытку диалектизации фобии, которую можно записать так: М + ср + ос
Лошадь является здесь элементом, приводящим в движение, тогда как маленький Ганс располагается в самой телеге, нагруженной тюками, которые, как наблюдение в дальнейшем продемонстрирует, представляют собой возможных воображаемых детей матери. Для него не было ничего более страшного, чем снова увидеть мать нагруженной, beladen, то есть беременной, несущей детей в своём животе, как все эти наполненные грузами экипажи, которые так его пугают. Далее, как покажет нам наблюдение, экипаж и иногда ванна репрезентируют мать. Таким образом, фантазия означает: «Мы положим туда кучу этих маленьких детей, я сам их положу, и мы их перевезём».
Можно сказать, что речь идёт о первой образной реализации. Образ, который я вам здесь представил, размыт, насколько это вообще возможно в любого рода естественности психологической реальности, и, напротив, чрезвычайно отчётлив с точки зрения структуры означающей организации. Маленький Ганс извлекает здесь первую выгоду из диалектизации функции лошади, этого сущностного элемента своей фобии.
Мы уже видели маленького Ганса весьма приверженным применению символической функции, например, в одном из его фантазмов о жирафе. Здесь во всём том, что следует после вмешательства Фрейда, мы видим, как он пробует все возможные варианты этой группировки. Сначала маленький Ганс оказывается на телеге в окружении этих пёстрых элементов и так боится, что мать может увезти его от всех бог весть куда, ведь она для него отныне представляет собой лишь бесконтрольную, непредсказуемую силу, с которой он больше не играет, или, употребив более выразительный жаргон, с которой закончилась вся любовь, то есть нет больше правил игры, потому что вмешиваются другие - потому что маленький Ганс сам усложняет эту игру, привлекая не только символический фаллос, играя в его присутствие-отсутствие с матерью, и маленьких девочек, но и маленький реальный пенис, за который его бьют по рукам.
Это показывает нам, что если ребёнок и не поверил абсолютно ничему из того, что сказал ему месье, который общался с ним, как милостивый Бог, но лишь нашёл, что тот
М + ср + ос
Лошадь является здесь элементом, приводящим в движение, тогда как маленький Ганс располагается в самой телеге, нагруженной тюками, которые, как наблюдение в дальнейшем продемонстрирует, представляют собой возможных воображаемых детей матери. Для него не было ничего более страшного, чем снова увидеть мать нагруженной, beladen, то есть беременной, несущей детей в своём животе, как все эти наполненные грузами экипажи, которые так его пугают. Далее, как покажет нам наблюдение, экипаж и иногда ванна репрезентируют мать. Таким образом, фантазия означает: «Мы положим туда кучу этих маленьких детей, я сам их положу, и мы их перевезём».
Можно сказать, что речь идёт о первой образной реализации. Образ, который я вам здесь представил, размыт, насколько это вообще возможно в любого рода естественности психологической реальности, и, напротив, чрезвычайно отчётлив с точки зрения структуры означающей организации. Маленький Ганс извлекает здесь первую выгоду из диалектизации функции лошади, этого сущностного элемента своей фобии.
Мы уже видели маленького Ганса весьма приверженным применению символической функции, например, в одном из его фантазмов о жирафе. Здесь во всём том, что следует после вмешательства Фрейда, мы видим, как он пробует все возможные варианты этой группировки. Сначала маленький Ганс оказывается на телеге в окружении этих пёстрых элементов и так боится, что мать может увезти его от всех бог весть куда, ведь она для него отныне представляет собой лишь бесконтрольную, непредсказуемую силу, с которой он больше не играет, или, употребив более выразительный жаргон, с которой закончилась вся любовь, то есть нет больше правил игры, потому что вмешиваются другие - потому что маленький Ганс сам усложняет эту игру, привлекая не только символический фаллос, играя в его присутствие-отсутствие с матерью, и маленьких девочек, но и маленький реальный пенис, за который его бьют по рукам.
Это показывает нам, что если ребёнок и не поверил абсолютно ничему из того, что сказал ему месье, который общался с ним, как милостивый Бог, но лишь нашёл, что тот говорил хорошо, то этого оказалось вполне достаточно, чтобы он сам заговорил, то есть начал рассказывать сказки.
Первым делом он подчеркнёт разницу, которая хорошо показывает отличие реальной схемы от схемы символической. Он скажет своему отцу: «Почему ты сказал мне, что я люблю маму, хотя я люблю тебя?» Так он решает часть задач.
Что это в итоге даёт? Маленький Ганс запускает движение своей фобии, получая от лошади всё, что та может дать, используя все возможности воображения. Лошадь может быть запряжённой и распряжённой, кусающей и падающей и так далее. Вот откуда появляются все эти парадоксы.
Не забывайте, что даже в период между 3 и 10 марта, когда Ганс больше всего боится лошади и она в целом означает любую возможную опасность, он непринуждённо играет с лошадью в компании новой няни, когда ему выпадает случай предаваться с ней всевозможным безобразиям - самым бесцеремонным образом угрожать ей, что разденется и она увидит его Wiwimacher. Всё это вполне вписывается в роль, которую играют няни у Фрейда. Вы видите, что в этот момент лошадь совсем не страшит его.
Полностью поддерживая функцию лошади, Ганс, таким образом, использует любую возможность, которую она предлагает ему для понимания и прояснения проблемы. В общем, он уловил суть ситуации - с того момента, как множество подчиняется логике, можно приступить к игре, то есть осуществить ряд замен и перестановок таким образом сгруппированных означающих. Это отправной пункт трансформации. В ином случае непонятно, зачем мы вообще тратим время, вникая в то, что ребёнок рассказывает.
То же самое обнаруживаем мы и в отношении трансформации, которая оказалась решающей, превращения укуса в отвинчивание ванны. При этом меняются взаимосвязи между всеми персонажами. Одно дело - жадно укусить мать, воспринимаемую в естественном её значении, опасаясь ответа в виде пресловутого укуса лошади, а другое дело - отвинтить, развинтить и развенчать её (déboulonner), втянуть её в это дело, заставить и её включиться в состав системы, впервые превратив её в мобильный и тем самым эквивалентный другим элемент. Так система предстаёт большой игрой в шары, где ребёнок старается восстановить устойчивое положение и даже ввести новые элементы, которые позволят ему заново структурировать (recristalliser) ситуацию.
Что как раз и происходит в фантазме о ванне. Это можно точнее записать, используя перестановку, что будет выглядеть примерно так:
/ ‘I \
I гт—----- ) П ~ М (т)
\М + <р + а/ \ '
Символ П представляет сексуальную функцию маленького Ганса, маленькая m -мать, поскольку он ввёл её в диалектику съёмных элементов, что сделало её таким же объектом, как и другие, и в таком качестве позволило манипулировать ей. Таким образом, мы можем сказать, что весь прогресс в анализе фобии сводится к своего рода ослаблению матери по отношению к ребёнку, он постепенно получает над ней контроль.
Очередной этап, который я подытожу в следующий раз, целиком разворачивается в воображаемом плане. С одной стороны, относительно того, что произошло к
говорил хорошо, то этого оказалось вполне достаточно, чтобы он сам заговорил, то есть начал рассказывать сказки.
Первым делом он подчеркнёт разницу, которая хорошо показывает отличие реальной схемы от схемы символической. Он скажет своему отцу: «Почему ты сказал мне, что я люблю маму, хотя я люблю тебя?» Так он решает часть задач.
Что это в итоге даёт? Маленький Ганс запускает движение своей фобии, получая от лошади всё, что та может дать, используя все возможности воображения. Лошадь может быть запряжённой и распряжённой, кусающей и падающей и так далее. Вот откуда появляются все эти парадоксы.
Не забывайте, что даже в период между 3 и 10 марта, когда Ганс больше всего боится лошади и она в целом означает любую возможную опасность, он непринуждённо играет с лошадью в компании новой няни, когда ему выпадает случай предаваться с ней всевозможным безобразиям - самым бесцеремонным образом угрожать ей, что разденется и она увидит его Wiwimacher. Всё это вполне вписывается в роль, которую играют няни у Фрейда. Вы видите, что в этот момент лошадь совсем не страшит его.
Полностью поддерживая функцию лошади, Ганс, таким образом, использует любую возможность, которую она предлагает ему для понимания и прояснения проблемы. В общем, он уловил суть ситуации - с того момента, как множество подчиняется логике, можно приступить к игре, то есть осуществить ряд замен и перестановок таким образом сгруппированных означающих. Это отправной пункт трансформации. В ином случае непонятно, зачем мы вообще тратим время, вникая в то, что ребёнок рассказывает.
То же самое обнаруживаем мы и в отношении трансформации, которая оказалась решающей, превращения укуса в отвинчивание ванны. При этом меняются взаимосвязи между всеми персонажами. Одно дело - жадно укусить мать, воспринимаемую в естественном её значении, опасаясь ответа в виде пресловутого укуса лошади, а другое дело - отвинтить, развинтить и развенчать её (déboulonner), втянуть её в это дело, заставить и её включиться в состав системы, впервые превратив её в мобильный и тем самым эквивалентный другим элемент. Так система предстаёт большой игрой в шары, где ребёнок старается восстановить устойчивое положение и даже ввести новые элементы, которые позволят ему заново структурировать (recristalliser) ситуацию.
Что как раз и происходит в фантазме о ванне. Это можно точнее записать, используя перестановку, что будет выглядеть примерно так:
/ ‘I \
I гт—----- ) П ~ М (т)
\М + <р + а/ \ '
Символ П представляет сексуальную функцию маленького Ганса, маленькая m -мать, поскольку он ввёл её в диалектику съёмных элементов, что сделало её таким же объектом, как и другие, и в таком качестве позволило манипулировать ей. Таким образом, мы можем сказать, что весь прогресс в анализе фобии сводится к своего рода ослаблению матери по отношению к ребёнку, он постепенно получает над ней контроль.
Очередной этап, который я подытожу в следующий раз, целиком разворачивается в воображаемом плане. С одной стороны, относительно того, что произошло к настоящему моменту, он регрессивен, но с другой стороны, он отчётливо указывает на прогресс.
Маленький Ганс вводит в игру свою сестру - как элемент слишком болезненный, чтобы справиться с ним в реальном, она появляется в измерении воображаемого. Он разворачивает вокруг неё удивительную конструкцию, великолепный фантазм, который состоит в предположении, что она всегда, едва ли не от века, пребывала в большом ящике.
Это предполагает наличие у него весьма продвинутой означающей организации. В каком качестве сестра ещё до того, как родилась, уже могла присутствовать в этом мире? В качестве чего-то воображаемого, это слишком очевидно. По этому поводу у нас есть разъяснение Фрейда. Нечто представлено здесь в воображаемой, бесконечно повторяющейся, постоянной, незыблемой форме, в форме постоянного припоминания (réminiscence). Маленькая Анна всегда там была, в большом ящике в багажнике повозки, или, в зависимости от обстоятельств, путешествовала отдельно; Маленький Ганс тем больше настаивает, что она находится там, чем знает в реальности, что её там нет. Именно в первый год, когда она ещё не родилась, он настаивал, что она уже появилась и занималась всем тем, чем логически, диалектически занимался он сам в своих речах и своих играх в первой части лечения.
В другой раз он рассказывает нам, что она рядом с ямщиком скачет без стремян и держит вожжи: «Нет, - говорит он, - она не держит вожжи». При этом есть какая-то сложность в различении действительности и вымысла, двусмысленность, на которую Фрейд указывает между Wirklichkeit и Phantasie. Но именно при посредничестве этого воображаемого ребёнка, который был всегда и всегда будет, маленький Ганс продолжает свою фантазию и намечает отношения, также воображаемые, с помощью которых он стабилизирует связь с материнским объектом. Этот объект вечного возвращения прокладывает путь к той женщине, к которой этот совсем маленький мужчина должен получить доступ.
Маленький Ганс буквально пользуется своей сестрой в качестве своего рода Я-Идеала (idéal du moi). Она становится госпожой означающего, госпожой лошади, она берёт верх, и именно при её посредничестве маленькому Гансу удаётся самому отстегать (cravacher) эту лошадь, справиться с ней, оседлать её, стать её хозяином. Так он отныне обнаруживает себя в качестве господина по отношению к тому, что впишется в дальнейшем в ряд творений его ума - господином того воображаемого другого, которым станут для него женщины его фантазмов, которых я назвал бы «девушками его грёз». Он всегда будет иметь дело именно с этим нарциссическим фантазмом, в котором воплощается властный образ. Полностью решая его вопрос обладания фаллосом, этот образ сохранит нарциссический и воображаемый по сути своей статус властной позиции, которую субъект занимает в критический момент.
Вот что внесёт глубокую двусмысленность во всё, что произойдёт далее в плане исхода или нормализации ситуации. Этапы достаточно чётко обозначены в наблюдении. После игрового развития своих фантазмов и сведения (réduction) к воображаемому элементов, однажды зафиксированных в качестве означающих, устанавливается фундаментальное отношение, позволяющее ему принять свой пол. Он принимает его таким образом, который, насколько бы нормальным он ни был, оставляет возможность предположить в нём некоторый изъян.
настоящему моменту, он регрессивен, но с другой стороны, он отчётливо указывает на прогресс.
Маленький Ганс вводит в игру свою сестру - как элемент слишком болезненный, чтобы справиться с ним в реальном, она появляется в измерении воображаемого. Он разворачивает вокруг неё удивительную конструкцию, великолепный фантазм, который состоит в предположении, что она всегда, едва ли не от века, пребывала в большом ящике.
Это предполагает наличие у него весьма продвинутой означающей организации. В каком качестве сестра ещё до того, как родилась, уже могла присутствовать в этом мире? В качестве чего-то воображаемого, это слишком очевидно. По этому поводу у нас есть разъяснение Фрейда. Нечто представлено здесь в воображаемой, бесконечно повторяющейся, постоянной, незыблемой форме, в форме постоянного припоминания (réminiscence). Маленькая Анна всегда там была, в большом ящике в багажнике повозки, или, в зависимости от обстоятельств, путешествовала отдельно; Маленький Ганс тем больше настаивает, что она находится там, чем знает в реальности, что её там нет. Именно в первый год, когда она ещё не родилась, он настаивал, что она уже появилась и занималась всем тем, чем логически, диалектически занимался он сам в своих речах и своих играх в первой части лечения.
В другой раз он рассказывает нам, что она рядом с ямщиком скачет без стремян и держит вожжи: «Нет, - говорит он, - она не держит вожжи». При этом есть какая-то сложность в различении действительности и вымысла, двусмысленность, на которую Фрейд указывает между Wirklichkeit и Phantasie. Но именно при посредничестве этого воображаемого ребёнка, который был всегда и всегда будет, маленький Ганс продолжает свою фантазию и намечает отношения, также воображаемые, с помощью которых он стабилизирует связь с материнским объектом. Этот объект вечного возвращения прокладывает путь к той женщине, к которой этот совсем маленький мужчина должен получить доступ.
Маленький Ганс буквально пользуется своей сестрой в качестве своего рода Я-Идеала (idéal du moi). Она становится госпожой означающего, госпожой лошади, она берёт верх, и именно при её посредничестве маленькому Гансу удаётся самому отстегать (cravacher) эту лошадь, справиться с ней, оседлать её, стать её хозяином. Так он отныне обнаруживает себя в качестве господина по отношению к тому, что впишется в дальнейшем в ряд творений его ума - господином того воображаемого другого, которым станут для него женщины его фантазмов, которых я назвал бы «девушками его грёз». Он всегда будет иметь дело именно с этим нарциссическим фантазмом, в котором воплощается властный образ. Полностью решая его вопрос обладания фаллосом, этот образ сохранит нарциссический и воображаемый по сути своей статус властной позиции, которую субъект занимает в критический момент.
Вот что внесёт глубокую двусмысленность во всё, что произойдёт далее в плане исхода или нормализации ситуации. Этапы достаточно чётко обозначены в наблюдении. После игрового развития своих фантазмов и сведения (réduction) к воображаемому элементов, однажды зафиксированных в качестве означающих, устанавливается фундаментальное отношение, позволяющее ему принять свой пол. Он принимает его таким образом, который, насколько бы нормальным он ни был, оставляет возможность предположить в нём некоторый изъян. Я смогу расставить все акценты только в следующий раз, но уже сегодня укажу вам на изъян того пункта, которого достиг ребёнок, чтобы удержать своё место.
В этом отношении нет ничего более значимого, чем то, что нашло выражение в завершающем фантазме отвинчивания, где ребёнку меняют его зад на больший. Зачем? Чтобы заполнить место, которое он приспособил для обращения, ту ванну, где может быть диалектически развита и удалена при удобном случае тема падения. Здесь становится заметным нетипичный, ненормальный, почти что вывернутый наизнанку характер ситуации.
Нормальная формула комплекса кастрации предусматривает, что мальчик, если ограничиться только им, обладает своим пенисом только при условии, что он, будучи утрачен, возвращается ему заново. В случае маленького Ганса комплекс кастрации непрестанно призывается ребёнком, он сам предлагает формулу, сам ищет для него образы. Он почти требует от своего отца подвергнуть его испытанию или, наоборот, подстрекает и организовывает ему испытание на соответствие образу отца, он ранит его, он желает ему пораниться. Не поразительно ли то, что после всех тщетных усилий по осуществлению этой фундаментальной метаморфозы субъекта в конечном итоге происходит то, что затрагивает не его половой орган, а его зад, то есть его отношения с матерью?
Теперь маленький Ганс сможет как-то обустроиться, но этот результат обязан своим появлением тому, что не представлено в рассмотренной перспективе. Речь идёт о диалектике отношения субъекта к его собственному органу. И здесь, поскольку сам орган не изменяется, субъект сам к концу наблюдения берёт на себя роль своего рода мифического отца таким, каким он его себе смог представить. И отец этот, Бог свидетель, совсем не такой, как другие, поскольку этот отец из фантазмов Ганса способен рожать. Как говорит муж в «Грудях Тиресия»:
Revenez dès ce soir voir comment la nature
Me donnera sans femme une progéniture. [I, 8]
Сегодня вечером взгляните как природа
Без женщины даст мне потомство в родах
Вот почему нельзя сказать, что взаимоотношения полов и остающийся после интеграции этих отношений провал усвоены субъектом вполне.
Как можно судить о результате аналитического прогресса, если не по парадоксальной инверсии определённых терминов, записываемой символически с помощью знаков плюса и минуса? В данном случае можно сказать, что маленький Ганс не прошёл через комплекс кастрации, но последовал другому пути. И этот другой путь, как показывает миф об установщике, заменившем ему зад, привёл его к трансформации в другого маленького Ганса.
Вот полный смысл финальной черты, которую приводит Фрейд в эпилоге случая. Встретив его позже, Ганс, уже взрослый, скажет ему при встрече: «Я больше ничего из этого не помню». Здесь мы видим знак и свидетельство о моменте принципиального отчуждения.
Я смогу расставить все акценты только в следующий раз, но уже сегодня укажу вам на изъян того пункта, которого достиг ребёнок, чтобы удержать своё место.
В этом отношении нет ничего более значимого, чем то, что нашло выражение в завершающем фантазме отвинчивания, где ребёнку меняют его зад на больший. Зачем? Чтобы заполнить место, которое он приспособил для обращения, ту ванну, где может быть диалектически развита и удалена при удобном случае тема падения. Здесь становится заметным нетипичный, ненормальный, почти что вывернутый наизнанку характер ситуации.
Нормальная формула комплекса кастрации предусматривает, что мальчик, если ограничиться только им, обладает своим пенисом только при условии, что он, будучи утрачен, возвращается ему заново. В случае маленького Ганса комплекс кастрации непрестанно призывается ребёнком, он сам предлагает формулу, сам ищет для него образы. Он почти требует от своего отца подвергнуть его испытанию или, наоборот, подстрекает и организовывает ему испытание на соответствие образу отца, он ранит его, он желает ему пораниться. Не поразительно ли то, что после всех тщетных усилий по осуществлению этой фундаментальной метаморфозы субъекта в конечном итоге происходит то, что затрагивает не его половой орган, а его зад, то есть его отношения с матерью?
Теперь маленький Ганс сможет как-то обустроиться, но этот результат обязан своим появлением тому, что не представлено в рассмотренной перспективе. Речь идёт о диалектике отношения субъекта к его собственному органу. И здесь, поскольку сам орган не изменяется, субъект сам к концу наблюдения берёт на себя роль своего рода мифического отца таким, каким он его себе смог представить. И отец этот, Бог свидетель, совсем не такой, как другие, поскольку этот отец из фантазмов Ганса способен рожать. Как говорит муж в «Грудях Тиресия»:
Revenez dès ce soir voir comment la nature
Me donnera sans femme une progéniture. [I, 8]
Сегодня вечером взгляните как природа
Без женщины даст мне потомство в родах
Вот почему нельзя сказать, что взаимоотношения полов и остающийся после интеграции этих отношений провал усвоены субъектом вполне.
Как можно судить о результате аналитического прогресса, если не по парадоксальной инверсии определённых терминов, записываемой символически с помощью знаков плюса и минуса? В данном случае можно сказать, что маленький Ганс не прошёл через комплекс кастрации, но последовал другому пути. И этот другой путь, как показывает миф об установщике, заменившем ему зад, привёл его к трансформации в другого маленького Ганса.
Вот полный смысл финальной черты, которую приводит Фрейд в эпилоге случая. Встретив его позже, Ганс, уже взрослый, скажет ему при встрече: «Я больше ничего из этого не помню». Здесь мы видим знак и свидетельство о моменте принципиального отчуждения. Вы знаете историю о том субъекте, который уехал на остров, чтобы кое-что забыть. Люди, которые его обнаружили, подошли к нему и спросили о том, что он хотел забыть, и он не смог ответить. Как повествует финал истории - он забыл.
В случае маленького Ганса кое-что побуждает нас всё-таки скорректировать акцент, я бы сказал даже, изменить формулу этой истории. Если есть как в анализе маленького Ганса, так и в эдипальном разрешении, которое оставила после себя фобия, некоторый стигмат незавершённости, то состоит он в следующем. Все эти благотворные манёвры означающего, которые постепенно свели на нет фобию, которые сделали недейственным означающее лошади, если они подействовали, то не потому, что маленький Ганс «забыл», а потому, что он «забылся».
26 июня 1957
Вы знаете историю о том субъекте, который уехал на остров, чтобы кое-что забыть. Люди, которые его обнаружили, подошли к нему и спросили о том, что он хотел забыть, и он не смог ответить. Как повествует финал истории - он забыл.
В случае маленького Ганса кое-что побуждает нас всё-таки скорректировать акцент, я бы сказал даже, изменить формулу этой истории. Если есть как в анализе маленького Ганса, так и в эдипальном разрешении, которое оставила после себя фобия, некоторый стигмат незавершённости, то состоит он в следующем. Все эти благотворные манёвры означающего, которые постепенно свели на нет фобию, которые сделали недейственным означающее лошади, если они подействовали, то не потому, что маленький Ганс «забыл», а потому, что он «забылся».
26 июня 1957







 настолько чужд всем смежным концепциям, настолько шокирующ и в то же время настолько признан, что должен принадлежать к самой сути вопроса и должен быть включён в то решение, которое мы ищем для проблемы найденного Фрейдом измерения, то есть бессознательного.
1
Так что в случае Ганса я оставил в стороне всю эту игру, которую сейчас вы уже можете проследить.
Вы знаете достаточно элементов, чтобы, перечитывая текст, увидеть мифическую игру, в которой происходит всё то, что я назвал сведением (réduction) к воображаемому последовательности материнского желания, записанной мной в формуле как M ф а, где учтены отношения матери с воображаемым другим, являющимся её собственным фаллосом, и в дальнейшем с новыми привходящими элементами, то есть другими детьми, в данном случае с младшей сестрой Анной.
Инфантильная мифологизация в воображаемой игре, инициированная, скажем так, терапевтическим вмешательством, демонстрирует нам феномен, оригинальность которого должна быть принята в качестве сущностного элемента аналитической проработки, Verarbeitung. Это динамический и структурообразующий элемент символического прогресса, в котором и состоит аналитическое лечение как таковое.
Хотя дальше я в анализе продвигаться не стал, мне всё же хотелось бы указать вам на ряд не рассмотренных мной элементов. На самом деле я мимоходом говорил о них, но не объяснил вам их точную функцию по отношению к мифотворческой деятельности, которой предаётся ребёнок под стимулом аналитического вмешательства.
Один такой элемент соответствует большому мифическому изобретению в сюжете рождения и постоянного присутствия маленькой Анны, которое так замечательно развивается Гансом в его мифотворческой спекуляции. Это исполненный в по-настоящему лучших традициях чёрного юмора таинственный персонаж аиста - этот аист приходит в маленькой шапочке, стучит в дверь и, когда ему никто не отвечает, вставляет ключ в замок. Он представляет совершенно неординарные аспекты, если только мы расслышим то, что сказал маленький Ганс. «Он укладывает Анну в твою кровать», -говорит он. Иначе говоря, на твоё место. Затем он поправляется: «В её кровать». Потом аист без ведома других удаляется, хотя и наводит при этом шороху, встряхнув весь дом перед уходом. Короче говоря, этот персонаж, который приходит и уходит с невозмутимым, даже зловещим видом, безусловно, является одним из наиболее загадочных творений маленького Ганса и заслуживает, чтобы мы задержали на нём наше внимание подольше. Стоит указать на его значение в общей экономике случая в этот момент прогресса маленького Ганса.
Маленький Ганс, подвергаясь внушению со стороны отца-психотерапевта, который сам курируется Фрейдом, сумел инициировать свою воображаемую манипуляцию различными имеющимися в его распоряжении терминами, лишь обратившись к тому, о чём прямо и непосредственно объявляется накануне большого мифического творения -к рождению Анны и заодно к появлению аиста. В одном высказывании Ганса, которое передаёт отец, мы встречаем тему смерти в связи с палочкой, которая есть у маленького Ганса - неизвестно, почему мы раньше никогда не говорили об этой палочке - он ударяет ей о мостовую и спрашивает, нет ли внизу мертвецов.
настолько чужд всем смежным концепциям, настолько шокирующ и в то же время настолько признан, что должен принадлежать к самой сути вопроса и должен быть включён в то решение, которое мы ищем для проблемы найденного Фрейдом измерения, то есть бессознательного.
1
Так что в случае Ганса я оставил в стороне всю эту игру, которую сейчас вы уже можете проследить.
Вы знаете достаточно элементов, чтобы, перечитывая текст, увидеть мифическую игру, в которой происходит всё то, что я назвал сведением (réduction) к воображаемому последовательности материнского желания, записанной мной в формуле как M ф а, где учтены отношения матери с воображаемым другим, являющимся её собственным фаллосом, и в дальнейшем с новыми привходящими элементами, то есть другими детьми, в данном случае с младшей сестрой Анной.
Инфантильная мифологизация в воображаемой игре, инициированная, скажем так, терапевтическим вмешательством, демонстрирует нам феномен, оригинальность которого должна быть принята в качестве сущностного элемента аналитической проработки, Verarbeitung. Это динамический и структурообразующий элемент символического прогресса, в котором и состоит аналитическое лечение как таковое.
Хотя дальше я в анализе продвигаться не стал, мне всё же хотелось бы указать вам на ряд не рассмотренных мной элементов. На самом деле я мимоходом говорил о них, но не объяснил вам их точную функцию по отношению к мифотворческой деятельности, которой предаётся ребёнок под стимулом аналитического вмешательства.
Один такой элемент соответствует большому мифическому изобретению в сюжете рождения и постоянного присутствия маленькой Анны, которое так замечательно развивается Гансом в его мифотворческой спекуляции. Это исполненный в по-настоящему лучших традициях чёрного юмора таинственный персонаж аиста - этот аист приходит в маленькой шапочке, стучит в дверь и, когда ему никто не отвечает, вставляет ключ в замок. Он представляет совершенно неординарные аспекты, если только мы расслышим то, что сказал маленький Ганс. «Он укладывает Анну в твою кровать», -говорит он. Иначе говоря, на твоё место. Затем он поправляется: «В её кровать». Потом аист без ведома других удаляется, хотя и наводит при этом шороху, встряхнув весь дом перед уходом. Короче говоря, этот персонаж, который приходит и уходит с невозмутимым, даже зловещим видом, безусловно, является одним из наиболее загадочных творений маленького Ганса и заслуживает, чтобы мы задержали на нём наше внимание подольше. Стоит указать на его значение в общей экономике случая в этот момент прогресса маленького Ганса.
Маленький Ганс, подвергаясь внушению со стороны отца-психотерапевта, который сам курируется Фрейдом, сумел инициировать свою воображаемую манипуляцию различными имеющимися в его распоряжении терминами, лишь обратившись к тому, о чём прямо и непосредственно объявляется накануне большого мифического творения -к рождению Анны и заодно к появлению аиста. В одном высказывании Ганса, которое передаёт отец, мы встречаем тему смерти в связи с палочкой, которая есть у маленького Ганса - неизвестно, почему мы раньше никогда не говорили об этой палочке - он ударяет ей о мостовую и спрашивает, нет ли внизу мертвецов. Присутствие темы смерти строго коррелятивно теме рождения. Это важнейшее для понимания и продвижения данного случая измерение. На самом деле эта тема жизни и смерти, бытия (existence) и ничто (néant), эта сила творения, возведённого в ранг мистерии, поднимает особые вопросы, отличные от вопросов, связанных с введением означающего лошади. Это не гомология, но нечто другое, что, возможно, мы рассмотрим в следующем году и что я оставлю пока про запас. Весьма вероятно, что тема, которую я возьму для работы в следующем году, будет следующей: образования бессознательного.
Также я ещё раз подчеркну важность того, что маленький Ганс в конце кризиса, в котором разрешается и растворяется фобия, приходит, что очень существенно, к твёрдому отказу от новых рождений, заключая с матерью, а также с аистом, своего рода договор. Теперь вы понимаете смысл отрывка о том, как связаны мать и Бог в сюжете появления ребёнка на свет, который так элегантно комментирует по ходу наблюдения Фрейд: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». И действительно, именно так сказала ему мать: «В конце концов, это зависит от меня».
Вообще-то маленький Ганс высказывает желание иметь детей и в то же время не хочет, чтобы появились другие. Он хочет воображаемых детей, это говорит о том, что вся ситуация разрешается для него посредством идентификации с материнским желанием. У него появятся дети в его грёзах, в его мыслях. Прямо говоря, у него будут дети, структурированные по типу материнского фаллоса, который в конечном итоге станет объектом его собственного желания.
Но, конечно, новых детей не будет, и очевидно, что эта идентификация с желанием матери как с воображаемым желанием образуется лишь как возвращение к маленькому Гансу, каким он когда-то был, играя с маленькими девочками в ту раннюю (primitif) игру появления-исчезновения (cache-cache), объектом которой был его половой орган. Теперь Ганс совсем не думает играть в игру появления-исчезновения, точнее, больше не собирается им ничего показывать, за исключением своей прекрасной фигуры маленького Ганса, то есть того персонажа, которым он, с некоторой точки зрения, в итоге стал, - вот к чему я клоню - чем-то вроде объекта фет и ша.
Маленький Ганс располагает себя в определённой пассивной позиции, и каким бы гетеросексуальным ни был выбор объекта, мы не можем признать, что он до конца узаконенность его позиции объясняет. Так он присоединяется к типу, который в нашу эпоху не кажется странным, типу поколения определённого стиля, известного нам как стиль 1945 года, времени этих очаровательных молодых людей, которые ждут инициативы от другой стороны, которые ждут, попросту говоря, что с них снимут штаны. Таков стиль, в котором мне видится будущее этого очаровательного и, как может показаться, совершенно гетеросексуального маленького Ганса.
Поймите меня правильно. Ничто в наблюдении не позволяет нам даже на мгновение заподозрить, что оно решается как-то иначе, нежели господством материнского фаллоса, поскольку Ганс занимает его место, он с ним идентифицируется, он им овладевает. Всё, что может соответствовать фазе или комплексу кастрации, сводится к тому, что предстаёт в наблюдении в виде камня, о который можно пораниться. Я бы сказал, что ему больше соответствует образ не зубастой вагины, но зубастого фаллоса. Этот вид застывшего предмета является воображаемым объектом, жертвой повреждения о который станет любое мужское посягательство.
Присутствие темы смерти строго коррелятивно теме рождения. Это важнейшее для понимания и продвижения данного случая измерение. На самом деле эта тема жизни и смерти, бытия (existence) и ничто (néant), эта сила творения, возведённого в ранг мистерии, поднимает особые вопросы, отличные от вопросов, связанных с введением означающего лошади. Это не гомология, но нечто другое, что, возможно, мы рассмотрим в следующем году и что я оставлю пока про запас. Весьма вероятно, что тема, которую я возьму для работы в следующем году, будет следующей: образования бессознательного.
Также я ещё раз подчеркну важность того, что маленький Ганс в конце кризиса, в котором разрешается и растворяется фобия, приходит, что очень существенно, к твёрдому отказу от новых рождений, заключая с матерью, а также с аистом, своего рода договор. Теперь вы понимаете смысл отрывка о том, как связаны мать и Бог в сюжете появления ребёнка на свет, который так элегантно комментирует по ходу наблюдения Фрейд: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». И действительно, именно так сказала ему мать: «В конце концов, это зависит от меня».
Вообще-то маленький Ганс высказывает желание иметь детей и в то же время не хочет, чтобы появились другие. Он хочет воображаемых детей, это говорит о том, что вся ситуация разрешается для него посредством идентификации с материнским желанием. У него появятся дети в его грёзах, в его мыслях. Прямо говоря, у него будут дети, структурированные по типу материнского фаллоса, который в конечном итоге станет объектом его собственного желания.
Но, конечно, новых детей не будет, и очевидно, что эта идентификация с желанием матери как с воображаемым желанием образуется лишь как возвращение к маленькому Гансу, каким он когда-то был, играя с маленькими девочками в ту раннюю (primitif) игру появления-исчезновения (cache-cache), объектом которой был его половой орган. Теперь Ганс совсем не думает играть в игру появления-исчезновения, точнее, больше не собирается им ничего показывать, за исключением своей прекрасной фигуры маленького Ганса, то есть того персонажа, которым он, с некоторой точки зрения, в итоге стал, - вот к чему я клоню - чем-то вроде объекта фет и ша.
Маленький Ганс располагает себя в определённой пассивной позиции, и каким бы гетеросексуальным ни был выбор объекта, мы не можем признать, что он до конца узаконенность его позиции объясняет. Так он присоединяется к типу, который в нашу эпоху не кажется странным, типу поколения определённого стиля, известного нам как стиль 1945 года, времени этих очаровательных молодых людей, которые ждут инициативы от другой стороны, которые ждут, попросту говоря, что с них снимут штаны. Таков стиль, в котором мне видится будущее этого очаровательного и, как может показаться, совершенно гетеросексуального маленького Ганса.
Поймите меня правильно. Ничто в наблюдении не позволяет нам даже на мгновение заподозрить, что оно решается как-то иначе, нежели господством материнского фаллоса, поскольку Ганс занимает его место, он с ним идентифицируется, он им овладевает. Всё, что может соответствовать фазе или комплексу кастрации, сводится к тому, что предстаёт в наблюдении в виде камня, о который можно пораниться. Я бы сказал, что ему больше соответствует образ не зубастой вагины, но зубастого фаллоса. Этот вид застывшего предмета является воображаемым объектом, жертвой повреждения о который станет любое мужское посягательство. Именно в этом смысле мы можем сказать, что эдипов кризис маленького Ганса в действительности не приводит к образованию типичного Сверх-Я; я имею в виду такое Сверх-Я, которое возникает в соответствии с механизмом, обозначенным как то, что мы изучили здесь как Verwerfung в формулировке «то, что отвергнуто в символическом, возвращается в реальном». Вот настоящий ключ для лучшего приближения к тому, что происходит после эдипального Verwerfung.
На самом деле как раз по той причине, что комплекс кастрации и пройден, и в то же время не может быть полностью усвоен субъектом, происходит идентификация с образом отца в грубой его форме, образом, который включает в себя его реальные особенности, где они отмечены тяжестью или даже подавлением. Так, мы видим, как ещё раз обновляется механизм повторного появления в реальном, но в реальном на границе психического, внутри пределов собственного Я, в реальном, которое навязывается субъекту в квазигаллюцинаторной форме по мере того, как субъект этот отрывается от символической интеграции процесса кастрации.
Ничего подобного в этом случае нет. Конечно, маленькому Гансу не нужно терять свой пенис, поскольку он никогда его не обретал. То, что маленький Ганс идентифицируется с материнским фаллосом, не означает, что он может принять функцию своего пениса. Нет никакой фазы символизации пениса. В некотором смысле пенис оказывается выдворенным как нечто позорное, порицаемое матерью, и это непозволяет Гансу интегрировать свою мужественность никаким другим образом, как только посредством механизма идентификации с материнским фаллосом, который принадлежит совершенно иному порядку, нежели Сверх-Я, нежели эта, без сомнения, подрывная, но в то же время уравновешивающая функция, какой является Сверх-Я. Эта функция принадлежит порядку Я-Идеала (idéal du moi).
Благодаря тому, что у маленького Ганса есть определённая идея о своём идеале, который является идеалом его матери, а именно заменой фаллоса, маленький Ганс осваивается в существовании. Скажем, что если бы у него вместо еврейской матери, не чуждой прогрессу, была бы набожная мать-католичка, то вы можете представить себе механизм, который при случае мягко подвёл бы маленького Ганса к священному сану, если не к святости.
В случаях, подобных этому, где субъект попадает в нетипичные эдиповы отношения, материнский идеал совершенно точно является тем, что влечёт за собой определённый тип ситуации и её разрешения в отношении субъекта к половому органу. Выход осуществляется посредством идентификации с материнским идеалом.
Таковы приблизительные наброски тех условий, в которые я помещаю для вас итог случая маленького Ганса. На протяжении всего наблюдения нам предоставляются подтверждающие это признаки, подчас весьма трогательные.
Так, в конце маленький Ганс, решительно обескураженный отцовской несостоятельностью (carence), сам фантазматически проводит собственную церемонию инициации. Он, полностью раздевшись, едет - словно желая, чтобы отец двинулся в путь, - в маленьком вагончике, в котором проводит в дозоре всю ночь, как юный рыцарь, после чего платит несколько монет проводнику поезда - это те же деньги, которые послужат умиротворению ужасающей мощи Storch, - и вот маленький Ганс уже едет по большому кругу железной дороги. Дело улажено. Маленький Ганс будет никем иным, как рыцарем, рыцарем, более-менее освоившимся в социуме, но всё-таки рыцарем, и у
Именно в этом смысле мы можем сказать, что эдипов кризис маленького Ганса в действительности не приводит к образованию типичного Сверх-Я; я имею в виду такое Сверх-Я, которое возникает в соответствии с механизмом, обозначенным как то, что мы изучили здесь как Verwerfung в формулировке «то, что отвергнуто в символическом, возвращается в реальном». Вот настоящий ключ для лучшего приближения к тому, что происходит после эдипального Verwerfung.
На самом деле как раз по той причине, что комплекс кастрации и пройден, и в то же время не может быть полностью усвоен субъектом, происходит идентификация с образом отца в грубой его форме, образом, который включает в себя его реальные особенности, где они отмечены тяжестью или даже подавлением. Так, мы видим, как ещё раз обновляется механизм повторного появления в реальном, но в реальном на границе психического, внутри пределов собственного Я, в реальном, которое навязывается субъекту в квазигаллюцинаторной форме по мере того, как субъект этот отрывается от символической интеграции процесса кастрации.
Ничего подобного в этом случае нет. Конечно, маленькому Гансу не нужно терять свой пенис, поскольку он никогда его не обретал. То, что маленький Ганс идентифицируется с материнским фаллосом, не означает, что он может принять функцию своего пениса. Нет никакой фазы символизации пениса. В некотором смысле пенис оказывается выдворенным как нечто позорное, порицаемое матерью, и это непозволяет Гансу интегрировать свою мужественность никаким другим образом, как только посредством механизма идентификации с материнским фаллосом, который принадлежит совершенно иному порядку, нежели Сверх-Я, нежели эта, без сомнения, подрывная, но в то же время уравновешивающая функция, какой является Сверх-Я. Эта функция принадлежит порядку Я-Идеала (idéal du moi).
Благодаря тому, что у маленького Ганса есть определённая идея о своём идеале, который является идеалом его матери, а именно заменой фаллоса, маленький Ганс осваивается в существовании. Скажем, что если бы у него вместо еврейской матери, не чуждой прогрессу, была бы набожная мать-католичка, то вы можете представить себе механизм, который при случае мягко подвёл бы маленького Ганса к священному сану, если не к святости.
В случаях, подобных этому, где субъект попадает в нетипичные эдиповы отношения, материнский идеал совершенно точно является тем, что влечёт за собой определённый тип ситуации и её разрешения в отношении субъекта к половому органу. Выход осуществляется посредством идентификации с материнским идеалом.
Таковы приблизительные наброски тех условий, в которые я помещаю для вас итог случая маленького Ганса. На протяжении всего наблюдения нам предоставляются подтверждающие это признаки, подчас весьма трогательные.
Так, в конце маленький Ганс, решительно обескураженный отцовской несостоятельностью (carence), сам фантазматически проводит собственную церемонию инициации. Он, полностью раздевшись, едет - словно желая, чтобы отец двинулся в путь, - в маленьком вагончике, в котором проводит в дозоре всю ночь, как юный рыцарь, после чего платит несколько монет проводнику поезда - это те же деньги, которые послужат умиротворению ужасающей мощи Storch, - и вот маленький Ганс уже едет по большому кругу железной дороги. Дело улажено. Маленький Ганс будет никем иным, как рыцарем, рыцарем, более-менее освоившимся в социуме, но всё-таки рыцарем, и у него не будет отца. И я полагаю, что ни в каком новом опыте существования он не сможет его найти.
Сразу же после этого происходит несколько запоздалое вмешательство отца. То, как у отца постепенно по ходу наблюдения складывается понимание, вещь не самая безынтересная. После своей игры начистоту, будучи железно уверенным в истинах, которые он получил от своего учителя Фрейда, отец по мере их применения видит, насколько эти истины гораздо более относительны. И когда маленький Ганс начнёт производить свой большой мифический бред, он обронит едва заметную в тексте, но очень важную фразу.
Речь идёт о моменте, связанном с игрой словами, когда маленький Ганс постоянно противоречит сам себе и говорит: «Это правда, это не правда, это шутка, но всё равно очень серьёзно». Отец, не будучи дураком, улавливает суть и говорит: «Всё, что говорится, - всегда немножко правда». И тогда отец - который не способен занимать свою позицию, и, скорее всего, именно его и нужно было заставить пройти анализ -пытается исправить положение и, хотя уже слишком поздно, говорит маленькому Гансу: «В конце концов, ты злился на меня».
Во время этого с опозданием дошедшего до маленького Ганса вмешательства один очень милый маленький жест проливает на наблюдение особый свет - в тот самый момент, когда отец говорит с ним, он роняет маленькую лошадь. Поезд ушёл, разговор уже не актуален, маленький Ганс уже утвердился в мире в своей новой позиции.
Отныне маленький Ганс - человечек, плодящий детей, способный непрерывно порождать их в своём воображении, полностью удовлетворённый своими творениями. И такой в его воображении живёт мать.
Как я вам уже говорил, он, маленький Ганс, не дочь одной матери, но дочь двух матерей. На этом примечательном, загадочном пункте наблюдения я уже останавливался в прошлый раз. Конечно, он получил слишком много поводов и причин уяснить для себя присутствие и могущество другой матери, матери отца. И всё же тот факт, что субъект принимает эту двойственность, это удвоение материнской фигуры, которое становится условием окончательного равновесия, представляет собой одну из структурных проблем, которые здесь при наблюдении возникают.
На вышеупомянутом я остановился в позапрошлый раз, сделав сопоставление с картиной Леонардо да Винчи, а заодно и со случаем Леонардо да Винчи, которому Фрейд не случайно уделил столько внимания.
Этому тексту мы и посвятим сегодня время, которое у нас осталось. Конечно, мы не претендуем на то, чтобы исчерпывающим образом проработать Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи за одну встречу. Это будет небольшой разговор перед каникулами, который в процессе моих семинаров я привык проводить в более расслабленной манере для группы таких внимательных слушателей, как вы, в знак моей благодарности.
Оставим маленького Ганса на волю его судьбы. Но прежде чем его покинуть, я уточню, что если я сделал намёк на отношение его случая к определённой эволюции, произошедшей в отношениях между полами и сослался при этом на поколение 1945 года, то точно не для того, чтобы поговорить о чём-то чрезвычайно актуальном. Заботу описать и определить то, что может представлять собой нынешнее поколение, я оставляю другим, скажем, Франсуазе Саган. Я не случайно ссылаюсь на это имя, не от одного только чаяния быть актуальным, но для того, чтобы посоветовать вам в качестве
него не будет отца. И я полагаю, что ни в каком новом опыте существования он не сможет его найти.
Сразу же после этого происходит несколько запоздалое вмешательство отца. То, как у отца постепенно по ходу наблюдения складывается понимание, вещь не самая безынтересная. После своей игры начистоту, будучи железно уверенным в истинах, которые он получил от своего учителя Фрейда, отец по мере их применения видит, насколько эти истины гораздо более относительны. И когда маленький Ганс начнёт производить свой большой мифический бред, он обронит едва заметную в тексте, но очень важную фразу.
Речь идёт о моменте, связанном с игрой словами, когда маленький Ганс постоянно противоречит сам себе и говорит: «Это правда, это не правда, это шутка, но всё равно очень серьёзно». Отец, не будучи дураком, улавливает суть и говорит: «Всё, что говорится, - всегда немножко правда». И тогда отец - который не способен занимать свою позицию, и, скорее всего, именно его и нужно было заставить пройти анализ -пытается исправить положение и, хотя уже слишком поздно, говорит маленькому Гансу: «В конце концов, ты злился на меня».
Во время этого с опозданием дошедшего до маленького Ганса вмешательства один очень милый маленький жест проливает на наблюдение особый свет - в тот самый момент, когда отец говорит с ним, он роняет маленькую лошадь. Поезд ушёл, разговор уже не актуален, маленький Ганс уже утвердился в мире в своей новой позиции.
Отныне маленький Ганс - человечек, плодящий детей, способный непрерывно порождать их в своём воображении, полностью удовлетворённый своими творениями. И такой в его воображении живёт мать.
Как я вам уже говорил, он, маленький Ганс, не дочь одной матери, но дочь двух матерей. На этом примечательном, загадочном пункте наблюдения я уже останавливался в прошлый раз. Конечно, он получил слишком много поводов и причин уяснить для себя присутствие и могущество другой матери, матери отца. И всё же тот факт, что субъект принимает эту двойственность, это удвоение материнской фигуры, которое становится условием окончательного равновесия, представляет собой одну из структурных проблем, которые здесь при наблюдении возникают.
На вышеупомянутом я остановился в позапрошлый раз, сделав сопоставление с картиной Леонардо да Винчи, а заодно и со случаем Леонардо да Винчи, которому Фрейд не случайно уделил столько внимания.
Этому тексту мы и посвятим сегодня время, которое у нас осталось. Конечно, мы не претендуем на то, чтобы исчерпывающим образом проработать Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи за одну встречу. Это будет небольшой разговор перед каникулами, который в процессе моих семинаров я привык проводить в более расслабленной манере для группы таких внимательных слушателей, как вы, в знак моей благодарности.
Оставим маленького Ганса на волю его судьбы. Но прежде чем его покинуть, я уточню, что если я сделал намёк на отношение его случая к определённой эволюции, произошедшей в отношениях между полами и сослался при этом на поколение 1945 года, то точно не для того, чтобы поговорить о чём-то чрезвычайно актуальном. Заботу описать и определить то, что может представлять собой нынешнее поколение, я оставляю другим, скажем, Франсуазе Саган. Я не случайно ссылаюсь на это имя, не от одного только чаяния быть актуальным, но для того, чтобы посоветовать вам в качестве чтения на каникулы номер Критики (Critique) за август-сентябрь 1956 года, где под названием Последний новый мир (Le dernier monde nouveau) Александром Кожевым опубликована статья по двум книгам, Здравствуй, грусть и Смутная улыбка, принадлежащим перу того успешного автора, которого я только что назвал. Вы сможете увидеть, что строгий философ, который привык располагать себя на уровне мысли Гегеля и самом высоком уровне политики, может извлечь из произведений, на первый взгляд столь легкомысленных.
Это станет для вас напутствием. И, как говорится, хуже точно не будет, вы ничем не рискуете. Психоаналитиками не становятся те, кто полностью, без остатка посвящает себя поветриям моды в вопросах психосексуальности. Вы для этого слишком хорошо сориентированы и не слишком сведущи в темах такого рода. Это чтение может быть полезным для вас тем, что окунёт вас в актуальные вопросы современности, освежит ваш взгляд на то, что вы делаете, и лучше подготовит вас к тому, что вы можете порой услышать от ваших пациентов. Также это покажет вам, что мы должны принимать во внимание глубокие изменения, произошедшие в отношениях между мужчиной и женщиной за период не дольше того, что отделяет нас от времени Фрейда, когда всё, чему предстояло стать нашей историей, было уже на подходе.
Также это покажет вам, что донжуанство, возможно, ещё не сказало своего последнего слова, что бы ни говорили аналитики. Если они привнесли нечто интересное, если нечто дельное и промелькнуло в вопросе гомосексуальности Дон-Жуана, то, конечно, это не стоит понимать так, как обычно это понимают.
Я глубоко убеждён, что Дон Жуан слишком далёк от нашего культурного уклада, чтобы аналитики могли точно его распознать. Дон Жуан Моцарта, например, эта вершина того персонажа, который знаменует, прямо скажем, кульминацию вопроса в том смысле, в котором понимаю его здесь я, представляет собой нечто совершенно отличное от персонажа-отражения, которого пожелал сконструировать для нас Ранк. Совершенно точно он не может быть осмыслен исключительно под углом и в аспекте двойника. Вопреки тому, что о нём говорят, Дон Жуана нельзя считать попросту соблазнителем, который прибегает к мелким трюкам, которые каждый раз срабатывают, более того, я полагаю, что он весьма от этого далёк. Я думаю, что Дон Жуан любит женщин, я бы даже сказал, что он любит их настолько, что умеет иногда об этом промолчать, и что он любит их настолько, что, когда он им об этом говорит, они ему верят.
Важно и очень показательно то, что ситуация всегда остаётся для него безвыходной. Я думаю, что объяснение этому следует искать в направлении понятия фаллической женщины.
В отношениях Дон Жуана с его объектом, конечно, есть нечто, связанное с вопросом бисексуальности, но именно в том смысле, что Дон Жуан ищет женщину и что это фаллическая женщина. Поскольку он действительно её ищет, идёт за ней, не удовлетворяется ни ожиданием, ни созерцанием, он её не находит или находит её в конце концов лишь в облике этого зловещего гостя, который на самом деле является другой, неожиданной для него стороной женщины и который неспроста оказывается отцом. Но не будем забывать, что предстаёт он - любопытная деталь - в форме каменного гостя, персонажа из камня в его абсолютно мёртвом и замкнутом качестве, по другую сторону всей природной жизни. Именно там Дон Жуан окажется сломленным и найдёт завершение своей судьбы.
чтения на каникулы номер Критики (Critique) за август-сентябрь 1956 года, где под названием Последний новый мир (Le dernier monde nouveau) Александром Кожевым опубликована статья по двум книгам, Здравствуй, грусть и Смутная улыбка, принадлежащим перу того успешного автора, которого я только что назвал. Вы сможете увидеть, что строгий философ, который привык располагать себя на уровне мысли Гегеля и самом высоком уровне политики, может извлечь из произведений, на первый взгляд столь легкомысленных.
Это станет для вас напутствием. И, как говорится, хуже точно не будет, вы ничем не рискуете. Психоаналитиками не становятся те, кто полностью, без остатка посвящает себя поветриям моды в вопросах психосексуальности. Вы для этого слишком хорошо сориентированы и не слишком сведущи в темах такого рода. Это чтение может быть полезным для вас тем, что окунёт вас в актуальные вопросы современности, освежит ваш взгляд на то, что вы делаете, и лучше подготовит вас к тому, что вы можете порой услышать от ваших пациентов. Также это покажет вам, что мы должны принимать во внимание глубокие изменения, произошедшие в отношениях между мужчиной и женщиной за период не дольше того, что отделяет нас от времени Фрейда, когда всё, чему предстояло стать нашей историей, было уже на подходе.
Также это покажет вам, что донжуанство, возможно, ещё не сказало своего последнего слова, что бы ни говорили аналитики. Если они привнесли нечто интересное, если нечто дельное и промелькнуло в вопросе гомосексуальности Дон-Жуана, то, конечно, это не стоит понимать так, как обычно это понимают.
Я глубоко убеждён, что Дон Жуан слишком далёк от нашего культурного уклада, чтобы аналитики могли точно его распознать. Дон Жуан Моцарта, например, эта вершина того персонажа, который знаменует, прямо скажем, кульминацию вопроса в том смысле, в котором понимаю его здесь я, представляет собой нечто совершенно отличное от персонажа-отражения, которого пожелал сконструировать для нас Ранк. Совершенно точно он не может быть осмыслен исключительно под углом и в аспекте двойника. Вопреки тому, что о нём говорят, Дон Жуана нельзя считать попросту соблазнителем, который прибегает к мелким трюкам, которые каждый раз срабатывают, более того, я полагаю, что он весьма от этого далёк. Я думаю, что Дон Жуан любит женщин, я бы даже сказал, что он любит их настолько, что умеет иногда об этом промолчать, и что он любит их настолько, что, когда он им об этом говорит, они ему верят.
Важно и очень показательно то, что ситуация всегда остаётся для него безвыходной. Я думаю, что объяснение этому следует искать в направлении понятия фаллической женщины.
В отношениях Дон Жуана с его объектом, конечно, есть нечто, связанное с вопросом бисексуальности, но именно в том смысле, что Дон Жуан ищет женщину и что это фаллическая женщина. Поскольку он действительно её ищет, идёт за ней, не удовлетворяется ни ожиданием, ни созерцанием, он её не находит или находит её в конце концов лишь в облике этого зловещего гостя, который на самом деле является другой, неожиданной для него стороной женщины и который неспроста оказывается отцом. Но не будем забывать, что предстаёт он - любопытная деталь - в форме каменного гостя, персонажа из камня в его абсолютно мёртвом и замкнутом качестве, по другую сторону всей природной жизни. Именно там Дон Жуан окажется сломленным и найдёт завершение своей судьбы. Совсем другую проблему представляет нам Леонардо да Винчи.
2
Нам не стоит задаваться вопросом, что именно могло заинтересовать Фрейда в Леонардо да Винчи. Почему всё пошло так, а не иначе, должно занимать нас в последнюю очередь. Фрейда заинтересовал Леонардо да Винчи просто потому, что Фрейд - это Фрейд.
Сейчас дело в том, чтобы понять, как он им заинтересовался и чем именно мог Леонардо да Винчи быть для Фрейда. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нет ничего лучше, чем прочитать Одно детское воспоминание. Я предупредил вас загодя, чтобы те, кто это сделает, смогли составить для себя представление о глубоко загадочном характере этого произведения.
Вот Фрейд в 1910 году, достигший того, что мы можем назвать вершиной успеха. По крайней мере внешне всё выглядит именно так и, честно говоря, он сам не упускает случая это подчеркнуть. Он получил международное признание и ещё не познал драмы и печали расставаний со своими самыми многообещающими учениками; он на пороге больших кризисов, но к этому моменту, можно сказать, наверстал всё упущенное им за все годы своей жизни.
Таков Фрейд, который берётся за тему Леонардо да Винчи. Его предпочтения в культуре, его любовь к Италии и Ренессансу позволяют нам предположить, что он был заворожён этим персонажем. Но что он сам скажет нам по этому поводу? В том, что он нам говорит, мы не найдём ни особых сведений об этом персонаже, ни внимания к его отличительным чертам.
Тем не менее в целом текст Фрейда о Леонардо да Винчи перечитывается с интересом, и с годами интерес к нему только возрастает. Даже если это одно из наиболее критикуемых произведений Фрейда - а парадокс состоит в том, что этот текст входит в число тех, которыми он сам больше всего гордился, - специалисты по живописи и истории искусства, люди - Бог тому свидетель, примеров этому немало, - наиболее осторожные в подобных случаях, признают со временем, несмотря на обнаруженные в нём грубейшие ошибки, его важность. Историки искусства почти единодушно не приняли работу Фрейда, отнеслись к ней с пренебрежением, даже с презрением, и всё же, несмотря на постоянные нападки, которые спровоцировало появление новых документов, подтверждающих, что Фрейд допустил ошибки, остаётся фактом, что есть и другие мнения, как, например, у Кеннета Кларка, бывшего директора National Gallery. В своей не столь давней работе он очень заинтересовался анализом Фрейда картины, которую я вам как-то раз показывал. Это Святая Анна из Лувра, дублируемая знаменитым картоном, который находится в Лондоне. Опираясь на эти два произведения, Фрейд произвёл или полагал произвести углублённое исследование случая Леонардо да Винчи.
Мне кажется, нет надобности резюмировать для вас ход рассуждения этой небольшой работы.
Сначала Фрейд кратко представляет случай Леонардо да Винчи и его странные черты. Мы ещё вернёмся к этой странности своими собственными путями, и совершенно очевидно, что Фрейд в целом сфокусирован на загадке его личности. Далее он упоминает особые врождённые черты этого художника, его предрасположенности и его
Совсем другую проблему представляет нам Леонардо да Винчи.
2
Нам не стоит задаваться вопросом, что именно могло заинтересовать Фрейда в Леонардо да Винчи. Почему всё пошло так, а не иначе, должно занимать нас в последнюю очередь. Фрейда заинтересовал Леонардо да Винчи просто потому, что Фрейд - это Фрейд.
Сейчас дело в том, чтобы понять, как он им заинтересовался и чем именно мог Леонардо да Винчи быть для Фрейда. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нет ничего лучше, чем прочитать Одно детское воспоминание. Я предупредил вас загодя, чтобы те, кто это сделает, смогли составить для себя представление о глубоко загадочном характере этого произведения.
Вот Фрейд в 1910 году, достигший того, что мы можем назвать вершиной успеха. По крайней мере внешне всё выглядит именно так и, честно говоря, он сам не упускает случая это подчеркнуть. Он получил международное признание и ещё не познал драмы и печали расставаний со своими самыми многообещающими учениками; он на пороге больших кризисов, но к этому моменту, можно сказать, наверстал всё упущенное им за все годы своей жизни.
Таков Фрейд, который берётся за тему Леонардо да Винчи. Его предпочтения в культуре, его любовь к Италии и Ренессансу позволяют нам предположить, что он был заворожён этим персонажем. Но что он сам скажет нам по этому поводу? В том, что он нам говорит, мы не найдём ни особых сведений об этом персонаже, ни внимания к его отличительным чертам.
Тем не менее в целом текст Фрейда о Леонардо да Винчи перечитывается с интересом, и с годами интерес к нему только возрастает. Даже если это одно из наиболее критикуемых произведений Фрейда - а парадокс состоит в том, что этот текст входит в число тех, которыми он сам больше всего гордился, - специалисты по живописи и истории искусства, люди - Бог тому свидетель, примеров этому немало, - наиболее осторожные в подобных случаях, признают со временем, несмотря на обнаруженные в нём грубейшие ошибки, его важность. Историки искусства почти единодушно не приняли работу Фрейда, отнеслись к ней с пренебрежением, даже с презрением, и всё же, несмотря на постоянные нападки, которые спровоцировало появление новых документов, подтверждающих, что Фрейд допустил ошибки, остаётся фактом, что есть и другие мнения, как, например, у Кеннета Кларка, бывшего директора National Gallery. В своей не столь давней работе он очень заинтересовался анализом Фрейда картины, которую я вам как-то раз показывал. Это Святая Анна из Лувра, дублируемая знаменитым картоном, который находится в Лондоне. Опираясь на эти два произведения, Фрейд произвёл или полагал произвести углублённое исследование случая Леонардо да Винчи.
Мне кажется, нет надобности резюмировать для вас ход рассуждения этой небольшой работы.
Сначала Фрейд кратко представляет случай Леонардо да Винчи и его странные черты. Мы ещё вернёмся к этой странности своими собственными путями, и совершенно очевидно, что Фрейд в целом сфокусирован на загадке его личности. Далее он упоминает особые врождённые черты этого художника, его предрасположенности и его парадоксальную деятельность. Я говорю теперь этого художника, хотя одновременно Леонардо да Винчи занимался не только живописью, но и многими другими вещами. Наконец Фрейд подходит к эпизоду, которому уделяет так много внимания во всех своих дальнейших рассуждениях, а именно к единственному дошедшему до нас детскому воспоминанию Леонардо да Винчи: «Мне, кажется, заранее было суждено заниматься коршуном. В одном из моих первых детских воспоминаний, когда я ещё лежал в колыбели, ко мне прилетел коршун, открыл мне своим хвостом рот и много раз толкнулся хвостом в мои губы».
Вот в высшей степени тревожащее детское воспоминание, говорит нам Фрейд и присоединяет новое звено, и мы следуем за ним от звена к звену, туда, куда он собирается нас привести. Мы следуем за ним, потому что привыкли к фокусам наложения друг на друга в диалектических рассуждениях того, что на опыте и в клинике часто путают, хотя принадлежит это по, сути дела, двум совершенно различным регистрам. Я не хочу сказать, что Фрейд распоряжается этим ненадлежащим образом, напротив, я полагаю, что он работает здесь блестяще, то есть он идёт прямо к сути явления. Только вот мы совершаем ошибку, когда, ленясь умом, заранее принимаем всё, что он говорит, на веру, тогда как речь здесь идёт о совмещении и наложении друг на друга отношений с материнской грудью и фелляции, по крайней мере воображаемой, которую Фрейд здесь с самого начала усматривает, придавая ей смысл настоящего сексуального вмешательства (intrusion).
Фрейд сразу же полагает это как данность и именно на этом основании выстраивает своё рассуждение, постепенно подводя нас к разработке глубоко загадочных отношений с матерью в случае Леонардо да Винчи. Он объясняет этими отношениями все особенности своего странного персонажа: его вероятное целомудрие и своеобразное, уникальное отношение к собственным произведениям, которое проявляется в постоянной деятельности на пределе осуществимого и, как пишет он сам, невозможного, его тенденцию прерывать работу, пускаясь каждый раз в новые предприятия, своеобразие, резко выделяющее его в среде современников и превращающее его уже при жизни в легендарного персонажа, в обладателя всевозможных навыков и умений, в универсального гения. Вся та идеализация, которой подвергался Леонардо да Винчи уже среди современников, выводится Фрейдом из его отношений с матерью.
В качестве отправной точки, как я уже сказал, он принимает одно детское воспоминание. Этот коршун с трепещущим хвостом, бьющим по губам ребёнка, сконструирован, говорится нам, в качестве покрывающего воспоминания (souvenir-écran), в котором отражается фантазм фелляции. Фрейд ни на мгновение в этом не сомневается, тем не менее, непредвзято взглянув на вещи, стоит признать, что здесь как минимум возникает проблема - ведь весь ход фрейдовского исследования как раз и демонстрирует, что до возраста примерно трёх-четырёх лет Леонардо, весьма вероятно, не знал другого присутствия, кроме присутствия материнского, а значит, не знал ни других элементов сексуального соблазнения, кроме тех, которые он называет страстными поцелуями матери, ни других объектов, способных быть объектами его желания, кроме материнской груди. В конечном счёте, демонстрацию того, что могло предвосхитить будущее, сам Фрейд располагает в плане фантазма.
парадоксальную деятельность. Я говорю теперь этого художника, хотя одновременно Леонардо да Винчи занимался не только живописью, но и многими другими вещами. Наконец Фрейд подходит к эпизоду, которому уделяет так много внимания во всех своих дальнейших рассуждениях, а именно к единственному дошедшему до нас детскому воспоминанию Леонардо да Винчи: «Мне, кажется, заранее было суждено заниматься коршуном. В одном из моих первых детских воспоминаний, когда я ещё лежал в колыбели, ко мне прилетел коршун, открыл мне своим хвостом рот и много раз толкнулся хвостом в мои губы».
Вот в высшей степени тревожащее детское воспоминание, говорит нам Фрейд и присоединяет новое звено, и мы следуем за ним от звена к звену, туда, куда он собирается нас привести. Мы следуем за ним, потому что привыкли к фокусам наложения друг на друга в диалектических рассуждениях того, что на опыте и в клинике часто путают, хотя принадлежит это по, сути дела, двум совершенно различным регистрам. Я не хочу сказать, что Фрейд распоряжается этим ненадлежащим образом, напротив, я полагаю, что он работает здесь блестяще, то есть он идёт прямо к сути явления. Только вот мы совершаем ошибку, когда, ленясь умом, заранее принимаем всё, что он говорит, на веру, тогда как речь здесь идёт о совмещении и наложении друг на друга отношений с материнской грудью и фелляции, по крайней мере воображаемой, которую Фрейд здесь с самого начала усматривает, придавая ей смысл настоящего сексуального вмешательства (intrusion).
Фрейд сразу же полагает это как данность и именно на этом основании выстраивает своё рассуждение, постепенно подводя нас к разработке глубоко загадочных отношений с матерью в случае Леонардо да Винчи. Он объясняет этими отношениями все особенности своего странного персонажа: его вероятное целомудрие и своеобразное, уникальное отношение к собственным произведениям, которое проявляется в постоянной деятельности на пределе осуществимого и, как пишет он сам, невозможного, его тенденцию прерывать работу, пускаясь каждый раз в новые предприятия, своеобразие, резко выделяющее его в среде современников и превращающее его уже при жизни в легендарного персонажа, в обладателя всевозможных навыков и умений, в универсального гения. Вся та идеализация, которой подвергался Леонардо да Винчи уже среди современников, выводится Фрейдом из его отношений с матерью.
В качестве отправной точки, как я уже сказал, он принимает одно детское воспоминание. Этот коршун с трепещущим хвостом, бьющим по губам ребёнка, сконструирован, говорится нам, в качестве покрывающего воспоминания (souvenir-écran), в котором отражается фантазм фелляции. Фрейд ни на мгновение в этом не сомневается, тем не менее, непредвзято взглянув на вещи, стоит признать, что здесь как минимум возникает проблема - ведь весь ход фрейдовского исследования как раз и демонстрирует, что до возраста примерно трёх-четырёх лет Леонардо, весьма вероятно, не знал другого присутствия, кроме присутствия материнского, а значит, не знал ни других элементов сексуального соблазнения, кроме тех, которые он называет страстными поцелуями матери, ни других объектов, способных быть объектами его желания, кроме материнской груди. В конечном счёте, демонстрацию того, что могло предвосхитить будущее, сам Фрейд располагает в плане фантазма. В общем, всё опирается на один пункт - на отождествление коршуна с матерью, поскольку только её образ мог быть источником воображаемого вмешательства (intrusion).
Давайте скажем прямо, в этом деле случилось то, что можно назвать случайностью, даже ошибкой, но это счастливая случайность. Фрейд читал это детское воспоминание только в виде отрывка, процитированного у Герцфельд, то есть он прочитал его на немецком. Так вот, Герцфельд перевела как коршун то, что коршуном совсем не является. Этот факт подтверждается множеством эрудитов, совсем недавно Месье Мейером Шапиро в статье, опубликованной в Journal of History of Ideas, №2, 1956.
Фрейд мог получить повод для сомнений на этот счёт, поскольку обыкновенно он, как всегда, скрупулёзно подходил к своей работе, а перевод содержит ссылку на страницы манускрипта, в данном случае Codex Atlanticus, то есть на рукопись Леонардо да Винчи, которая находится в Милане. Она была переведена почти на все языки, есть, кстати, и французский перевод, весьма сомнительный, но полный, под названием Carnets de Léonard de Vinci. Это собственноручные записи Леонардо, часто сделанные на полях его рисунков. Таким образом, Фрейд мог обратиться по этой ссылке к записям Леонардо да Винчи, которые, как правило, состоят из пяти, шести, семи строк, занимающих максимум половину страницы, вперемешку с рисунками. Нужная запись располагается рядом с рисунком на листе, где речь идёт об исследовании полёта птиц, к которому Леонардо возвращается в разных частях этой работы. Леонардо да Винчи пишет: «Мне, кажется, заранее было суждено заниматься ...», но не «коршуном», а именно тем, что нарисовано рядом, ястребом.
То, что ястреб может представлять особый интерес для изучения полёта птиц, отмечено уже Плинием Старшим. По его мнению, ястреб должен привлекать внимание авиаторов по той причине, что движения его хвоста являются особенно наглядным образцом для понимания действий руля. Леонардо да Винчи занимается этим же. Весьма занимательно проследить сквозь века приключения этого ястреба, известного со времён Античности, упомянутого множеством авторов - некоторых из них мне нужно будет сейчас мимоходом упомянуть - и оказавшегося, как меня заверили, в наши дни в руках Месье Фоккера, который занимался изучением движений его хвоста в период между двумя войнами, рассчитывая занятные подготовительные маневры для перевода самолёта в пике и создавая по-настоящему отвратительную пародию - я надеюсь, что вы разделяете моё мнение на этот счёт - на естественный полёт. От человеческой извращённости большего ждать не приходится.
Кстати, этот самый ястреб хорошо годится для того, чтобы её спровоцировать. Это животное, в котором нет ничего особенно привлекательного. Белон, написавший прекрасную работу о птицах и побывавший по поручению Генри II в Египте и в других уголках мира, видел в Египте этих ястребов, которых он изображает мерзкими и злыми.
Должен признаться, на мгновение у меня появилась надежда, что всё приходит в порядок, и что коршун Фрейда, каким бы ястребом он ни был, всё же может иметь отношение к Египту, и что, в конце концов, это всё же египетский коршун. Видите, как я постоянно пытаюсь привести всё в порядок. К сожалению, ничего подобного.
В Египте есть ястребы, и даже я могу рассказать вам, как однажды удивился, когда, завтракая в Луксоре, увидел краем глаза нечто, прошелестевшее сбоку и удирающее с апельсином с моего стола. Сначала я подумал, что это был сокол, но сразу же понял, что это не так. Это был не сокол, потому что сей зверь устроился на углу крыши и поставил
В общем, всё опирается на один пункт - на отождествление коршуна с матерью, поскольку только её образ мог быть источником воображаемого вмешательства (intrusion).
Давайте скажем прямо, в этом деле случилось то, что можно назвать случайностью, даже ошибкой, но это счастливая случайность. Фрейд читал это детское воспоминание только в виде отрывка, процитированного у Герцфельд, то есть он прочитал его на немецком. Так вот, Герцфельд перевела как коршун то, что коршуном совсем не является. Этот факт подтверждается множеством эрудитов, совсем недавно Месье Мейером Шапиро в статье, опубликованной в Journal of History of Ideas, №2, 1956.
Фрейд мог получить повод для сомнений на этот счёт, поскольку обыкновенно он, как всегда, скрупулёзно подходил к своей работе, а перевод содержит ссылку на страницы манускрипта, в данном случае Codex Atlanticus, то есть на рукопись Леонардо да Винчи, которая находится в Милане. Она была переведена почти на все языки, есть, кстати, и французский перевод, весьма сомнительный, но полный, под названием Carnets de Léonard de Vinci. Это собственноручные записи Леонардо, часто сделанные на полях его рисунков. Таким образом, Фрейд мог обратиться по этой ссылке к записям Леонардо да Винчи, которые, как правило, состоят из пяти, шести, семи строк, занимающих максимум половину страницы, вперемешку с рисунками. Нужная запись располагается рядом с рисунком на листе, где речь идёт об исследовании полёта птиц, к которому Леонардо возвращается в разных частях этой работы. Леонардо да Винчи пишет: «Мне, кажется, заранее было суждено заниматься ...», но не «коршуном», а именно тем, что нарисовано рядом, ястребом.
То, что ястреб может представлять особый интерес для изучения полёта птиц, отмечено уже Плинием Старшим. По его мнению, ястреб должен привлекать внимание авиаторов по той причине, что движения его хвоста являются особенно наглядным образцом для понимания действий руля. Леонардо да Винчи занимается этим же. Весьма занимательно проследить сквозь века приключения этого ястреба, известного со времён Античности, упомянутого множеством авторов - некоторых из них мне нужно будет сейчас мимоходом упомянуть - и оказавшегося, как меня заверили, в наши дни в руках Месье Фоккера, который занимался изучением движений его хвоста в период между двумя войнами, рассчитывая занятные подготовительные маневры для перевода самолёта в пике и создавая по-настоящему отвратительную пародию - я надеюсь, что вы разделяете моё мнение на этот счёт - на естественный полёт. От человеческой извращённости большего ждать не приходится.
Кстати, этот самый ястреб хорошо годится для того, чтобы её спровоцировать. Это животное, в котором нет ничего особенно привлекательного. Белон, написавший прекрасную работу о птицах и побывавший по поручению Генри II в Египте и в других уголках мира, видел в Египте этих ястребов, которых он изображает мерзкими и злыми.
Должен признаться, на мгновение у меня появилась надежда, что всё приходит в порядок, и что коршун Фрейда, каким бы ястребом он ни был, всё же может иметь отношение к Египту, и что, в конце концов, это всё же египетский коршун. Видите, как я постоянно пытаюсь привести всё в порядок. К сожалению, ничего подобного.
В Египте есть ястребы, и даже я могу рассказать вам, как однажды удивился, когда, завтракая в Луксоре, увидел краем глаза нечто, прошелестевшее сбоку и удирающее с апельсином с моего стола. Сначала я подумал, что это был сокол, но сразу же понял, что это не так. Это был не сокол, потому что сей зверь устроился на углу крыши и поставил перед собой маленький апельсин, чтобы показать, что всего лишь пошутил, и было хорошо видно, что он имеет специфический ярко-бурый окрас. Я тотчас убедился, что это ястреб. Видите, насколько это изученная, поддающаяся наблюдению птица.
Но вопрос непростой. Есть египетский коршун, который очень на него похож, именно он и может исправить недоразумение. Именно о нём говорит Белон и называет его священной птицей египтян, которая упоминается со времён Геродота под именем Мегах. Он очень распространён в Египте и, действительно, почитается как священный. Геродот, наставляя нас, говорит о том, что в Древнем Египте убивший его попадает в наихудшие неприятности. Он немного похож и на ястреба, и на сокола. Именно он соответствует букве алеф в египетских идеограммах, на которые я ссылаюсь, когда говорю об иероглифах и их показательной для нас функции. Вот коршун, то есть священная птица египтян, о котором идёт речь:
Le vautour ÉGYPTIEN
Всё было бы хорошо, если бы именно он служил богине Мут, которую, как вы знаете, Фрейд упоминает в связи с коршуном. Но это не так, и Фрейд действительно был не прав, поскольку коршун, который служит богине Мут, выглядит так:
ГГУт Le Gyps fulvus
Этот второй не является, подобно первому, фонетическим знаком. Он служит детерминативом, добавляемым элементом. Или сам по себе обозначает богиню Мут, и в этом случае к его изображению добавляется маленький флажок. Или он целиком вписывается в символ, означающий Мут, после чего следует маленький детерминатив. Или можно удовлетвориться тем, чтобы использовать его в качестве эквивалента М, добавив сразу же маленькую т для фонетизации термина. Мы находим его во многих ассоциациях, где всегда фигурирует богиня-мать.
Этот коршун совершенно иной, он настоящий Gyps (гриф), он совершенно не похож на предыдущего, сходного с ястребом, соколом и другими соседними видами животных. Именно к этому коршуну относится все то, что Фрейд нашёл в традиции обращения к жизни зверей, например, в текстах Гораполлона, относящихся к эпохе египетского упадка. Из писаний последнего, кстати, фрагментарных, тысячу раз перетасованных, переписанных и искажённых, в эпоху Возрождения был составлен ряд сборников, куда гравировщики того времени внесли небольшие эмблемки, которые должны были бы сообщать нам о значении главных египетских иероглифов.
перед собой маленький апельсин, чтобы показать, что всего лишь пошутил, и было хорошо видно, что он имеет специфический ярко-бурый окрас. Я тотчас убедился, что это ястреб. Видите, насколько это изученная, поддающаяся наблюдению птица.
Но вопрос непростой. Есть египетский коршун, который очень на него похож, именно он и может исправить недоразумение. Именно о нём говорит Белон и называет его священной птицей египтян, которая упоминается со времён Геродота под именем Мегах. Он очень распространён в Египте и, действительно, почитается как священный. Геродот, наставляя нас, говорит о том, что в Древнем Египте убивший его попадает в наихудшие неприятности. Он немного похож и на ястреба, и на сокола. Именно он соответствует букве алеф в египетских идеограммах, на которые я ссылаюсь, когда говорю об иероглифах и их показательной для нас функции. Вот коршун, то есть священная птица египтян, о котором идёт речь:
Le vautour ÉGYPTIEN
Всё было бы хорошо, если бы именно он служил богине Мут, которую, как вы знаете, Фрейд упоминает в связи с коршуном. Но это не так, и Фрейд действительно был не прав, поскольку коршун, который служит богине Мут, выглядит так:
ГГУт Le Gyps fulvus
Этот второй не является, подобно первому, фонетическим знаком. Он служит детерминативом, добавляемым элементом. Или сам по себе обозначает богиню Мут, и в этом случае к его изображению добавляется маленький флажок. Или он целиком вписывается в символ, означающий Мут, после чего следует маленький детерминатив. Или можно удовлетвориться тем, чтобы использовать его в качестве эквивалента М, добавив сразу же маленькую т для фонетизации термина. Мы находим его во многих ассоциациях, где всегда фигурирует богиня-мать.
Этот коршун совершенно иной, он настоящий Gyps (гриф), он совершенно не похож на предыдущего, сходного с ястребом, соколом и другими соседними видами животных. Именно к этому коршуну относится все то, что Фрейд нашёл в традиции обращения к жизни зверей, например, в текстах Гораполлона, относящихся к эпохе египетского упадка. Из писаний последнего, кстати, фрагментарных, тысячу раз перетасованных, переписанных и искажённых, в эпоху Возрождения был составлен ряд сборников, куда гравировщики того времени внесли небольшие эмблемки, которые должны были бы сообщать нам о значении главных египетских иероглифов. Есть работа, изданная Альдо Мануцием в 1519 году при жизни Леонардо. Эта книга должна быть знакома всем вам, потому что именно из неё я позаимствовал рисунок, украсивший номер La Psychanalyse. Именно Гораполлону принадлежит приведённая здесь фраза: «Нарисованное ухо означает сделанную работу или то, что её нужно сделать».
Но не будем позволять себе увлекаться пагубными привычками эпохи, в которой не всё стоит подражания.
Именно у Гораполлона Фрейд находит связь коршуна с обозначением матери, но здесь же он обнаруживает гораздо более интересное замечание, которое толкает его на диалектический шаг, дело в том, что речь идёт о животном, у которого существует лишь женский пол. Это старая зоологический ошибка, которая, как и многие другие, возникла очень давно; её можно найти в Античности, хотя и не у лучших авторов, но тем не менее она стала общепринятым заблуждением для средневековой культуры. Фрейд допускает, что поскольку Леонардо читал их, он должен был знать эту историю. Такая вероятность есть, в этом нет ничего необычного, поскольку тема была весьма распространённой, но доказательств этому нет. И тем более нет резона это доказывать, если дело не в коршуне.
Я поделюсь с вами тем фактом, что святой Амвросий воспринимает историю о принадлежности коршуна к женскому полу как пример, который природа специально даёт нам, чтобы облегчить понимание концепции непорочного зачатия Иисуса. Фрейд, кажется, признает, что эту легенду можно найти едва ли не у всех отцов Церкви. Должен признаться, что я не проверял, поскольку только сегодня утром узнал, что она есть у святого Амвросия. Но, честно говоря, я уже встречался с ней, поскольку некто Пьеро Валериано, собравший коллекцию этих легендарных свидетельств в 1566 году, показался мне источником, к которому следует обратиться за сведениями о том значении, которым мог обладать в то время ястреб и ряд других символических элементов, а он сообщает, что об этом говорит святой Амвросий. Он упоминает также Василия Великого, но не всех Отцов Церкви, как, видимо, пишет автор, на которого ссылается Фрейд.
Коршун мог быть только женского пола, так же как улитка могла быть только мужского. Это было традиционным представлением, и здесь интересно сопоставить одно с другим, ведь улитка ползает по земле, а коршун, соответственно, парит в небе и, широко раскрывая свой хвост, отдаётся ветру, о чём свидетельствует замечательная картинка.
История о коршуне по-своему интересна, как и множество других историй такого плана, которыми переполнены тексты Леонардо да Винчи, поскольку он очень интересовался разного рода баснями на основе этих историй. Например, в его записях можно прочитать, что ястреб - это очень завистливое животное, которое плохо обращается со своими детьми. Посмотрите, что бы вышло, наткнись Фрейд на другую возможную интерпретацию отношений с матерью.
Пытаюсь ли я показать вам, что всё это пустое, что вся эта часть фрейдовской разработки не содержит ничего ценного? Нет, не по этой причине я вам это рассказал. Я не позволил бы себе пользоваться выгодным положением для критики гениального изобретения задним числом. Как часто происходит с разного рода ошибками, видение гения может руководствоваться интересом гораздо более далёким, нежели его
Есть работа, изданная Альдо Мануцием в 1519 году при жизни Леонардо. Эта книга должна быть знакома всем вам, потому что именно из неё я позаимствовал рисунок, украсивший номер La Psychanalyse. Именно Гораполлону принадлежит приведённая здесь фраза: «Нарисованное ухо означает сделанную работу или то, что её нужно сделать».
Но не будем позволять себе увлекаться пагубными привычками эпохи, в которой не всё стоит подражания.
Именно у Гораполлона Фрейд находит связь коршуна с обозначением матери, но здесь же он обнаруживает гораздо более интересное замечание, которое толкает его на диалектический шаг, дело в том, что речь идёт о животном, у которого существует лишь женский пол. Это старая зоологический ошибка, которая, как и многие другие, возникла очень давно; её можно найти в Античности, хотя и не у лучших авторов, но тем не менее она стала общепринятым заблуждением для средневековой культуры. Фрейд допускает, что поскольку Леонардо читал их, он должен был знать эту историю. Такая вероятность есть, в этом нет ничего необычного, поскольку тема была весьма распространённой, но доказательств этому нет. И тем более нет резона это доказывать, если дело не в коршуне.
Я поделюсь с вами тем фактом, что святой Амвросий воспринимает историю о принадлежности коршуна к женскому полу как пример, который природа специально даёт нам, чтобы облегчить понимание концепции непорочного зачатия Иисуса. Фрейд, кажется, признает, что эту легенду можно найти едва ли не у всех отцов Церкви. Должен признаться, что я не проверял, поскольку только сегодня утром узнал, что она есть у святого Амвросия. Но, честно говоря, я уже встречался с ней, поскольку некто Пьеро Валериано, собравший коллекцию этих легендарных свидетельств в 1566 году, показался мне источником, к которому следует обратиться за сведениями о том значении, которым мог обладать в то время ястреб и ряд других символических элементов, а он сообщает, что об этом говорит святой Амвросий. Он упоминает также Василия Великого, но не всех Отцов Церкви, как, видимо, пишет автор, на которого ссылается Фрейд.
Коршун мог быть только женского пола, так же как улитка могла быть только мужского. Это было традиционным представлением, и здесь интересно сопоставить одно с другим, ведь улитка ползает по земле, а коршун, соответственно, парит в небе и, широко раскрывая свой хвост, отдаётся ветру, о чём свидетельствует замечательная картинка.
История о коршуне по-своему интересна, как и множество других историй такого плана, которыми переполнены тексты Леонардо да Винчи, поскольку он очень интересовался разного рода баснями на основе этих историй. Например, в его записях можно прочитать, что ястреб - это очень завистливое животное, которое плохо обращается со своими детьми. Посмотрите, что бы вышло, наткнись Фрейд на другую возможную интерпретацию отношений с матерью.
Пытаюсь ли я показать вам, что всё это пустое, что вся эта часть фрейдовской разработки не содержит ничего ценного? Нет, не по этой причине я вам это рассказал. Я не позволил бы себе пользоваться выгодным положением для критики гениального изобретения задним числом. Как часто происходит с разного рода ошибками, видение гения может руководствоваться интересом гораздо более далёким, нежели его маленькие исследования, он может покидать твёрдую почву и выходить далеко за пределы досягаемости возможного влияния случайных обстоятельств.
Вопрос в том, чтобы выяснить, что это значит, что это позволяет нам понять.
3
Через шесть лет после публикации Трёх очерков о теории сексуальности и через десять или двенадцать лет после появления первых представлений, которые сформировались у Фрейда о бисексуальности, - к тому, что Фрейд уже прояснил о функции комплекса кастрации, с одной стороны, и о важном значении фаллоса, фаллоса воображаемого, в качестве объекта Penis-neid женщины, с другой, - что нового появляется в эссе о Леонардо да Винчи?
В мае 1910 года Фрейд предельно чётко формулирует значение функции фаллической матери и фаллической женщины. Не для субъекта этой функции, а для ребёнка, который от этого субъекта зависит. Вот грань, которую добавляет нам Фрейд в этом тексте.
То, что ребёнок связан с матерью, которая, с другой стороны, связана с воображаемым измерением фаллоса как нехватки, - вот отношения, которые вводит Фрейд, и это абсолютно отличается от всего того, что он сказал раньше о связи женщины и фаллоса. Эта оригинальная структура является той самой, вокруг которой вращается вся принципиальная критика объектных отношений, предпринятая мной в этом году, поскольку она призвана установить определённые отношения между полами, основанные на символической связи. Я полагаю, что у вас была прекрасная возможность выявить эту структуру в анализе маленького Ганса, где мы обнаруживаем её в мысли Фрейда, и только она одна позволяет получить доступ к тайне позиции Леонардо да Винчи.
Другими словами, факт того, что ребёнок, оказавшийся в замкнутой ситуации дуального противостояния с женщиной, неожиданно сталкивается с проблемой фаллоса, обнаруживает его как нехватку своего женского партнёра, то есть в данном случае материнского партнёра, вот то, вокруг чего вращаются мысли Фрейда по поводу Леонардо да Винчи. Вот то, что придаёт рельеф и оригинальность этому наблюдению, которое, кстати, не случайно оказывается первым текстом, где Фрейд использует термин «нарциссизм». Таким образом, речь идёт о начале структурной проработки регистра воображаемого во фрейдовском творчестве.
Теперь нам нужно на мгновение задержаться на том, что я назову контрастным и парадоксальным характером личности Леонардо да Винчи, и задаться вопросом о другом термине, который Фрейд вводит здесь не впервые, но на этот раз особенно настойчиво его использует - речь идёт о сублимации.
Фрейд время от времени обращает внимание на то, что можно назвать невротическими чертами Леонардо да Винчи. Я имею в виду, что он постоянно старается найти следы какого-нибудь критического отрывка, отношений, проявляющихся в повторении терминов и ошибочных действиях. То парадоксальное, что даёт себя знать в жажде знания Леонардо, в его cupido aciendi, как обычно называли подобное присущее ему любопытство, предстает у Фрейда чертой навязчивости - недаром он называет её навязчивыми раздумьями, Grubelzwang. Нельзя сказать, что здесь нет некоторого намёка. Тем не менее вся личность Леонардо да Винчи не объясняется
маленькие исследования, он может покидать твёрдую почву и выходить далеко за пределы досягаемости возможного влияния случайных обстоятельств.
Вопрос в том, чтобы выяснить, что это значит, что это позволяет нам понять.
3
Через шесть лет после публикации Трёх очерков о теории сексуальности и через десять или двенадцать лет после появления первых представлений, которые сформировались у Фрейда о бисексуальности, - к тому, что Фрейд уже прояснил о функции комплекса кастрации, с одной стороны, и о важном значении фаллоса, фаллоса воображаемого, в качестве объекта Penis-neid женщины, с другой, - что нового появляется в эссе о Леонардо да Винчи?
В мае 1910 года Фрейд предельно чётко формулирует значение функции фаллической матери и фаллической женщины. Не для субъекта этой функции, а для ребёнка, который от этого субъекта зависит. Вот грань, которую добавляет нам Фрейд в этом тексте.
То, что ребёнок связан с матерью, которая, с другой стороны, связана с воображаемым измерением фаллоса как нехватки, - вот отношения, которые вводит Фрейд, и это абсолютно отличается от всего того, что он сказал раньше о связи женщины и фаллоса. Эта оригинальная структура является той самой, вокруг которой вращается вся принципиальная критика объектных отношений, предпринятая мной в этом году, поскольку она призвана установить определённые отношения между полами, основанные на символической связи. Я полагаю, что у вас была прекрасная возможность выявить эту структуру в анализе маленького Ганса, где мы обнаруживаем её в мысли Фрейда, и только она одна позволяет получить доступ к тайне позиции Леонардо да Винчи.
Другими словами, факт того, что ребёнок, оказавшийся в замкнутой ситуации дуального противостояния с женщиной, неожиданно сталкивается с проблемой фаллоса, обнаруживает его как нехватку своего женского партнёра, то есть в данном случае материнского партнёра, вот то, вокруг чего вращаются мысли Фрейда по поводу Леонардо да Винчи. Вот то, что придаёт рельеф и оригинальность этому наблюдению, которое, кстати, не случайно оказывается первым текстом, где Фрейд использует термин «нарциссизм». Таким образом, речь идёт о начале структурной проработки регистра воображаемого во фрейдовском творчестве.
Теперь нам нужно на мгновение задержаться на том, что я назову контрастным и парадоксальным характером личности Леонардо да Винчи, и задаться вопросом о другом термине, который Фрейд вводит здесь не впервые, но на этот раз особенно настойчиво его использует - речь идёт о сублимации.
Фрейд время от времени обращает внимание на то, что можно назвать невротическими чертами Леонардо да Винчи. Я имею в виду, что он постоянно старается найти следы какого-нибудь критического отрывка, отношений, проявляющихся в повторении терминов и ошибочных действиях. То парадоксальное, что даёт себя знать в жажде знания Леонардо, в его cupido aciendi, как обычно называли подобное присущее ему любопытство, предстает у Фрейда чертой навязчивости - недаром он называет её навязчивыми раздумьями, Grubelzwang. Нельзя сказать, что здесь нет некоторого намёка. Тем не менее вся личность Леонардо да Винчи не объясняется только неврозом. И в качестве одного из важнейших способов справиться с последствиями культивируемой и закрепившейся в случае Леонардо да Винчи тенденции Фрейд не без опоры на то, что было им изложено в Трёх очерках по теории сексуальности, вводит понятие сублимации.
Как вы знаете, кроме того, что сублимация представляет собой тенденцию по отношению к объектам, которые являются не объектами примитивными, но объектами по человеческому и общечеловеческому разумению наиболее возвышенными, позже Фрейд сделал к этому несколько дополнений, показав роль, которую может играть сублимация в утверждении интересов собственного Я.
С тех пор термин сублимация был подхвачен рядом авторов психоаналитического сообщества, которые связывают её с понятием нейтрализации и деинстинктуализации инстинкта. Нужно сказать, есть некоторые вещи крайне сложные для понимания, типа делибидинизации либидо или деагрессивации агрессивности. Таковы славные термины, которые постоянно расцветают под пером Хартманна и Лёвенштейна. Всё это вряд ли как-то проясняет механизм сублимации.
Интерес к исследованию, подобному работе Фрейда со случаем Леонардо да Винчи, состоит в том, чтобы усвоить некоторые идеи, по меньшей мере запустить процесс мышления, который может позволить нам найти для термина сублимации более надёжную, более структурированную базу, нежели понятие деинстинктуализирующегося инстинкта или же объекта, который становится, как говорится, более возвышенным (sublime) - поскольку похоже, что наши эго-психологи считают, что именно это должно быть stuff сублимации.
Леонардо да Винчи сам был объектом идеализации, если не сублимации, которая началась ещё при жизни и возвела его в статус универсального гения и к тому же поразительного провозвестника современной мысли. Так же, как и Фрейд, это утверждают одни, в том числе наиболее эрудированные специалисты, которые начали разбираться в проблеме. Другие говорят то же самое о достижениях Леонардо в других областях, помимо искусства. Дюгем считал, что Леонардо да Винчи предвидел открытие закона падения тел, даже принципа инерции. Более строгая проверка с точки зрения истории науки показывает, что это не так. Ясно, разумеется, что Леонардо да Винчи сделал поразительные открытия, и наброски чертежей, которые он нам оставил в области кинематики, механики, баллистики часто обнаруживают чрезвычайно обоснованные, намного опередившие его время представления, но это вовсе не даёт основания полагать, будто во всех этих областях не было до него работ, уже тогда использовавших достаточно сложный математический аппарат, особенно в части, например, кинематики.
Тем не менее пережиток аристотелевской традиции, то есть традиции, основанной на определённых экспериментальных подтверждениях, повлиял на то, что не произошло никакого сопряжения этой традиции с той достаточно продвинутой математической формализацией, которая применялась для любых абстрактных кинематических расчётов, то есть не произошло сопряжения математической формализации с областью опыта реальных и существующих тел, подчиняющихся, на первый взгляд, закону тяжести - закону, чья кажущаяся экспериментальная очевидность столь овладела умами, что, как вы знаете, ушло очень много времени на то, чтобы удалось его правильно сформулировать. Подумайте, например, о таком замечании, которое мы находим у Леонардо да Винчи в его рисунках и сопутствующих им
только неврозом. И в качестве одного из важнейших способов справиться с последствиями культивируемой и закрепившейся в случае Леонардо да Винчи тенденции Фрейд не без опоры на то, что было им изложено в Трёх очерках по теории сексуальности, вводит понятие сублимации.
Как вы знаете, кроме того, что сублимация представляет собой тенденцию по отношению к объектам, которые являются не объектами примитивными, но объектами по человеческому и общечеловеческому разумению наиболее возвышенными, позже Фрейд сделал к этому несколько дополнений, показав роль, которую может играть сублимация в утверждении интересов собственного Я.
С тех пор термин сублимация был подхвачен рядом авторов психоаналитического сообщества, которые связывают её с понятием нейтрализации и деинстинктуализации инстинкта. Нужно сказать, есть некоторые вещи крайне сложные для понимания, типа делибидинизации либидо или деагрессивации агрессивности. Таковы славные термины, которые постоянно расцветают под пером Хартманна и Лёвенштейна. Всё это вряд ли как-то проясняет механизм сублимации.
Интерес к исследованию, подобному работе Фрейда со случаем Леонардо да Винчи, состоит в том, чтобы усвоить некоторые идеи, по меньшей мере запустить процесс мышления, который может позволить нам найти для термина сублимации более надёжную, более структурированную базу, нежели понятие деинстинктуализирующегося инстинкта или же объекта, который становится, как говорится, более возвышенным (sublime) - поскольку похоже, что наши эго-психологи считают, что именно это должно быть stuff сублимации.
Леонардо да Винчи сам был объектом идеализации, если не сублимации, которая началась ещё при жизни и возвела его в статус универсального гения и к тому же поразительного провозвестника современной мысли. Так же, как и Фрейд, это утверждают одни, в том числе наиболее эрудированные специалисты, которые начали разбираться в проблеме. Другие говорят то же самое о достижениях Леонардо в других областях, помимо искусства. Дюгем считал, что Леонардо да Винчи предвидел открытие закона падения тел, даже принципа инерции. Более строгая проверка с точки зрения истории науки показывает, что это не так. Ясно, разумеется, что Леонардо да Винчи сделал поразительные открытия, и наброски чертежей, которые он нам оставил в области кинематики, механики, баллистики часто обнаруживают чрезвычайно обоснованные, намного опередившие его время представления, но это вовсе не даёт основания полагать, будто во всех этих областях не было до него работ, уже тогда использовавших достаточно сложный математический аппарат, особенно в части, например, кинематики.
Тем не менее пережиток аристотелевской традиции, то есть традиции, основанной на определённых экспериментальных подтверждениях, повлиял на то, что не произошло никакого сопряжения этой традиции с той достаточно продвинутой математической формализацией, которая применялась для любых абстрактных кинематических расчётов, то есть не произошло сопряжения математической формализации с областью опыта реальных и существующих тел, подчиняющихся, на первый взгляд, закону тяжести - закону, чья кажущаяся экспериментальная очевидность столь овладела умами, что, как вы знаете, ушло очень много времени на то, чтобы удалось его правильно сформулировать. Подумайте, например, о таком замечании, которое мы находим у Леонардо да Винчи в его рисунках и сопутствующих им комментариях: «Более тяжёлое тело падает с большей скоростью». Это не только высказано им эксплицитно, но и подразумевается в его работах. Полагаю, что вы помните школьную программу по физике достаточно хорошо, чтобы понимать глубокую ошибочность такой теоремы, хотя так называемый опыт, опыт, основанный на массе повседневных явлений, её, казалось бы, подтверждает.
И всё же, что определяет оригинальность этих рисунков? Если мы обратимся к тому, что он нам оставил, например, к рисункам в столь удивительной инженерной работе, которая заворожила как его современников, так и последующие поколения, мы обнаружим в ней множество очень необычных вещей, опередивших время, но не способных перейти за некоторые ещё не преодолённые границы в части практического использования и в части, если можно так выразиться, живого применения математики для анализа феноменов реального.
Другими словами, он демонстрирует нам абсолютно восхитительную изобретательность, созидательность, творчество. Достаточно взглянуть, например, с какой элегантностью он формулирует теорему, которая может послужить базой для оценки прогрессирующего изменения силы, воздействующей на тело при повороте, то есть на тело, вращающееся вокруг оси. Эта сила воздействует на руку, и рука поворачивается. Как будет меняться воздействие этой силы по мере поворота рычага? Вот проблемы, для решения которых Леонардо де Винчи применяет то, что я назвал бы визуальным представлением о силовом поле, которое определяется не столько его расчётами, сколько его рисунками. Короче говоря, интуитивный элемент, элемент творческого воображения, связан у него с определённым приоритетом принципа экспериментального подтверждения и является источником всевозможных блестящих, но всё-таки частичных догадок, которые остались на уровне инженерных эскизов.
Это не пустяки. Важная черта, отличающая чертёж от инженерного эскиза, говорит нам историк науки Койре, состоит в том, что инженерный эскиз, если и может отобразить разного рода интуитивные элементы, некоторое качества или свойства, воображаемые или реализуемые в единой композиции устройства, не способен решить определённых проблем на более высоких, исконно символических, уровнях. И в конечном счёте мы видим у Леонардо да Винчи недостаточно обоснованную, даже ошибочную теорию наклонной плоскости, которая получит своё решение только с Галилеем или, говоря вновь на языке Койре, с той революцией, которую представляет собой математизация реального, тот факт, что исследовали решаются радикально очистить метод, то есть поверить опыт математическими терминами и в постановке проблемы смело исходить из заведомо невозможного.
Поймите, для того чтобы формализовать гипотезу, необходимо сначала избавиться от любого рода интуитивных притязаний на постижение реального, отказаться, например, от такой очевидной закономерности, что более тяжёлые тела падают быстрее. Только так можно найти другую отправную точку и оттолкнуться от верного предположения о гравитации, то есть исходить из формулы, условиям которой опыт никогда удовлетворить не может, поскольку у нас никогда не бывает условий для чистого эксперимента, чтобы реализовать её.
Именно в силу того, что мы отправляемся от чистой символической формализации, становится возможным корректное осмысление опыта и математический аппарат находит своё применение в физике. Спустя века предпринятых в этом направлении усилий можно сказать, что мы не преуспели до тех пор, пока не решили начать с
комментариях: «Более тяжёлое тело падает с большей скоростью». Это не только высказано им эксплицитно, но и подразумевается в его работах. Полагаю, что вы помните школьную программу по физике достаточно хорошо, чтобы понимать глубокую ошибочность такой теоремы, хотя так называемый опыт, опыт, основанный на массе повседневных явлений, её, казалось бы, подтверждает.
И всё же, что определяет оригинальность этих рисунков? Если мы обратимся к тому, что он нам оставил, например, к рисункам в столь удивительной инженерной работе, которая заворожила как его современников, так и последующие поколения, мы обнаружим в ней множество очень необычных вещей, опередивших время, но не способных перейти за некоторые ещё не преодолённые границы в части практического использования и в части, если можно так выразиться, живого применения математики для анализа феноменов реального.
Другими словами, он демонстрирует нам абсолютно восхитительную изобретательность, созидательность, творчество. Достаточно взглянуть, например, с какой элегантностью он формулирует теорему, которая может послужить базой для оценки прогрессирующего изменения силы, воздействующей на тело при повороте, то есть на тело, вращающееся вокруг оси. Эта сила воздействует на руку, и рука поворачивается. Как будет меняться воздействие этой силы по мере поворота рычага? Вот проблемы, для решения которых Леонардо де Винчи применяет то, что я назвал бы визуальным представлением о силовом поле, которое определяется не столько его расчётами, сколько его рисунками. Короче говоря, интуитивный элемент, элемент творческого воображения, связан у него с определённым приоритетом принципа экспериментального подтверждения и является источником всевозможных блестящих, но всё-таки частичных догадок, которые остались на уровне инженерных эскизов.
Это не пустяки. Важная черта, отличающая чертёж от инженерного эскиза, говорит нам историк науки Койре, состоит в том, что инженерный эскиз, если и может отобразить разного рода интуитивные элементы, некоторое качества или свойства, воображаемые или реализуемые в единой композиции устройства, не способен решить определённых проблем на более высоких, исконно символических, уровнях. И в конечном счёте мы видим у Леонардо да Винчи недостаточно обоснованную, даже ошибочную теорию наклонной плоскости, которая получит своё решение только с Галилеем или, говоря вновь на языке Койре, с той революцией, которую представляет собой математизация реального, тот факт, что исследовали решаются радикально очистить метод, то есть поверить опыт математическими терминами и в постановке проблемы смело исходить из заведомо невозможного.
Поймите, для того чтобы формализовать гипотезу, необходимо сначала избавиться от любого рода интуитивных притязаний на постижение реального, отказаться, например, от такой очевидной закономерности, что более тяжёлые тела падают быстрее. Только так можно найти другую отправную точку и оттолкнуться от верного предположения о гравитации, то есть исходить из формулы, условиям которой опыт никогда удовлетворить не может, поскольку у нас никогда не бывает условий для чистого эксперимента, чтобы реализовать её.
Именно в силу того, что мы отправляемся от чистой символической формализации, становится возможным корректное осмысление опыта и математический аппарат находит своё применение в физике. Спустя века предпринятых в этом направлении усилий можно сказать, что мы не преуспели до тех пор, пока не решили начать с разграничения символического и реального - разграничения, которого поколения исследователей, следуя логике своих экспериментов, проб и ошибок, за которыми мы следим теперь со столь захватывающим интересом, не умели осуществить. В этом прослеживании весь интерес истории науки и заключается. До тех пор мы оставались в этой промежуточности, в этой неполноте, в частичном, образном, ошеломляющем, блестящем, в том, что побудило самого Леонардо сказать - вот к чему я веду, - что в целом его позиция сводилась к подчинению природе.
Понятие природы играет важнейшую роль в произведениях Леонардо да Винчи. Природа всегда являлась для него инстанцией, чьё присутствие необходимо постигать постоянно. Это абсолютно изначальный элемент. Природа - это другой, которому мы противостоим, чьи знаки мы призваны расшифровывать, сделав его своим двойником и, если можно так выразиться, со-творцом. Все эти термины вы можете найти в записях Леонардо да Винчи.
В этой перспективе он обращается к природе, и дело доходит до воображаемого недоразумения, до путаницы между другим и тем радикальным Другим, с которым мы имеем дело и которого я научил вас рассматривать как место бессознательного. О каком другом идёт речь?
В связи с этим очень важно отметить, как сильно Леонардо да Винчи настаивает на том, что у природы нет голоса; он доказывает это так занимательно и забавно, что стоит отметить его навязчивое упорство в попытке продемонстрировать, что не может быть никого, кто бы мог ответить ему, того, в кого, однако, все верят, духа, чей голос словно бы разлит в воздухе. Он настаивает на этом, он часто к этому возвращается, и были на самом деле люди, которых его утверждения возмущали.
И всё же Леонардо да Винчи обращается к природе как к другому, который, не будучи субъектом, в то же время имеет свои разумные основания, которые можно прочесть. Я говорю так, потому что он так и пишет: «Природа полна бесконечных разумных оснований, которых в опыте никогда не найти».
Парадокс этой формулы, если мы, как это часто происходит, сделаем из Леонардо да Винчи провозвестника современного эскпериментализма, состоит в том, что она показывает дистанцию, которая отделяет нас от него, и демонстрирует, насколько трудно нам задним числом, когда способ мышления уже стал иным, понять, чем занята была мысль того, кто считается её, этой мысли, предшественником.
Позиция Леонардо да Винчи по отношению к природе - это позиция отношения к другому, который не является субъектом, но обладает историей, признаками, артикуляцией, речью, которые следует изучать, постигая его творческую мощь. Короче говоря, этот другой трансформирует радикальный характер инаковости абсолютного Другого в нечто доступное нам посредством определённого рода воображаемой идентификации.
Я хотел бы, чтобы вы имели в виду этого другого, рассматривая картину, на которую ссылается Фрейд, обращая внимание на загадку спутанных, слабо отличимых друг от друга тел Святой Анны и Мадонны.
И действительно, повернув зеркально рисунок, вы получите картину из Лувра и заметите, что ноги Святой Анны находятся там, где прежде располагались вполне естественным образом и приблизительно в том же положении ноги Мадонны, а там, где сейчас находятся ноги Мадонны, были прежде ноги Святой Анны.
разграничения символического и реального - разграничения, которого поколения исследователей, следуя логике своих экспериментов, проб и ошибок, за которыми мы следим теперь со столь захватывающим интересом, не умели осуществить. В этом прослеживании весь интерес истории науки и заключается. До тех пор мы оставались в этой промежуточности, в этой неполноте, в частичном, образном, ошеломляющем, блестящем, в том, что побудило самого Леонардо сказать - вот к чему я веду, - что в целом его позиция сводилась к подчинению природе.
Понятие природы играет важнейшую роль в произведениях Леонардо да Винчи. Природа всегда являлась для него инстанцией, чьё присутствие необходимо постигать постоянно. Это абсолютно изначальный элемент. Природа - это другой, которому мы противостоим, чьи знаки мы призваны расшифровывать, сделав его своим двойником и, если можно так выразиться, со-творцом. Все эти термины вы можете найти в записях Леонардо да Винчи.
В этой перспективе он обращается к природе, и дело доходит до воображаемого недоразумения, до путаницы между другим и тем радикальным Другим, с которым мы имеем дело и которого я научил вас рассматривать как место бессознательного. О каком другом идёт речь?
В связи с этим очень важно отметить, как сильно Леонардо да Винчи настаивает на том, что у природы нет голоса; он доказывает это так занимательно и забавно, что стоит отметить его навязчивое упорство в попытке продемонстрировать, что не может быть никого, кто бы мог ответить ему, того, в кого, однако, все верят, духа, чей голос словно бы разлит в воздухе. Он настаивает на этом, он часто к этому возвращается, и были на самом деле люди, которых его утверждения возмущали.
И всё же Леонардо да Винчи обращается к природе как к другому, который, не будучи субъектом, в то же время имеет свои разумные основания, которые можно прочесть. Я говорю так, потому что он так и пишет: «Природа полна бесконечных разумных оснований, которых в опыте никогда не найти».
Парадокс этой формулы, если мы, как это часто происходит, сделаем из Леонардо да Винчи провозвестника современного эскпериментализма, состоит в том, что она показывает дистанцию, которая отделяет нас от него, и демонстрирует, насколько трудно нам задним числом, когда способ мышления уже стал иным, понять, чем занята была мысль того, кто считается её, этой мысли, предшественником.
Позиция Леонардо да Винчи по отношению к природе - это позиция отношения к другому, который не является субъектом, но обладает историей, признаками, артикуляцией, речью, которые следует изучать, постигая его творческую мощь. Короче говоря, этот другой трансформирует радикальный характер инаковости абсолютного Другого в нечто доступное нам посредством определённого рода воображаемой идентификации.
Я хотел бы, чтобы вы имели в виду этого другого, рассматривая картину, на которую ссылается Фрейд, обращая внимание на загадку спутанных, слабо отличимых друг от друга тел Святой Анны и Мадонны.
И действительно, повернув зеркально рисунок, вы получите картину из Лувра и заметите, что ноги Святой Анны находятся там, где прежде располагались вполне естественным образом и приблизительно в том же положении ноги Мадонны, а там, где сейчас находятся ноги Мадонны, были прежде ноги Святой Анны. Не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело с неким двойственным существом, в котором выделяются, одна позади другой, две фигуры. Не менее поразительно при этом то, что ребёнок на лондонской картине находится на продолжении материнской руки, словно марионетка, движимая рукой того, кто ей управляет. Обратите также внимание, что другая женщина, непонятно, впрочем, которая, поднимает рядом с ребёнком указательный палец жестом, который делают и другие персонажи картин Леонардо да Винчи - Святой Иоанн Креститель, Вакх, ангел «Мадонны в скалах». Этот указующий перст также является одной из его загадок. Всё это очень хорошо выражает двусмысленность матери реальной и матери воображаемой, реального ребёнка и сокрытого фаллоса. И если я придаю пальцу значение фаллического символа, то не по причине грубого соответствия форм, но потому, что этот палец, изображённый у Леонардо да Винчи повсюду, есть указание на нехватку-бытия, которое мы встречаем во всём его творчестве.
Речь идёт об определённой позиции, занимаемой субъектом по отношению к проблематике Другого, который представляет собой либо абсолютного Другого, это замкнутое (fermé) бессознательное, эту непроницаемую женщину, либо стоящую за ней фигуру последнего абсолютного Другого, смерти. То, как опыт находит с этим последним термином человеческих отношений общий язык, то, как он вводит в отношения с ним путём воображаемых обменов целую жизнь, то, как он смещает радикальные и предельные отношения с по сути своей иным, населяя их всевозможными миражами, -всё это и есть сублимация. В произведениях Леонардо его гений и его творчество дают этому постоянный пример.
Полагаю, это же изображено на рисунке, своеобразной криптограмме, рисунке, который является не оригиналом, но дубликатом другого рисунка, сделанного для картины, так и не написанной Леонардо да Винчи для церкви Сервитов. На нём запечатлены Святая Анна, Мадонна, Дитя и четвёртая фигура, которую мы обсуждали, а именно Святой Иоанн Креститель в виде ягнёнка.
Совершенно очевидно, что мы должны обнаружить в четвёртом термине этой четырехсторонней композиции - как это происходит, о чём я говорил каждый раз, когда отношения четырех терминов получают своё воплощение, - мотив смерти. Где он? На самом деле он везде, он курсирует от одного к другому.
Именно смерть умерщвляет сексуальность Леонардо да Винчи, это его основная проблема, вокруг которой Фрейд разворачивает своё исследование. В жизни Леонардо да Винчи мы нигде не находим подтверждения настоящей связи, настоящего притяжения, отличного от двусмысленного и мимолётного увлечения.
Но в конечном счёте не этим впечатляет его история, а скорее мечтой об отцовстве. Он покровительствовал юношам, которые в большом количестве появлялись в его жизни в качестве изысканных декораций, однако его отношение не было отмечено какой-то значительной к ним привязанностью, - и если уж кого-то и можно классифицировать как гомосексуалиста, то скорее таковым был Микеланджело.
Не смерть ли является ему в виде этого двойника, именно того, что стоит перед ним и с такой лёгкостью подменяется ягнёнком?
8 августа 1501 года Пьеро Новеллара написал Изабелле д’Эсте, что вся Флоренция в течение двух дней прошла перед этим эскизом для главного алтаря Аннунциата во Флоренции, работу над которым Леонардо так никогда и не выполнит. И каждый склонился над квартетом этой сцены, где мы видим, как мать придерживает ребёнка в
Не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело с неким двойственным существом, в котором выделяются, одна позади другой, две фигуры. Не менее поразительно при этом то, что ребёнок на лондонской картине находится на продолжении материнской руки, словно марионетка, движимая рукой того, кто ей управляет. Обратите также внимание, что другая женщина, непонятно, впрочем, которая, поднимает рядом с ребёнком указательный палец жестом, который делают и другие персонажи картин Леонардо да Винчи - Святой Иоанн Креститель, Вакх, ангел «Мадонны в скалах». Этот указующий перст также является одной из его загадок. Всё это очень хорошо выражает двусмысленность матери реальной и матери воображаемой, реального ребёнка и сокрытого фаллоса. И если я придаю пальцу значение фаллического символа, то не по причине грубого соответствия форм, но потому, что этот палец, изображённый у Леонардо да Винчи повсюду, есть указание на нехватку-бытия, которое мы встречаем во всём его творчестве.
Речь идёт об определённой позиции, занимаемой субъектом по отношению к проблематике Другого, который представляет собой либо абсолютного Другого, это замкнутое (fermé) бессознательное, эту непроницаемую женщину, либо стоящую за ней фигуру последнего абсолютного Другого, смерти. То, как опыт находит с этим последним термином человеческих отношений общий язык, то, как он вводит в отношения с ним путём воображаемых обменов целую жизнь, то, как он смещает радикальные и предельные отношения с по сути своей иным, населяя их всевозможными миражами, -всё это и есть сублимация. В произведениях Леонардо его гений и его творчество дают этому постоянный пример.
Полагаю, это же изображено на рисунке, своеобразной криптограмме, рисунке, который является не оригиналом, но дубликатом другого рисунка, сделанного для картины, так и не написанной Леонардо да Винчи для церкви Сервитов. На нём запечатлены Святая Анна, Мадонна, Дитя и четвёртая фигура, которую мы обсуждали, а именно Святой Иоанн Креститель в виде ягнёнка.
Совершенно очевидно, что мы должны обнаружить в четвёртом термине этой четырехсторонней композиции - как это происходит, о чём я говорил каждый раз, когда отношения четырех терминов получают своё воплощение, - мотив смерти. Где он? На самом деле он везде, он курсирует от одного к другому.
Именно смерть умерщвляет сексуальность Леонардо да Винчи, это его основная проблема, вокруг которой Фрейд разворачивает своё исследование. В жизни Леонардо да Винчи мы нигде не находим подтверждения настоящей связи, настоящего притяжения, отличного от двусмысленного и мимолётного увлечения.
Но в конечном счёте не этим впечатляет его история, а скорее мечтой об отцовстве. Он покровительствовал юношам, которые в большом количестве появлялись в его жизни в качестве изысканных декораций, однако его отношение не было отмечено какой-то значительной к ним привязанностью, - и если уж кого-то и можно классифицировать как гомосексуалиста, то скорее таковым был Микеланджело.
Не смерть ли является ему в виде этого двойника, именно того, что стоит перед ним и с такой лёгкостью подменяется ягнёнком?
8 августа 1501 года Пьеро Новеллара написал Изабелле д’Эсте, что вся Флоренция в течение двух дней прошла перед этим эскизом для главного алтаря Аннунциата во Флоренции, работу над которым Леонардо так никогда и не выполнит. И каждый склонился над квартетом этой сцены, где мы видим, как мать придерживает ребёнка в момент, когда он собирается оседлать ягнёнка, и задаёмся вопросом о смысле этого сюжета. Все понимают, что это символ его драмы, его страсти, его будущей судьбы, однако Святая Анна, властвующая над всем, останавливает мать, чтобы она не препятствовала его судьбе и его жертве. И именно в сюжете отделения от матери Фрейд видит отправную точку всей драмы в жизни Леонардо да Винчи.
Последний персонаж, наиболее загадочный из всех, - это Святая Анна, восстановленный и утверждённый в чисто женских, материнских отношениях Другой, Другой с большой буквы, необходимый для того, чтобы придать сцене нужное равновесие.
Вопреки тому, что говорит Месье Крис, Святая Анна очень далека от того, чтобы быть выдумкой Леонардо. Даже Фрейд ни на одно мгновение не допускал, что сюжет Святой Анны, Мадонны, Младенца и четвёртого персонажа, который в нём появляется, сконструирован исключительно самим Леонардо да Винчи.
Если четвертый персонаж и привносит в историю религиозных мотивовдовольно специфичную проблему Леонардо да Винчи, то о совместном изображении Святой Анны, Мадонны и Младенца этого сказать нельзя. Достаточно иметь малейшее представление о том, что происходило в то время, достаточно чуть-чуть почитать не важно какую историческую литературу, чтобы узнать, что именно в этот период, между 1485 и 1510 годами, почитание Святой Анны достигло в Христианстве высшей степени и было связано с догматическими положениями о Непорочном Зачатии Богородицы. Здесь нужно иметь в виду вопрос духовности и ещё одной вещи, помимо духовности, поскольку это было время кампании индульгенций, когда Германию заполонили разного рода маленькие листовки с изображением Святой Анны, Мадонны и Ребёнка, приобретением которых можно было обеспечить себе десять и даже двадцать тысяч лет прощения в мире ином. Таким образом, не Леонардо изобретает этот сюжет, и неправда, что Фрейд приписал ему это изобретение. Есть только Месье Крис, который утверждает, что Леонардо да Винчи единственный, кто представляет подобное трио, притом что будет достаточно просто открыть Фрейда, чтобы увидеть сюжет этой картины под названием Anna Selbdritt, то есть Анна-втроём, по-итальянски, Anna Metterza.
Троица Анны возникает, несомненно, в критический момент, и дело не в том, чтобы переосмыслить его значение, поскольку у нас нет возможности слишком вдаваться в область исторического исследования христианской веры. Скажем только, что мы встречаем в истории устойчивый мотив такой троицы, получивший полное своё развитие, найдя у Леонардо да Винчи своё полное психологическое воплощение.
Что я хочу этим сказать? Безусловно, Леонардо был человеком, оказавшимся в процессе полового созревания в далеко не типичной позиции, контрастирующей и несимметричной другой его стороне - сублимации, достигшей у него чрезвычайной степени активности и реализации. Конечно, в работе над своим творением, которую он с настоящей одержимостью сотню раз начинал заново, ничто не могло обрести структуру без воспроизведения этих отношений собственного Я с маленьким другим и без необходимости в большом Другом. То и другое вписано в схему, к которой я вас попрошу обратиться, чтобы в отношении этих проблем наглядно сориентироваться.
момент, когда он собирается оседлать ягнёнка, и задаёмся вопросом о смысле этого сюжета. Все понимают, что это символ его драмы, его страсти, его будущей судьбы, однако Святая Анна, властвующая над всем, останавливает мать, чтобы она не препятствовала его судьбе и его жертве. И именно в сюжете отделения от матери Фрейд видит отправную точку всей драмы в жизни Леонардо да Винчи.
Последний персонаж, наиболее загадочный из всех, - это Святая Анна, восстановленный и утверждённый в чисто женских, материнских отношениях Другой, Другой с большой буквы, необходимый для того, чтобы придать сцене нужное равновесие.
Вопреки тому, что говорит Месье Крис, Святая Анна очень далека от того, чтобы быть выдумкой Леонардо. Даже Фрейд ни на одно мгновение не допускал, что сюжет Святой Анны, Мадонны, Младенца и четвёртого персонажа, который в нём появляется, сконструирован исключительно самим Леонардо да Винчи.
Если четвертый персонаж и привносит в историю религиозных мотивовдовольно специфичную проблему Леонардо да Винчи, то о совместном изображении Святой Анны, Мадонны и Младенца этого сказать нельзя. Достаточно иметь малейшее представление о том, что происходило в то время, достаточно чуть-чуть почитать не важно какую историческую литературу, чтобы узнать, что именно в этот период, между 1485 и 1510 годами, почитание Святой Анны достигло в Христианстве высшей степени и было связано с догматическими положениями о Непорочном Зачатии Богородицы. Здесь нужно иметь в виду вопрос духовности и ещё одной вещи, помимо духовности, поскольку это было время кампании индульгенций, когда Германию заполонили разного рода маленькие листовки с изображением Святой Анны, Мадонны и Ребёнка, приобретением которых можно было обеспечить себе десять и даже двадцать тысяч лет прощения в мире ином. Таким образом, не Леонардо изобретает этот сюжет, и неправда, что Фрейд приписал ему это изобретение. Есть только Месье Крис, который утверждает, что Леонардо да Винчи единственный, кто представляет подобное трио, притом что будет достаточно просто открыть Фрейда, чтобы увидеть сюжет этой картины под названием Anna Selbdritt, то есть Анна-втроём, по-итальянски, Anna Metterza.
Троица Анны возникает, несомненно, в критический момент, и дело не в том, чтобы переосмыслить его значение, поскольку у нас нет возможности слишком вдаваться в область исторического исследования христианской веры. Скажем только, что мы встречаем в истории устойчивый мотив такой троицы, получивший полное своё развитие, найдя у Леонардо да Винчи своё полное психологическое воплощение.
Что я хочу этим сказать? Безусловно, Леонардо был человеком, оказавшимся в процессе полового созревания в далеко не типичной позиции, контрастирующей и несимметричной другой его стороне - сублимации, достигшей у него чрезвычайной степени активности и реализации. Конечно, в работе над своим творением, которую он с настоящей одержимостью сотню раз начинал заново, ничто не могло обрести структуру без воспроизведения этих отношений собственного Я с маленьким другим и без необходимости в большом Другом. То и другое вписано в схему, к которой я вас попрошу обратиться, чтобы в отношении этих проблем наглядно сориентироваться.

 отчуждение, что и то, о котором я говорил в связи с амнезией маленького Ганса, подводя итог нашей предыдущей встречи.
Это было вопросом, который я тогда поставил. И сегодня я тоже остановлюсь на одном вопросе. Вопрос этот заключается в следующем: не предполагает ли то, что мы называем сублимацией, или психологизацией, или отчуждением, или Я-изацией (токайоп) (себяизацией) самой направленностью своей соответствующее этому
явлению измерение - измерение, посредством которого субъект забывает себя самого, выступая в качестве воображаемого объекта другого.
Существу действительно дана фундаментальная возможность - возможность забвения в своём собственном воображаемом Я.
3 июля 1957
отчуждение, что и то, о котором я говорил в связи с амнезией маленького Ганса, подводя итог нашей предыдущей встречи.
Это было вопросом, который я тогда поставил. И сегодня я тоже остановлюсь на одном вопросе. Вопрос этот заключается в следующем: не предполагает ли то, что мы называем сублимацией, или психологизацией, или отчуждением, или Я-изацией (токайоп) (себяизацией) самой направленностью своей соответствующее этому
явлению измерение - измерение, посредством которого субъект забывает себя самого, выступая в качестве воображаемого объекта другого.
Существу действительно дана фундаментальная возможность - возможность забвения в своём собственном воображаемом Я.
3 июля 1957
 В своей разработке он исходит из различных модальностей этой нехватки: кастрации, фрустрации, лишения. Мне кажется, что устройство этой таблицы достаточно на слуху, но чему она в этом семинаре служит? Она нужна для разворачивания тезиса, согласно которому отношения женщины с её нехваткой являются для субъекта фундаментальными. Возможно, что формулой
В своей разработке он исходит из различных модальностей этой нехватки: кастрации, фрустрации, лишения. Мне кажется, что устройство этой таблицы достаточно на слуху, но чему она в этом семинаре служит? Она нужна для разворачивания тезиса, согласно которому отношения женщины с её нехваткой являются для субъекта фундаментальными. Возможно, что формулой можно записать отношения субъекта женского пола с нехваткой, и не абы какой, но нехваткой, которая обозначена как - ф. Вот вопрос, над которым Лакан работает в этом Семинаре, фундаментальный для детского психоанализа вопрос: каким образом ребёнок вписывается в эти отношения? Таким образом, мы можем описать юного субъекта как артикулированного в записи субъекта женского пола и его нехватки
можно записать отношения субъекта женского пола с нехваткой, и не абы какой, но нехваткой, которая обозначена как - ф. Вот вопрос, над которым Лакан работает в этом Семинаре, фундаментальный для детского психоанализа вопрос: каким образом ребёнок вписывается в эти отношения? Таким образом, мы можем описать юного субъекта как артикулированного в записи субъекта женского пола и его нехватки По этой причине основополагающая теоретическая разработка первой части Семинара посвящена фрустрации. Разумеется, речь идёт о фрустрации ребёнка по отношению к матери. На самом деле на этих страницах Лакан даёт новую интерпретацию Fort-Da. Поскольку Fort-Da он использует в Семинаре II, чтобы проиллюстрировать повторение, и к нему же обращается в Семинаре IV, чтобы показать, что за повторением стоит фрустрация субъекта, но также и то, что по ту сторону фрустрации юного субъекта стоит фрустрация матери как женщины. Это проходит через весь семинар.
Мы научились распознавать особый лик женской сексуальности, дополнительный лик прибавочного наслаждения. Но в Семинаре IV мы имеем дело с другой стороной, то есть - согласно Лакану - с конститутивной неудовлетворённостью субъекта женского пола. В этом свете центральной главой Семинара предстаёт 11-ая глава, названная мной Фаллос и ненасытная мать. Лакановская мать отвечает формуле quaerens quem devoret, она ищет, кого поглотити (позже Лакан снова обращается к этой теме, представляя мать как крокодила, в разверстой пасти которого оказывается субъект). Таким образом, в устройстве таблицы и её перестановок присутствует центральный глубинный элемент поглощения - оральные отношения с матерью, как поглощение матери и поглощение матерью.
Так во всём, что относится к комплексу лошади (или скорее комплексу лошадей, как говорит Фрейд), укус становится элементом, который, Лакан удостаивает в итоге матемы, обозначая буквой m. Этот элемент также присутствует во всём пассаже о лошадином копыте. Настолько, что для него детский вопрос в том виде, в котором он его располагает (и здесь мы приближаемся к возможности говорить о «детском вопросе» так же, как говорим о вопросе истерика или вопросе навязчивого), является стремлением узнать, как утолить желание матери в отношениях с её нехваткой.
В Семинаре Лакан обращает внимание на множественные преобразования и перестановки означающих элементов. В числе этих преобразований есть одно, которое выглядит для меня центральным, проясняющим, где в разговоре о материнском укусе
По этой причине основополагающая теоретическая разработка первой части Семинара посвящена фрустрации. Разумеется, речь идёт о фрустрации ребёнка по отношению к матери. На самом деле на этих страницах Лакан даёт новую интерпретацию Fort-Da. Поскольку Fort-Da он использует в Семинаре II, чтобы проиллюстрировать повторение, и к нему же обращается в Семинаре IV, чтобы показать, что за повторением стоит фрустрация субъекта, но также и то, что по ту сторону фрустрации юного субъекта стоит фрустрация матери как женщины. Это проходит через весь семинар.
Мы научились распознавать особый лик женской сексуальности, дополнительный лик прибавочного наслаждения. Но в Семинаре IV мы имеем дело с другой стороной, то есть - согласно Лакану - с конститутивной неудовлетворённостью субъекта женского пола. В этом свете центральной главой Семинара предстаёт 11-ая глава, названная мной Фаллос и ненасытная мать. Лакановская мать отвечает формуле quaerens quem devoret, она ищет, кого поглотити (позже Лакан снова обращается к этой теме, представляя мать как крокодила, в разверстой пасти которого оказывается субъект). Таким образом, в устройстве таблицы и её перестановок присутствует центральный глубинный элемент поглощения - оральные отношения с матерью, как поглощение матери и поглощение матерью.
Так во всём, что относится к комплексу лошади (или скорее комплексу лошадей, как говорит Фрейд), укус становится элементом, который, Лакан удостаивает в итоге матемы, обозначая буквой m. Этот элемент также присутствует во всём пассаже о лошадином копыте. Настолько, что для него детский вопрос в том виде, в котором он его располагает (и здесь мы приближаемся к возможности говорить о «детском вопросе» так же, как говорим о вопросе истерика или вопросе навязчивого), является стремлением узнать, как утолить желание матери в отношениях с её нехваткой.
В Семинаре Лакан обращает внимание на множественные преобразования и перестановки означающих элементов. В числе этих преобразований есть одно, которое выглядит для меня центральным, проясняющим, где в разговоре о материнском укусе определяющую роль играет демонтаж ванны. Для Лакана демонтаж ванны, который осуществляется в суматохе, является в некотором роде тем, что воплощает переход от воображаемого к символическому. Как он сам об этом говорит: «Не одно и то же - кусать мать и бояться укуса, воплощением чему служит лошадь, или демонтировать мать таким образом, чтобы заставить её войти в систему как подвижный и эквивалентный другим элемент».
Об этом можно сказать, что наиболее продвинутый пункт, достигнутый Гансом, - и следует принять формулу такой, какая она есть, - это пункт преобразования укуса в отвинчивание ванны. Это означает, что приходящая и уходящая мать в её непроницаемом, угрожающем могуществе, которое заполняет весь дом (с чем и связан страх маленького Ганса), путём отвинчивания превращается в отдельное устройство, уже являющееся не целым домом, но этой ванной, которая даёт место ему, Гансу. Он замечает, что в действительности в этом месте, в ванной, отвечающей его чаяниям, его задница может точно устроиться.
Таким образом, Семинар IV - это Семинар о женской сексуальности. Когда я приступил к работе с ним, я понял, что принципиально важным для детского психоанализа вопросом является вопрос женской сексуальности. Речь идёт не о женщине в её отношениях с наслаждением, речь идёт о женщине в её отношениях с фаллосом, то есть с фаллическим означающим, которое наделяет её существо нехваткой. И при этом, безусловно, присутствуют отношения между этой фаллической нехваткой и дополнительностью наслаждения, место которого Лакан определит спустя много лет.
Этот семинар также и о ребёнке, в силу того, что ребёнок является разрешением женской нехватки. В этом пункте Лакан, конечно, обращается к равнозначности, к уравнению, к Gleichung, сформулированному Фрейдом: ребёнок = фаллос. Это не что иное, как замещение. Сам Фрейд вводит ребёнка только как неудовлетворительную замену. Так мы можем записать, помимо отцовской метафоры, женский вариант детской метафоры, которая будет другой формой фрейдовского уравнения E / -ф и которая находится в соответствии со статусом ребёнка как объекта а, разработанного Лаканом гораздо позже. Тогда возникающий вопрос состоит в том, чтобы узнать, как ребёнок открывает, что он не способен заткнуть собой дыру, как он открывает, что партнёром матери как женщины является её нехватка, имеется в виду нехватка фаллоса. Именно это направляет исследование Лакана. Он в деталях задаётся вопросом, каким образом ребёнок открывает отношения матери с фаллосом и обнаруживает свою собственную нехватку. А также существует ли первичная, взаимная любовь («primary love»).
определяющую роль играет демонтаж ванны. Для Лакана демонтаж ванны, который осуществляется в суматохе, является в некотором роде тем, что воплощает переход от воображаемого к символическому. Как он сам об этом говорит: «Не одно и то же - кусать мать и бояться укуса, воплощением чему служит лошадь, или демонтировать мать таким образом, чтобы заставить её войти в систему как подвижный и эквивалентный другим элемент».
Об этом можно сказать, что наиболее продвинутый пункт, достигнутый Гансом, - и следует принять формулу такой, какая она есть, - это пункт преобразования укуса в отвинчивание ванны. Это означает, что приходящая и уходящая мать в её непроницаемом, угрожающем могуществе, которое заполняет весь дом (с чем и связан страх маленького Ганса), путём отвинчивания превращается в отдельное устройство, уже являющееся не целым домом, но этой ванной, которая даёт место ему, Гансу. Он замечает, что в действительности в этом месте, в ванной, отвечающей его чаяниям, его задница может точно устроиться.
Таким образом, Семинар IV - это Семинар о женской сексуальности. Когда я приступил к работе с ним, я понял, что принципиально важным для детского психоанализа вопросом является вопрос женской сексуальности. Речь идёт не о женщине в её отношениях с наслаждением, речь идёт о женщине в её отношениях с фаллосом, то есть с фаллическим означающим, которое наделяет её существо нехваткой. И при этом, безусловно, присутствуют отношения между этой фаллической нехваткой и дополнительностью наслаждения, место которого Лакан определит спустя много лет.
Этот семинар также и о ребёнке, в силу того, что ребёнок является разрешением женской нехватки. В этом пункте Лакан, конечно, обращается к равнозначности, к уравнению, к Gleichung, сформулированному Фрейдом: ребёнок = фаллос. Это не что иное, как замещение. Сам Фрейд вводит ребёнка только как неудовлетворительную замену. Так мы можем записать, помимо отцовской метафоры, женский вариант детской метафоры, которая будет другой формой фрейдовского уравнения E / -ф и которая находится в соответствии со статусом ребёнка как объекта а, разработанного Лаканом гораздо позже. Тогда возникающий вопрос состоит в том, чтобы узнать, как ребёнок открывает, что он не способен заткнуть собой дыру, как он открывает, что партнёром матери как женщины является её нехватка, имеется в виду нехватка фаллоса. Именно это направляет исследование Лакана. Он в деталях задаётся вопросом, каким образом ребёнок открывает отношения матери с фаллосом и обнаруживает свою собственную нехватку. А также существует ли первичная, взаимная любовь («primary love»). Часть II
Эта статья является продолжением лекции, прочитанной Жаком-Алленом Миллером в Буэнос-Айресе, первая часть которой была опубликована в La lettre mensuelle n 128.
Текст не был прочитан автором.
Параллельно со случаем маленького Ганса Лакан приводит случай фобии маленькой англичанки, фобии, которая развязывается, когда мать показывает себя ослабшей в своём могуществе, где он заключает, что движущей силой стало проявление материнской нехватки. То же самое справедливо и для выбора случая юной гомосексуальной пациентки: когда она оказывается перед фактом получения матерью её воображаемого ребёнка от отца (которого она в свою очередь воплотила под видом соседского ребёнка, которым она занимается), происходит клиническая перемена, проясняющая фрейдовское равенство ребёнка и фаллоса.
Это равенство также подтверждается в главах, которые Лакан посвящает перверсии, перверсивным путям и объекту-фетишу, то есть клинике, где обнаруживает себя субъект, идентифицирующий себя с фаллосом матери или идентифицирующий себя с матерью в регистре воображаемого. Здесь Лакан представляет фетишизм как возможное решение для ребёнка, который открывает для себя отношения матери с нехваткой. По этой причине он подчёркивает превалирование воображаемого в перверсиях, в этом пункте я позволил себе (в последней главе) подчеркнуть формулу, аналогичную формуле Джойс-фантом: Ганс-фетиш. Ганс-фетиш, но не Ганс-фетишист, - ровно напротив, и Лакан чётко это определяет. Есть целая часть маленького Ганса, которая связывается с панталонами матери. Лакан показывает, что они имеют значение в зависимости от означающей оппозиции, что они отличаются по тому, надеты ли они на матери или существуют сами по себе и тогда маленький Ганс их отбрасывает. Лакан по этому поводу замечает, что здесь фундаментальная ориентация ребёнка уже представлена: он не станет фетишистом или во всяком случае он будет нормальным фетишистом, то есть для него фаллос будет вписан в уравнение girl = phallus из статьи Фенихеля, которую Лакан цитирует. Точное название, которое я дал главе о Гансе-фетише: От Ганса-фетиша к Леонардо в зеркале. Лакан действительно заканчивает семинар случаем Леонардо. Он оставляет подвешенным вопрос сексуальной инверсии Леонардо да Винчи и использует этот термин, чтобы выделить превалирующий для Леонардо характер воображаемых отношений.
На самом деле Леонардо имел обыкновение обращаться к себе самому, говоря ты, и даже писал целые страницы, разговаривая с самим собой как с ты. Лакан обнаруживает тот факт, что он делал всё исходя из Природы не большого Другого, но другого маленького и симметричного; таким образом он располагает Леонардо в своей схеме Z.
Как раз в случае Леонардо, согласно Фрейду, мы встречаем фигуру удвоенной матери, Девы Марии и Святой Анны, и эта удвоенная мать соотносится с удвоенной
Часть II
Эта статья является продолжением лекции, прочитанной Жаком-Алленом Миллером в Буэнос-Айресе, первая часть которой была опубликована в La lettre mensuelle n 128.
Текст не был прочитан автором.
Параллельно со случаем маленького Ганса Лакан приводит случай фобии маленькой англичанки, фобии, которая развязывается, когда мать показывает себя ослабшей в своём могуществе, где он заключает, что движущей силой стало проявление материнской нехватки. То же самое справедливо и для выбора случая юной гомосексуальной пациентки: когда она оказывается перед фактом получения матерью её воображаемого ребёнка от отца (которого она в свою очередь воплотила под видом соседского ребёнка, которым она занимается), происходит клиническая перемена, проясняющая фрейдовское равенство ребёнка и фаллоса.
Это равенство также подтверждается в главах, которые Лакан посвящает перверсии, перверсивным путям и объекту-фетишу, то есть клинике, где обнаруживает себя субъект, идентифицирующий себя с фаллосом матери или идентифицирующий себя с матерью в регистре воображаемого. Здесь Лакан представляет фетишизм как возможное решение для ребёнка, который открывает для себя отношения матери с нехваткой. По этой причине он подчёркивает превалирование воображаемого в перверсиях, в этом пункте я позволил себе (в последней главе) подчеркнуть формулу, аналогичную формуле Джойс-фантом: Ганс-фетиш. Ганс-фетиш, но не Ганс-фетишист, - ровно напротив, и Лакан чётко это определяет. Есть целая часть маленького Ганса, которая связывается с панталонами матери. Лакан показывает, что они имеют значение в зависимости от означающей оппозиции, что они отличаются по тому, надеты ли они на матери или существуют сами по себе и тогда маленький Ганс их отбрасывает. Лакан по этому поводу замечает, что здесь фундаментальная ориентация ребёнка уже представлена: он не станет фетишистом или во всяком случае он будет нормальным фетишистом, то есть для него фаллос будет вписан в уравнение girl = phallus из статьи Фенихеля, которую Лакан цитирует. Точное название, которое я дал главе о Гансе-фетише: От Ганса-фетиша к Леонардо в зеркале. Лакан действительно заканчивает семинар случаем Леонардо. Он оставляет подвешенным вопрос сексуальной инверсии Леонардо да Винчи и использует этот термин, чтобы выделить превалирующий для Леонардо характер воображаемых отношений.
На самом деле Леонардо имел обыкновение обращаться к себе самому, говоря ты, и даже писал целые страницы, разговаривая с самим собой как с ты. Лакан обнаруживает тот факт, что он делал всё исходя из Природы не большого Другого, но другого маленького и симметричного; таким образом он располагает Леонардо в своей схеме Z.
Как раз в случае Леонардо, согласно Фрейду, мы встречаем фигуру удвоенной матери, Девы Марии и Святой Анны, и эта удвоенная мать соотносится с удвоенной матерью маленького Ганса. Именно так Лакан определяет перекос отцовской метафоры у Ганса, который вместо того, чтобы в полной мере принять Имя Отца, удваивает мать, добавляя к своей матери мать отца, бабушку, которая обладает властью (Лакан обозначает её ММ’), ту, которой каждое воскресенье отец и маленький Ганс наносят визит; Лакан указывает на признак силы, власть этой дамы.
В этот же ряд мы можем поставить удвоенную мать Андре Жида, которую Лакан распознаёт в фигурах его биологической матери и его тёти. Таким образом, получается тройка Ганс-Леонардо-Андре Жид; это в дополнение к тому, что я, не имея достаточно времени, сказал на своём семинаре о Жиде. И, скажем так, эта удвоенная мать представляет собой перекошенную формулу отцовской метафоры, которая пригождается, когда форклюзии Имени Отца как таковой не происходит, но выглядит так, что передача Имени Отца проходит не через отца реального, в том смысле, в котором Лакан в тот период использует термин Реальное.
Я должен сказать, и это меня удивляет, что прошли годы с тех пор, как был признан клинический вклад Лакана, касающийся Другой женщины в истерии, тогда как никто до сего дня не придаёт значения удвоенной матери, функции удвоенной матери. Эта удвоенная мать не соотносится с бредом ребёнка, но представляет собой изобретение, которое позволяет ему обрести женское ответвление Имени Отца. Разумеется, в каждом случае последствия будут разными, но таким образом мы можем уловить, что Лакан не колеблется в том, чтобы обозначить несостоятельность реального отца. На самом деле в случае маленького Ганса есть постоянное обращение к Имени Отца, постоянное обращение к ужасающему отцу вместо того слишком мягкого отца, который, как только что-то от него услышит, тотчас передаёт это профессору Фрейду.
В случае Жида мы также видим, что отец присутствует, но это игрушечный отец, в то время как именно мать поддерживает императивы закона и власть символического. Безусловно, последствия отличаются: Ганс будет любить женщин, а Андре Жид -юношей. Однако Лакан не настаивает на их различении на основании пола объекта выбора. Напротив, гетеросексуальность маленького Ганса не мешает ему на фундаментальном уровне занимать женскую позицию до такой степени, что Лакан представляет его как дочь двух матерей. Что касается Жида, то он показывает, что тот способен наслаждаться своим пенисом, как женщина, переполненная наслаждением.
Таким образом, мы можем сказать, что встречаем удвоенную мать каждый раз, когда отцовская метафора реализуется с женскими элементами, включёнными в историю субъекта.
Маленький Ганс, согласно Лакану, не покинул пространство материнской империи, это означает, что сын, который сопровождает исследование «Объектных отношений», является сыном материнского могущества, охарактеризованного как-то раз Лаканом как могущество господина, господина-матери. Оно-то и остаётся в его теории в выражении «реальная мать», то есть мать не только ненасытная, но и могущественная, и именно это делает фигуру лакановской матери ужасающей.
В этой фигуре отчётливо угадываются очертания кляйнианской фигуры матери, и в определённом смысле в Семинаре IV мы находим переработку Лаканом доктрины
матерью маленького Ганса. Именно так Лакан определяет перекос отцовской метафоры у Ганса, который вместо того, чтобы в полной мере принять Имя Отца, удваивает мать, добавляя к своей матери мать отца, бабушку, которая обладает властью (Лакан обозначает её ММ’), ту, которой каждое воскресенье отец и маленький Ганс наносят визит; Лакан указывает на признак силы, власть этой дамы.
В этот же ряд мы можем поставить удвоенную мать Андре Жида, которую Лакан распознаёт в фигурах его биологической матери и его тёти. Таким образом, получается тройка Ганс-Леонардо-Андре Жид; это в дополнение к тому, что я, не имея достаточно времени, сказал на своём семинаре о Жиде. И, скажем так, эта удвоенная мать представляет собой перекошенную формулу отцовской метафоры, которая пригождается, когда форклюзии Имени Отца как таковой не происходит, но выглядит так, что передача Имени Отца проходит не через отца реального, в том смысле, в котором Лакан в тот период использует термин Реальное.
Я должен сказать, и это меня удивляет, что прошли годы с тех пор, как был признан клинический вклад Лакана, касающийся Другой женщины в истерии, тогда как никто до сего дня не придаёт значения удвоенной матери, функции удвоенной матери. Эта удвоенная мать не соотносится с бредом ребёнка, но представляет собой изобретение, которое позволяет ему обрести женское ответвление Имени Отца. Разумеется, в каждом случае последствия будут разными, но таким образом мы можем уловить, что Лакан не колеблется в том, чтобы обозначить несостоятельность реального отца. На самом деле в случае маленького Ганса есть постоянное обращение к Имени Отца, постоянное обращение к ужасающему отцу вместо того слишком мягкого отца, который, как только что-то от него услышит, тотчас передаёт это профессору Фрейду.
В случае Жида мы также видим, что отец присутствует, но это игрушечный отец, в то время как именно мать поддерживает императивы закона и власть символического. Безусловно, последствия отличаются: Ганс будет любить женщин, а Андре Жид -юношей. Однако Лакан не настаивает на их различении на основании пола объекта выбора. Напротив, гетеросексуальность маленького Ганса не мешает ему на фундаментальном уровне занимать женскую позицию до такой степени, что Лакан представляет его как дочь двух матерей. Что касается Жида, то он показывает, что тот способен наслаждаться своим пенисом, как женщина, переполненная наслаждением.
Таким образом, мы можем сказать, что встречаем удвоенную мать каждый раз, когда отцовская метафора реализуется с женскими элементами, включёнными в историю субъекта.
Маленький Ганс, согласно Лакану, не покинул пространство материнской империи, это означает, что сын, который сопровождает исследование «Объектных отношений», является сыном материнского могущества, охарактеризованного как-то раз Лаканом как могущество господина, господина-матери. Оно-то и остаётся в его теории в выражении «реальная мать», то есть мать не только ненасытная, но и могущественная, и именно это делает фигуру лакановской матери ужасающей.
В этой фигуре отчётливо угадываются очертания кляйнианской фигуры матери, и в определённом смысле в Семинаре IV мы находим переработку Лаканом доктрины Мелани Кляйн. Мы не очень хорошо её распознаём, потому что читаем о ней в Ecrit в форме изложения диалектики требования-желания. Но в Семинаре IV мы убеждаемся в усилиях, направленных на согласование с теорией Кляйн, которые лучшим образом дают о себе знать в том маленьком пассаже, где Лакан склоняется к сопоставлению своей стадии зеркала с депрессивной позицией. Это почти что забавно, поскольку лакановский ребёнок у зеркала совершенно противоположен кляйнианскому ребёнку. Кляйнианский ребёнок депрессивен, тогда как фундаментальный опыт лакановского ребёнка - это ликование, триумф от того, что он испытывает в проживании полноты своего образа, и от доминирующей позиции этого образа. Сначала непонятно, каким образом пожирающая мать может иметь ребёнка-триумфатора, поэтому Лакан объясняет, что ликующий ребёнок действительно встречает свой целостный образ в зеркале, но, с другой стороны, когда он встречает этот образ в форме материнского тела, то он заключает, что этот образ ему не подчиняется, и материнское могущество возвращается к нему в форме депрессивной позиции. Коротко говоря, субъект может испытать чувство триумфа в отношениях с тем, что является его собственным образом, но для того, чем он является в отношениях с образом матери, он остаётся фундаментально депрессивным.
Маленького Ганса скорее следует расположить на стороне лакановского ребёнка, где ему по большей части удаётся защититься, но, конечно, этот ребёнок находится под угрозой, воплощаемой лошадью. В силу чего можно сказать, что у Лакана здесь случается кляйнианская коррекция стадии зеркала. Но я не думаю, что сегодня это имеет большое значение.
Мелани Кляйн. Мы не очень хорошо её распознаём, потому что читаем о ней в Ecrit в форме изложения диалектики требования-желания. Но в Семинаре IV мы убеждаемся в усилиях, направленных на согласование с теорией Кляйн, которые лучшим образом дают о себе знать в том маленьком пассаже, где Лакан склоняется к сопоставлению своей стадии зеркала с депрессивной позицией. Это почти что забавно, поскольку лакановский ребёнок у зеркала совершенно противоположен кляйнианскому ребёнку. Кляйнианский ребёнок депрессивен, тогда как фундаментальный опыт лакановского ребёнка - это ликование, триумф от того, что он испытывает в проживании полноты своего образа, и от доминирующей позиции этого образа. Сначала непонятно, каким образом пожирающая мать может иметь ребёнка-триумфатора, поэтому Лакан объясняет, что ликующий ребёнок действительно встречает свой целостный образ в зеркале, но, с другой стороны, когда он встречает этот образ в форме материнского тела, то он заключает, что этот образ ему не подчиняется, и материнское могущество возвращается к нему в форме депрессивной позиции. Коротко говоря, субъект может испытать чувство триумфа в отношениях с тем, что является его собственным образом, но для того, чем он является в отношениях с образом матери, он остаётся фундаментально депрессивным.
Маленького Ганса скорее следует расположить на стороне лакановского ребёнка, где ему по большей части удаётся защититься, но, конечно, этот ребёнок находится под угрозой, воплощаемой лошадью. В силу чего можно сказать, что у Лакана здесь случается кляйнианская коррекция стадии зеркала. Но я не думаю, что сегодня это имеет большое значение.

 измерение прежде всего как то время, которое необходимо, чтобы именно её и совершить. Эта тема питает почву множества претензий, но, в конце концов, прошло уже достаточно времени, чтобы мы смогли констатировать, что таким образом я никак не отвлекаюсь от моего собственного ритма во мне.
Определённо, и расстановка пунктуации может привести к заблуждению. Вот почему есть насущная необходимость иметь одну идею, которая приводит в движение все Семинары. Речь идёт именно о том, чтобы уловить в каком направлении они устремлены, чтобы появилась возможность привнести минимум пунктуации. Таким образом, правило расстановки пунктуации прекрасно задаётся ретроактивной моделью, представленной Лаканом. На самом деле, именно отталкиваясь от истолкования (conclusion), к которому устремлён дискурс, может быть зафиксирована очерёдность элементов фразы, и главы, и всего текста.
схема 1
В то же время эта схема хорошо применима для чтения, которым мы сейчас занимаемся, то есть мы не можем не читать этот Семинар - который, будучи актуальным сегодня, был прочитан давным-давно - по причине того, что мы знакомы с более поздним учением Лакана. Сегодня я хотел бы заняться именно таким упражнением, используя эту актуальность, чтобы включить теперь данный Семинар в этот курс. Такой обычай я завёл, начиная с выпуска одного Семинара, которому в своё время я посвятил одну или две встречи. Сейчас это тем более обосновано тем фактом, что вторая половина текста представляет собой комментарий к наблюдению случая маленького Ганса Фрейда.
То, чем наполняется это наблюдение, то, что наблюдается - и я сохранил в названии этой части термин наблюдения, используемый Лаканом и Фрейдом, - это появление, установление и исчезновение фобии в чётко определённый период с января по начало мая 1908 года. За этот срок фобия исчезла и похоже на то, что юный субъект нашёл некоторый баланс, смог, попросту говоря, жить без особых мучений, без той страстной интеллектуальной деятельности, которую мы могли отследить в кругу внешней для него среды, что даёт право сказать, что в этом случае было найдено чёткое лечебное решение (nette résolution curative), применяя здесь выражение Лакана, которое он использовал в кратком резюме этого случая в Инстанции буквы, которое вы найдёте на страницах Ecrits и которое прозвучало на лекции того же года. Исходя из того, что имело место очевидное терапевтическое лечебное решение, наблюдение случая маленького Ганса можно представить в качестве парадигмы аналитического лечения. В любом случае к этому есть предпосылки ввиду того измерения полноты, которое оно демонстрирует. Тем не менее я позаботился о том, чтобы сохранить термин наблюдение, поскольку вопрос ставится таким образом, чтобы понять, было ли это лечением. В целом мне показалось чрезмерным и рискованным использовать в качестве
измерение прежде всего как то время, которое необходимо, чтобы именно её и совершить. Эта тема питает почву множества претензий, но, в конце концов, прошло уже достаточно времени, чтобы мы смогли констатировать, что таким образом я никак не отвлекаюсь от моего собственного ритма во мне.
Определённо, и расстановка пунктуации может привести к заблуждению. Вот почему есть насущная необходимость иметь одну идею, которая приводит в движение все Семинары. Речь идёт именно о том, чтобы уловить в каком направлении они устремлены, чтобы появилась возможность привнести минимум пунктуации. Таким образом, правило расстановки пунктуации прекрасно задаётся ретроактивной моделью, представленной Лаканом. На самом деле, именно отталкиваясь от истолкования (conclusion), к которому устремлён дискурс, может быть зафиксирована очерёдность элементов фразы, и главы, и всего текста.
схема 1
В то же время эта схема хорошо применима для чтения, которым мы сейчас занимаемся, то есть мы не можем не читать этот Семинар - который, будучи актуальным сегодня, был прочитан давным-давно - по причине того, что мы знакомы с более поздним учением Лакана. Сегодня я хотел бы заняться именно таким упражнением, используя эту актуальность, чтобы включить теперь данный Семинар в этот курс. Такой обычай я завёл, начиная с выпуска одного Семинара, которому в своё время я посвятил одну или две встречи. Сейчас это тем более обосновано тем фактом, что вторая половина текста представляет собой комментарий к наблюдению случая маленького Ганса Фрейда.
То, чем наполняется это наблюдение, то, что наблюдается - и я сохранил в названии этой части термин наблюдения, используемый Лаканом и Фрейдом, - это появление, установление и исчезновение фобии в чётко определённый период с января по начало мая 1908 года. За этот срок фобия исчезла и похоже на то, что юный субъект нашёл некоторый баланс, смог, попросту говоря, жить без особых мучений, без той страстной интеллектуальной деятельности, которую мы могли отследить в кругу внешней для него среды, что даёт право сказать, что в этом случае было найдено чёткое лечебное решение (nette résolution curative), применяя здесь выражение Лакана, которое он использовал в кратком резюме этого случая в Инстанции буквы, которое вы найдёте на страницах Ecrits и которое прозвучало на лекции того же года. Исходя из того, что имело место очевидное терапевтическое лечебное решение, наблюдение случая маленького Ганса можно представить в качестве парадигмы аналитического лечения. В любом случае к этому есть предпосылки ввиду того измерения полноты, которое оно демонстрирует. Тем не менее я позаботился о том, чтобы сохранить термин наблюдение, поскольку вопрос ставится таким образом, чтобы понять, было ли это лечением. В целом мне показалось чрезмерным и рискованным использовать в качестве названия этой части Лечение маленького Ганса. Лечение ли это? Ответ на этот вопрос не прост. В любом случае таких ответов много.
Да, это лечение! И чем бы это могло быть другим? Имел место патологический феномен, и этот феномен исчез. Он не исчез сам по себе, хотя мы обоснованно могли бы задаться вопросом, не исчез бы он сам по себе, если бы мы оставили его в покое. Ведь мы наблюдаем большое количество случаев детской фобии, в которых, как кажется, спешить некуда. Порой мы видим, что такой феномен отступает без специального терапевтического вмешательства. Но в этом случае феномен отступил только в условиях довольно сложных отношений с агентами, представляющими собой агентов терапии, со специально мобилизованной вокруг феномена терапевтической проблемой. Таким образом, если мы заключаем, что исчезновение патологического феномена посредством терапевтических отношений, терапевтической деятельности или в условиях такой деятельности предполагает лечение, тогда речь идёт о лечении.
Нет, это не лечение! Это не лечение, потому что агентом терапии выступает отец. Именно он ведёт основную часть терапевтического диалога. Отец является персонажем истории маленького Ганса. Это не профессионал со стороны, здесь нет возможности судить о его невовлечённости, о его доброжелательном нейтралитете, о всём том, что связано с его дезимпликацией5 [вынесенностью вовне, безучастностью], о продуктивных для субъекта эффектах в случае диалога с дезимплицированным по отношению к его истории персонажем. Напротив, это персонаж, принимая во внимание, каким образом он исполняет свою отцовскую функцию, несёт, несомненно, наибольшую ответственность за возникновение феномена фобии. Иначе говоря, этот агент терапии появляется в ходе самого наблюдения как агент неистово патогенный. И несомненно, что ключевым словом здесь является несостоятельность (carence). По крайней мере, именно это слово я приметил в высказываниях Лакана, чтобы включить в название главы XXI Панталоны матери и несостоятельность отца. На самом деле в этой главе развивается постоянно звучащая в важных высказываниях маленького Ганса тема о разных панталонах его матери. Очевидно, что это не может не срезонировать у нас с вопросом о том, кто носит не панталоны (les culottes), а брюки (la culotte) в доме родителей маленького Ганса. Таким образом подготавливается вторая часть названия о несостоятельности отца.
Несостоятельность ( œrence ) - это слово, означающее нехватку. Оно происходит от латинского сагеге, глагола со значением упустить. Несостоятельность должника означает отсутствие ресурсов для оплаты долга, в более общем смысле - уклонение от своих обязательств, или, по меткому выражению Ле Робер, подразумевает не справиться со своей задачей. Добавим также, что на органическом уровне несостоятельность - это отсутствие элементов, веществ, которые способствуют питанию органической ткани. Таким образом, это слово, смысл которого может быть обсуждаемым, является тем не менее принципиально важным для установления механизма фобии. Это слово можно найти в резюме Лакана на страницах 519-520 Ecrits,
5 см. дезимпликация знания и истины в «Лекциях о Воле к знанию» Фуко
названия этой части Лечение маленького Ганса. Лечение ли это? Ответ на этот вопрос не прост. В любом случае таких ответов много.
Да, это лечение! И чем бы это могло быть другим? Имел место патологический феномен, и этот феномен исчез. Он не исчез сам по себе, хотя мы обоснованно могли бы задаться вопросом, не исчез бы он сам по себе, если бы мы оставили его в покое. Ведь мы наблюдаем большое количество случаев детской фобии, в которых, как кажется, спешить некуда. Порой мы видим, что такой феномен отступает без специального терапевтического вмешательства. Но в этом случае феномен отступил только в условиях довольно сложных отношений с агентами, представляющими собой агентов терапии, со специально мобилизованной вокруг феномена терапевтической проблемой. Таким образом, если мы заключаем, что исчезновение патологического феномена посредством терапевтических отношений, терапевтической деятельности или в условиях такой деятельности предполагает лечение, тогда речь идёт о лечении.
Нет, это не лечение! Это не лечение, потому что агентом терапии выступает отец. Именно он ведёт основную часть терапевтического диалога. Отец является персонажем истории маленького Ганса. Это не профессионал со стороны, здесь нет возможности судить о его невовлечённости, о его доброжелательном нейтралитете, о всём том, что связано с его дезимпликацией5 [вынесенностью вовне, безучастностью], о продуктивных для субъекта эффектах в случае диалога с дезимплицированным по отношению к его истории персонажем. Напротив, это персонаж, принимая во внимание, каким образом он исполняет свою отцовскую функцию, несёт, несомненно, наибольшую ответственность за возникновение феномена фобии. Иначе говоря, этот агент терапии появляется в ходе самого наблюдения как агент неистово патогенный. И несомненно, что ключевым словом здесь является несостоятельность (carence). По крайней мере, именно это слово я приметил в высказываниях Лакана, чтобы включить в название главы XXI Панталоны матери и несостоятельность отца. На самом деле в этой главе развивается постоянно звучащая в важных высказываниях маленького Ганса тема о разных панталонах его матери. Очевидно, что это не может не срезонировать у нас с вопросом о том, кто носит не панталоны (les culottes), а брюки (la culotte) в доме родителей маленького Ганса. Таким образом подготавливается вторая часть названия о несостоятельности отца.
Несостоятельность ( œrence ) - это слово, означающее нехватку. Оно происходит от латинского сагеге, глагола со значением упустить. Несостоятельность должника означает отсутствие ресурсов для оплаты долга, в более общем смысле - уклонение от своих обязательств, или, по меткому выражению Ле Робер, подразумевает не справиться со своей задачей. Добавим также, что на органическом уровне несостоятельность - это отсутствие элементов, веществ, которые способствуют питанию органической ткани. Таким образом, это слово, смысл которого может быть обсуждаемым, является тем не менее принципиально важным для установления механизма фобии. Это слово можно найти в резюме Лакана на страницах 519-520 Ecrits,
5 см. дезимпликация знания и истины в «Лекциях о Воле к знанию» Фуко где он говорит о маленьком Гансе пяти лет, брошенном на произвол судьбы вследствие несостоятельностей его символической среды.
Конечно, стоит прокомментировать каждый термин этого тщательно взвешенного выражения, обобщающего представление Семинара IV. Брошенный на произвол судьбы (laissé en plan) маленький Ганс напоминает нам о ситуации председателя суда Шребера. Это прямое заимствование из словаря Шребера, когда он после ухода божеств в ужасе обнаруживает себя осиротевшим, брошенным на произвол судьбы, поддаваясь наслаждению, которое для него переходит в реальное. Таким образом, это выражение заимствуется из дискурса самого председателя суда Шребера, из самого психотического дискурса.
Есть также прилагательное символический, которое имеет важное значение, поскольку благодаря ему мы избегаем того, чтобы поместить эту несостоятельность в простой регистр реальности. Если Лакан впоследствии отказался от термина «несостоятельность» и даже критиковал его, то лишь постольку, поскольку он может навести на мысль, что нехватка в реальности окружения - отсутствие отца, матери или такого-то элемента семейной констелляции - могла ipso facto иметь патогенные последствия. Здесь Лакан не говорит о реальности окружающей среды, он не говорит об отсутствии или присутствии какого-либо персонажа в реальности, он говорит о символической среде. Другими словами, речь идёт не столько о персонажах, сколько о символических функциях, которые им следует более или менее хорошо исполнить. Там в тексте уточняется, что речь идёт о несостоятельности как несостоятельности символической и возможном провальном отсутствии того или иного персонажа на месте символа. На самом деле Лакан указывает на отсутствие реального отца, отца в реальности на месте символа, на провал символической функции отца. И Лакан расшифровывает скрытое постоянное, по крайней мере регулярное воззвание маленького Ганса к отцу, чтобы он эту функцию исполнил.
Почему несостоятельностей? Почему в тексте Ecrits множественное число, а в Семинаре IV мы находим этот термин в единственном? Потому что сущностная несостоятельность определяется смещением всех персонажей, призванных исполнять функции, составляющие этот символический антураж, - это то, что Лакан описывал по другим поводам, ссылаясь на конфигурацию, предшествующую рождению субъекта, используя выражение означающей констелляции. Здесь, поскольку маленькому Гансу уже пять лет, используется выражение символического антуража.
Таким образом, в этом Семинаре есть знаки дисфункции символического антуража. Тогда как один автор, критикуемый Лаканом в первой главе, пеняет на недостаток точности наблюдения за родительской парой, указывая на то, что Фрейду следовало бы сказать больше об отношениях родителей; Лакан, напротив, с удовольствием отмечает оставленные Фрейдом намёки, порой мимолётные, которые дают нам представление об этой паре. Дело не только в том, что отец Ганса слишком добр, ведь Ганс прямо упрекает его в этом и просит быть злым. Лакан ссылается в этом месте на статью, опубликованную в International Journal, в которой упоминается та самая большая беседа Ганса с его отцом, где этот пятилетний малыш использует похожие на
где он говорит о маленьком Гансе пяти лет, брошенном на произвол судьбы вследствие несостоятельностей его символической среды.
Конечно, стоит прокомментировать каждый термин этого тщательно взвешенного выражения, обобщающего представление Семинара IV. Брошенный на произвол судьбы (laissé en plan) маленький Ганс напоминает нам о ситуации председателя суда Шребера. Это прямое заимствование из словаря Шребера, когда он после ухода божеств в ужасе обнаруживает себя осиротевшим, брошенным на произвол судьбы, поддаваясь наслаждению, которое для него переходит в реальное. Таким образом, это выражение заимствуется из дискурса самого председателя суда Шребера, из самого психотического дискурса.
Есть также прилагательное символический, которое имеет важное значение, поскольку благодаря ему мы избегаем того, чтобы поместить эту несостоятельность в простой регистр реальности. Если Лакан впоследствии отказался от термина «несостоятельность» и даже критиковал его, то лишь постольку, поскольку он может навести на мысль, что нехватка в реальности окружения - отсутствие отца, матери или такого-то элемента семейной констелляции - могла ipso facto иметь патогенные последствия. Здесь Лакан не говорит о реальности окружающей среды, он не говорит об отсутствии или присутствии какого-либо персонажа в реальности, он говорит о символической среде. Другими словами, речь идёт не столько о персонажах, сколько о символических функциях, которые им следует более или менее хорошо исполнить. Там в тексте уточняется, что речь идёт о несостоятельности как несостоятельности символической и возможном провальном отсутствии того или иного персонажа на месте символа. На самом деле Лакан указывает на отсутствие реального отца, отца в реальности на месте символа, на провал символической функции отца. И Лакан расшифровывает скрытое постоянное, по крайней мере регулярное воззвание маленького Ганса к отцу, чтобы он эту функцию исполнил.
Почему несостоятельностей? Почему в тексте Ecrits множественное число, а в Семинаре IV мы находим этот термин в единственном? Потому что сущностная несостоятельность определяется смещением всех персонажей, призванных исполнять функции, составляющие этот символический антураж, - это то, что Лакан описывал по другим поводам, ссылаясь на конфигурацию, предшествующую рождению субъекта, используя выражение означающей констелляции. Здесь, поскольку маленькому Гансу уже пять лет, используется выражение символического антуража.
Таким образом, в этом Семинаре есть знаки дисфункции символического антуража. Тогда как один автор, критикуемый Лаканом в первой главе, пеняет на недостаток точности наблюдения за родительской парой, указывая на то, что Фрейду следовало бы сказать больше об отношениях родителей; Лакан, напротив, с удовольствием отмечает оставленные Фрейдом намёки, порой мимолётные, которые дают нам представление об этой паре. Дело не только в том, что отец Ганса слишком добр, ведь Ганс прямо упрекает его в этом и просит быть злым. Лакан ссылается в этом месте на статью, опубликованную в International Journal, в которой упоминается та самая большая беседа Ганса с его отцом, где этот пятилетний малыш использует похожие на библейские выражения, объясняя отцу, чего он от него ждёт. Так что дело не только в том, что отец слишком добр к маленькому Гансу и что последний требует от него более жёсткого или даже более жестокого исполнения этой функции, дело в том, что он, несомненно, как отмечает Лакан, точно так же несостоятелен в отношениях с матерью, которая, кажется, делает всё, что ей заблагорассудится. До такой степени, что мы можем отметить отсутствие в наблюдении и в комментариях Фрейда, отсутствие вообще-то весьма примечательное, каких-либо намёков на наблюдение пресловутой первосцены. У нас не складывается впечатления, что в случае этой пары есть основания предполагать возможность того, что маленький Ганс мог случайно наблюдать совокупление отца и матери. Этот вопрос в какой-то момент возникает, делается намёк, на что отец отвечает: «Совершенно исключено!» Связано ли это с особыми мерами предосторожности, которые, как сообщается, были приняты в этом отношении? Лакан думает иначе. Он предполагает, что если у Фрейда нет в этом сомнений, то потому, что он знал, о чём идёт речь, поскольку мать маленького Ганса была его пациенткой, и, конечно, он имел возможность выслушать её жалобы на отсутствие желания у отца. Очевидно, что для того, чтобы таким образом скомпоновать эти данные, при чтении требуется обратить на них пристальное внимание, и один из интересов, которому стоит следовать в прочтении этого тщательного комментария Лакана, заключается в том, чтобы увидеть, как он использует эти мимолётные намёки Фрейда. Чего нельзя отрицать, так это того, что является горизонтом этого наблюдения, а именно разделения родителей. После того, о чём повествует наблюдение случая, отец и мать разойдутся, и в некотором смысле можно сказать, что фобия маленького Ганса предвосхищает это событие.
Итак, я сказал, что нет, это не лечение, потому что отец - и ещё как! - вовлечён в патологию этого случая. Также я сказал, что да, это лечение. Это лечение, потому что присутствует Фрейд и отцом, агентом терапии, периодически дистанционно руководит Фрейд. Кроме того, существует огромный перенос на Фрейда у всей семьи: у отца, у матери и у малыша. Это были первые последователи Фрейда в то время, когда в Вене 1908 года его детище обрело свой полный смысл, который необходимо было отстаивать. Они были пионерами психоанализа. Маленький Ганс оказался сразу внутри. Он, должно быть - почему бы и нет? - слышал, как его родители говорили о Фрейде за столом, его не пришлось уговаривать как-нибудь зайти к профессору самому. На протяжении всего наблюдения мы замечаем, что он сам понимает, что все его высказывания передаются Фрейду. Если мне не изменяет память, как-то раз, когда отец делал заметки, маленький Ганс сказал ему: «Запиши это как следует, чтобы рассказать профессору». Другими словами, он действительно постоянно предполагает довлеющее присутствие Фрейда. Кроме того, если Фрейд сам - когда он обращается к маленькому Гансу, применяя ту самую знаменитую конструкцию ещё до того как ты родился, Милостивый Бог уже знал, что появится маленький мальчик, которого назовут Ганс, и у него будут такие-то и такие-то отношения с папой и мамой..., - если Фрейд сам занимает эту позицию Бога-Отца, чтобы научить маленького Ганса, чтобы предоставить ему эту по-настоящему массивную порцию знания, то делает он это, понимая, что лечение происходит через посредника, которым является отец, он усиливает свою интервенцию, укрепляет её,
библейские выражения, объясняя отцу, чего он от него ждёт. Так что дело не только в том, что отец слишком добр к маленькому Гансу и что последний требует от него более жёсткого или даже более жестокого исполнения этой функции, дело в том, что он, несомненно, как отмечает Лакан, точно так же несостоятелен в отношениях с матерью, которая, кажется, делает всё, что ей заблагорассудится. До такой степени, что мы можем отметить отсутствие в наблюдении и в комментариях Фрейда, отсутствие вообще-то весьма примечательное, каких-либо намёков на наблюдение пресловутой первосцены. У нас не складывается впечатления, что в случае этой пары есть основания предполагать возможность того, что маленький Ганс мог случайно наблюдать совокупление отца и матери. Этот вопрос в какой-то момент возникает, делается намёк, на что отец отвечает: «Совершенно исключено!» Связано ли это с особыми мерами предосторожности, которые, как сообщается, были приняты в этом отношении? Лакан думает иначе. Он предполагает, что если у Фрейда нет в этом сомнений, то потому, что он знал, о чём идёт речь, поскольку мать маленького Ганса была его пациенткой, и, конечно, он имел возможность выслушать её жалобы на отсутствие желания у отца. Очевидно, что для того, чтобы таким образом скомпоновать эти данные, при чтении требуется обратить на них пристальное внимание, и один из интересов, которому стоит следовать в прочтении этого тщательного комментария Лакана, заключается в том, чтобы увидеть, как он использует эти мимолётные намёки Фрейда. Чего нельзя отрицать, так это того, что является горизонтом этого наблюдения, а именно разделения родителей. После того, о чём повествует наблюдение случая, отец и мать разойдутся, и в некотором смысле можно сказать, что фобия маленького Ганса предвосхищает это событие.
Итак, я сказал, что нет, это не лечение, потому что отец - и ещё как! - вовлечён в патологию этого случая. Также я сказал, что да, это лечение. Это лечение, потому что присутствует Фрейд и отцом, агентом терапии, периодически дистанционно руководит Фрейд. Кроме того, существует огромный перенос на Фрейда у всей семьи: у отца, у матери и у малыша. Это были первые последователи Фрейда в то время, когда в Вене 1908 года его детище обрело свой полный смысл, который необходимо было отстаивать. Они были пионерами психоанализа. Маленький Ганс оказался сразу внутри. Он, должно быть - почему бы и нет? - слышал, как его родители говорили о Фрейде за столом, его не пришлось уговаривать как-нибудь зайти к профессору самому. На протяжении всего наблюдения мы замечаем, что он сам понимает, что все его высказывания передаются Фрейду. Если мне не изменяет память, как-то раз, когда отец делал заметки, маленький Ганс сказал ему: «Запиши это как следует, чтобы рассказать профессору». Другими словами, он действительно постоянно предполагает довлеющее присутствие Фрейда. Кроме того, если Фрейд сам - когда он обращается к маленькому Гансу, применяя ту самую знаменитую конструкцию ещё до того как ты родился, Милостивый Бог уже знал, что появится маленький мальчик, которого назовут Ганс, и у него будут такие-то и такие-то отношения с папой и мамой..., - если Фрейд сам занимает эту позицию Бога-Отца, чтобы научить маленького Ганса, чтобы предоставить ему эту по-настоящему массивную порцию знания, то делает он это, понимая, что лечение происходит через посредника, которым является отец, он усиливает свою интервенцию, укрепляет её, делает её массивной, чтобы она утвердила его в качестве субъекта, предположительно знающего, на весь период наблюдения. Если Фрейд во время случившейся встречи говорит с маленьким Гансом в таком тоне, с таким нажимом и в такой довольно прямой манере, можно предположить, что он знает, что делает, и делает это для того, чтобы одним махом перескочить через отца и обеспечить гарантию терапии как гарантию происходящего процесса. Таким образом, дело не только в дистанционном руководстве и своего рода раздвоенной между отцом и Фрейдом фигуре терапевта, но и в том, что весьма похоже, что Фрейд делает всё от него зависящее, чтобы занять отчётливо асимметричную позицию и несколькими словами зафиксировать своё положение в качестве поворотной оси всего процесса. Кроме того, мы хорошо видим, что внимание, уделяемое маленькому Гансу, приводит к производству необычайного изобилия продуктов. Он идёт на поправку. Речь набирает обороты. Несомненно, всё это предлагается к обсуждению. В наблюдении присутствует нечто искусственное, поскольку маленький Ганс в действительности поощряется к развитию фобии, но, по сути, это лишь точно отражает сам аналитический элемент наблюдения, а именно то, что его наделили желанием говорить - эта искусственная уловка, в конце концов, является не чем иным, как следствием самого по себе аналитического ухищрения. Почему бы, в самом деле, не признать, что этот симптом приобрёл более плотную форму в результате проводимого терапевтического вмешательства? Итак, это лечение постольку, поскольку в нём присутствует Фрейд, причём присутствует и в той позиции, которая была ему предложена, и в той позиции, которую он сам акцентировал и усилил.
Я только что сказал, что это наблюдение, по представлению самого Лакана, ценно своей полнотой. Оно действительно выглядит как завершённый в терапевтическом измерении путь. На страницах своего текста Инстанция буквы Лакан подчёркивает его завершённость, когда отмечает, что Маленький Ганс развивает все возможные комбинации ограниченного числа означающих. Я акцентирую здесь внимание на слове все. Или опять же Лакан упоминает - я уже цитировал это - исчерпание всех возможных форм невозможности в этом наблюдении. В этом заключается ценность наблюдения, но в то же время Лакан ставит под сомнение то, что в нём можно увидеть парадигму аналитического лечения. Он не уверен, и здесь возникает вопрос: можно ли в рамках, собственно говоря, аналитического лечения представить себе такое исчерпание, такую полноту? В любом случае это повод для вопросов и сопоставлений. В каком смысле мы можем сказать о самом аналитическом лечении, что в нём исчерпываются все возможные формы? В этом заключается ценность наблюдения, но в то же время поднимается вопрос, уместно ли здесь говорить о завершении анализа в том смысле, как мы говорим об исцелении в процессе лечения (résolution curative), и соответствует ли то, что является завершением анализа, этому критерию полноты. Другими словами, вопрос ставится таким образом: относится ли «итого пасса» (le donc de la passe) к типу наблюдения за маленьким Гансом? Означает ли это «итого» завершение исчерпания или нет? И в какой степени, в каком смысле в аналитическом опыте существует ограниченное число означающих?
делает её массивной, чтобы она утвердила его в качестве субъекта, предположительно знающего, на весь период наблюдения. Если Фрейд во время случившейся встречи говорит с маленьким Гансом в таком тоне, с таким нажимом и в такой довольно прямой манере, можно предположить, что он знает, что делает, и делает это для того, чтобы одним махом перескочить через отца и обеспечить гарантию терапии как гарантию происходящего процесса. Таким образом, дело не только в дистанционном руководстве и своего рода раздвоенной между отцом и Фрейдом фигуре терапевта, но и в том, что весьма похоже, что Фрейд делает всё от него зависящее, чтобы занять отчётливо асимметричную позицию и несколькими словами зафиксировать своё положение в качестве поворотной оси всего процесса. Кроме того, мы хорошо видим, что внимание, уделяемое маленькому Гансу, приводит к производству необычайного изобилия продуктов. Он идёт на поправку. Речь набирает обороты. Несомненно, всё это предлагается к обсуждению. В наблюдении присутствует нечто искусственное, поскольку маленький Ганс в действительности поощряется к развитию фобии, но, по сути, это лишь точно отражает сам аналитический элемент наблюдения, а именно то, что его наделили желанием говорить - эта искусственная уловка, в конце концов, является не чем иным, как следствием самого по себе аналитического ухищрения. Почему бы, в самом деле, не признать, что этот симптом приобрёл более плотную форму в результате проводимого терапевтического вмешательства? Итак, это лечение постольку, поскольку в нём присутствует Фрейд, причём присутствует и в той позиции, которая была ему предложена, и в той позиции, которую он сам акцентировал и усилил.
Я только что сказал, что это наблюдение, по представлению самого Лакана, ценно своей полнотой. Оно действительно выглядит как завершённый в терапевтическом измерении путь. На страницах своего текста Инстанция буквы Лакан подчёркивает его завершённость, когда отмечает, что Маленький Ганс развивает все возможные комбинации ограниченного числа означающих. Я акцентирую здесь внимание на слове все. Или опять же Лакан упоминает - я уже цитировал это - исчерпание всех возможных форм невозможности в этом наблюдении. В этом заключается ценность наблюдения, но в то же время Лакан ставит под сомнение то, что в нём можно увидеть парадигму аналитического лечения. Он не уверен, и здесь возникает вопрос: можно ли в рамках, собственно говоря, аналитического лечения представить себе такое исчерпание, такую полноту? В любом случае это повод для вопросов и сопоставлений. В каком смысле мы можем сказать о самом аналитическом лечении, что в нём исчерпываются все возможные формы? В этом заключается ценность наблюдения, но в то же время поднимается вопрос, уместно ли здесь говорить о завершении анализа в том смысле, как мы говорим об исцелении в процессе лечения (résolution curative), и соответствует ли то, что является завершением анализа, этому критерию полноты. Другими словами, вопрос ставится таким образом: относится ли «итого пасса» (le donc de la passe) к типу наблюдения за маленьким Гансом? Означает ли это «итого» завершение исчерпания или нет? И в какой степени, в каком смысле в аналитическом опыте существует ограниченное число означающих? Если рассмотреть само продвижение наблюдения в целом и комментарий, который можно к нему дать, то этот вопрос о соотношении между лечебным разрешением и завершением анализа, конечно, остаётся открытым. По сути, этот комментарий состоит в том, чтобы вернуться от патологической проблемы фобии к психической проблеме. Те самые термины, которые использует Лакан, такие как решение, разрешение, уравнение этого решения, пример которого есть в этом Семинаре, - уравнение, предвосхищающее знаменитую формулу отцовской метафоры, - все эти термины, которые там используются, показывают, что за этим феноменом стоит одна проблема. Фобия - это не проблема. Фобия - это попытка решить проблему. Конечно, это неприемлемое решение. Оно неприемлемо, потому что приводит к недееспособности маленького Ганса. Оно мешает ему гулять, изолирует его в кругу семьи. Это решение, которое принесёт ему много страданий. Можно сказать, что оно делает его нежизнеспособным. Нежизнеспособность решения должна быть подчёркнута как таковая. Лакан говорит, что когда Маленький Ганс выходит из фобии, он восстанавливает жизнеспособныйрегистр объектных отношений. Итак, перед вами прежде всего нежизнеспособность. Все невротические патологические феномены можно рассматривать в качестве попыток найти решение, которое поверяется тем, приемлемо ли оно для жизни или нет. Итак, что там в этой пригодности для жизни и нежизнеспособности? В чём смысл этой несколько громоздкой и расплывчатой отсылки? Можно было бы начать с того, что сказать, что в конечном итоге речь идёт о связи с наслаждением, водворяющемся в субъекте.
Если фобия - это не проблема, но попытка решения проблемы, то в чём состоит проблема? По сути, с одной стороны, проблема - это некая символическая проблема. Это можно обобщить с помощью выражения символическая несостоятельность отца, означающего, что символическая среда маленького Ганса способна предложить ему лишь неисправно работающий аппарат. Можно сказать, что проблема в этом. Но и не совсем так, потому что символ, как Лакан формулирует его в этом Семинаре, - это скорее решение, это скорее средство решения. Несомненно, проблема в том, что у маленького Ганса нет символических средств решения и что в своей речи, активированной терапевтическим вмешательством, он ищет символические элементы решения. Действительно, можно сказать, что в ходе преобразований его речи наблюдается постепенная символизация различных элементов, с которыми он имеет дело. Видно, как ситуация, с которой он имеет дело, помещается в символические элементы. В этом Семинаре можно увидеть, как элементы, грубо говоря, воображаемые, мало-помалу символизируются. Несмотря на то, что символическое является средством решения, проблема ещё не решена - как раз эта проблема и мобилизует символическое в качестве средства решения. Но сама проблема ещё не решена. Проблема здесь - это проблема наслаждения. И гораздо позже, когда Лакан в эпоху узлов в нескольких предложениях резюмирует случай маленького Ганса, именно на этом он сделает акцент: на проблеме наслаждения, стоящей перед маленьким Гансом. Последний мобилизует символические средства решения, но на уровне этих средств нечто оказывается недоступным, что вынуждает его к временному решению.
Если рассмотреть само продвижение наблюдения в целом и комментарий, который можно к нему дать, то этот вопрос о соотношении между лечебным разрешением и завершением анализа, конечно, остаётся открытым. По сути, этот комментарий состоит в том, чтобы вернуться от патологической проблемы фобии к психической проблеме. Те самые термины, которые использует Лакан, такие как решение, разрешение, уравнение этого решения, пример которого есть в этом Семинаре, - уравнение, предвосхищающее знаменитую формулу отцовской метафоры, - все эти термины, которые там используются, показывают, что за этим феноменом стоит одна проблема. Фобия - это не проблема. Фобия - это попытка решить проблему. Конечно, это неприемлемое решение. Оно неприемлемо, потому что приводит к недееспособности маленького Ганса. Оно мешает ему гулять, изолирует его в кругу семьи. Это решение, которое принесёт ему много страданий. Можно сказать, что оно делает его нежизнеспособным. Нежизнеспособность решения должна быть подчёркнута как таковая. Лакан говорит, что когда Маленький Ганс выходит из фобии, он восстанавливает жизнеспособныйрегистр объектных отношений. Итак, перед вами прежде всего нежизнеспособность. Все невротические патологические феномены можно рассматривать в качестве попыток найти решение, которое поверяется тем, приемлемо ли оно для жизни или нет. Итак, что там в этой пригодности для жизни и нежизнеспособности? В чём смысл этой несколько громоздкой и расплывчатой отсылки? Можно было бы начать с того, что сказать, что в конечном итоге речь идёт о связи с наслаждением, водворяющемся в субъекте.
Если фобия - это не проблема, но попытка решения проблемы, то в чём состоит проблема? По сути, с одной стороны, проблема - это некая символическая проблема. Это можно обобщить с помощью выражения символическая несостоятельность отца, означающего, что символическая среда маленького Ганса способна предложить ему лишь неисправно работающий аппарат. Можно сказать, что проблема в этом. Но и не совсем так, потому что символ, как Лакан формулирует его в этом Семинаре, - это скорее решение, это скорее средство решения. Несомненно, проблема в том, что у маленького Ганса нет символических средств решения и что в своей речи, активированной терапевтическим вмешательством, он ищет символические элементы решения. Действительно, можно сказать, что в ходе преобразований его речи наблюдается постепенная символизация различных элементов, с которыми он имеет дело. Видно, как ситуация, с которой он имеет дело, помещается в символические элементы. В этом Семинаре можно увидеть, как элементы, грубо говоря, воображаемые, мало-помалу символизируются. Несмотря на то, что символическое является средством решения, проблема ещё не решена - как раз эта проблема и мобилизует символическое в качестве средства решения. Но сама проблема ещё не решена. Проблема здесь - это проблема наслаждения. И гораздо позже, когда Лакан в эпоху узлов в нескольких предложениях резюмирует случай маленького Ганса, именно на этом он сделает акцент: на проблеме наслаждения, стоящей перед маленьким Гансом. Последний мобилизует символические средства решения, но на уровне этих средств нечто оказывается недоступным, что вынуждает его к временному решению. Эту проблему наслаждения можно назвать проблемой фаллического наслаждения. Это вопрос, который ставят перед маленьким Гансом особенные ощущения, приходящие от его полового органа. В тексте Инстанция буквы Лакан, чтобы обозначить эту проблему, говорит так: «Внезапно актуализировавшаяся для него загадка его пола и его существования». Очевидно вместе с тем, что здесь мы ещё довольно далеки от того, чтобы сформулировать вещи в терминах проблемы наслаждения. Существование - это то, что нужно отнести к вопросам маленького Ганса в стиле: где я? кто я такой? почему я? Можно сказать, что ансамбль этих вопросов представлен в его жизни присутствием младшей сестры, маленькой Анны. Примечательно, что, во всяком случае, для Фрейда это отношение старшего к младшему всегда было особенно важным пунктом, которому он приписывает множество особых трудностей в психическом развитии старшего.
Вы можете взять текст Фрейда, который называется Конструкция в анализе, где он показывает нам конструкцию в том виде, в каком аналитик может её разработать и сообщить пациенту как дополнение воспоминания, у которого не получается вернуться, как заполнение дыры в последовательности воспоминаний - конструкция в анализе располагается там, где прерывается цепочка воспоминаний. Какой он приводит пример? Какой пример для этой функции конструкции приводит Фрейд в этом тексте? Так вот, это тот факт, что вы хотели забыть момент, когда рождение ещё одного ребёнка помешало вам остаться единоличным владельцем матери. Это и есть дыра или воспоминание, которое нужно вернуть. Этот отрывок кажется намёком на случай маленького Ганса, и это, нужно сказать, весьма примечательно, поскольку выглядит так, что лишает старшего ребёнка обладания матерью не отец, не функция отца, но появление младшего ребёнка. Вот смысл этой конфигурации в разработке Фрейда. В приведённом им примере конструкции именно на появление другого ребёнка возлагаются функции, которые можно было бы считать функциями эдипального отца. Итак, вот какой смысл это может приобрести. Таким образом, мы можем сказать, что для Ганса вопрос существования здесь в первую очередь поддерживается появлением этого другого ребёнка.
Когда Лакан говорит о загадке его пола, это не означает, что Ганс затрудняется непосредственно в отношении того, какого он пола. Речь не идёт непосредственным образом об истерии Ганса. Напротив, на протяжении всего наблюдения он совершенно уверенно проявляет свою мужественность по отношению к маленьким девочкам, дамам, которые могут появиться в его жизни, горничным и так далее. Нельзя сказать, что вопрос пола для Ганса стоит именно таким образом: мужчина я или женщина? Вопрос пола здесь не является истерическим вопросом половой идентичности, но вопросом: что делать с наслаждением полового органа? Но также можно сказать, что этот вопрос пола как вопрос выбора между двумя полами появляется у Ганса, когда в одном моменте он колеблется: отец он или мать. Лакан придаёт большое значение упомянутом выше вопросу.
Если бы я хотел резюмировать проблему и решение, вытекающие из наблюдения, я бы записал это как отношение между фаллическим наслаждением - я ставлю ромб, означающий отношение, - и Именем Отца. Воззвание, которое делается в процессе
Эту проблему наслаждения можно назвать проблемой фаллического наслаждения. Это вопрос, который ставят перед маленьким Гансом особенные ощущения, приходящие от его полового органа. В тексте Инстанция буквы Лакан, чтобы обозначить эту проблему, говорит так: «Внезапно актуализировавшаяся для него загадка его пола и его существования». Очевидно вместе с тем, что здесь мы ещё довольно далеки от того, чтобы сформулировать вещи в терминах проблемы наслаждения. Существование - это то, что нужно отнести к вопросам маленького Ганса в стиле: где я? кто я такой? почему я? Можно сказать, что ансамбль этих вопросов представлен в его жизни присутствием младшей сестры, маленькой Анны. Примечательно, что, во всяком случае, для Фрейда это отношение старшего к младшему всегда было особенно важным пунктом, которому он приписывает множество особых трудностей в психическом развитии старшего.
Вы можете взять текст Фрейда, который называется Конструкция в анализе, где он показывает нам конструкцию в том виде, в каком аналитик может её разработать и сообщить пациенту как дополнение воспоминания, у которого не получается вернуться, как заполнение дыры в последовательности воспоминаний - конструкция в анализе располагается там, где прерывается цепочка воспоминаний. Какой он приводит пример? Какой пример для этой функции конструкции приводит Фрейд в этом тексте? Так вот, это тот факт, что вы хотели забыть момент, когда рождение ещё одного ребёнка помешало вам остаться единоличным владельцем матери. Это и есть дыра или воспоминание, которое нужно вернуть. Этот отрывок кажется намёком на случай маленького Ганса, и это, нужно сказать, весьма примечательно, поскольку выглядит так, что лишает старшего ребёнка обладания матерью не отец, не функция отца, но появление младшего ребёнка. Вот смысл этой конфигурации в разработке Фрейда. В приведённом им примере конструкции именно на появление другого ребёнка возлагаются функции, которые можно было бы считать функциями эдипального отца. Итак, вот какой смысл это может приобрести. Таким образом, мы можем сказать, что для Ганса вопрос существования здесь в первую очередь поддерживается появлением этого другого ребёнка.
Когда Лакан говорит о загадке его пола, это не означает, что Ганс затрудняется непосредственно в отношении того, какого он пола. Речь не идёт непосредственным образом об истерии Ганса. Напротив, на протяжении всего наблюдения он совершенно уверенно проявляет свою мужественность по отношению к маленьким девочкам, дамам, которые могут появиться в его жизни, горничным и так далее. Нельзя сказать, что вопрос пола для Ганса стоит именно таким образом: мужчина я или женщина? Вопрос пола здесь не является истерическим вопросом половой идентичности, но вопросом: что делать с наслаждением полового органа? Но также можно сказать, что этот вопрос пола как вопрос выбора между двумя полами появляется у Ганса, когда в одном моменте он колеблется: отец он или мать. Лакан придаёт большое значение упомянутом выше вопросу.
Если бы я хотел резюмировать проблему и решение, вытекающие из наблюдения, я бы записал это как отношение между фаллическим наслаждением - я ставлю ромб, означающий отношение, - и Именем Отца. Воззвание, которое делается в процессе наблюдения к Имени Отца как к решению, происходит от проблемы, проистекающей из фаллического наслаждения.
J ф ◊ NP
Если я перефразирую тезис, развивающий этот Семинар Лакана, то прозвучит он как то, что проблема фаллического наслаждения неразрешима в эпоху правления матери, когда эта проблема даже не может быть поставлена. И именно поэтому она имеет статус тайны (énigme). Я придаю большое значение этому слову, которое Лакан использует в Ecrits по поводу маленького Ганса. Она имеет статус тайны, то есть это ещё даже не проблема. Это становится проблемой только благодаря символизации, прогрессу символизации. Она разрешима только в эпоху правления отца. Представление о том, что на этом уровне есть тайна, мы найдем в развернутой формуле метафоры отца, когда Лакан в качестве означаемого Желания Матери (DM) запишет х. Желание матери имеет, в качестве означаемого для субъекта, х, который представляет собой матему тайны. Назначение этого х в формуле отцовской метафоры - быть матемой тайны.
DM ф х
Только посредством функционирования отцовской метафоры, то есть замещения означающим Имени Отца означающего Желания Матери - и в этой дробной записи [ NP / DM ] черта имеет другое значение, нежели разделяющая означающее и означаемое черта сопровождающей её [в формуле отцовской метафоры] другой дроби [ DM / x ], вот в чём дело, поэтому я провёл такую стрелку, тогда как там [в первой дроби] черта - это черта замещения, что создаёт двусмысленность в применении Лаканом черты, которая не всегда имеет одно и то же операциональное значение - итак, только посредством замещения Именем Отца означающего Желания Матери эта тайна уступает место фаллическому значению - фаллическому значению, которое Лакан в отцовской метафоре записывает словом фаллос побуквенно - phallus вместо х
NP phallus
- - -
DM
Он пишет фаллос полностью, потому что на самом деле там тоже есть происходящая замена. Если проследить ход этого Семинара, становится заметным, что воображаемый фаллос заменяется на символический. И поэтому в своей формуле, которую Лакан даёт в Ecrits, обозначая фаллос полным словом, он фактически подвёрстывает всё то, что является операцией замещения, которую мы можем
наблюдения к Имени Отца как к решению, происходит от проблемы, проистекающей из фаллического наслаждения.
J ф ◊ NP
Если я перефразирую тезис, развивающий этот Семинар Лакана, то прозвучит он как то, что проблема фаллического наслаждения неразрешима в эпоху правления матери, когда эта проблема даже не может быть поставлена. И именно поэтому она имеет статус тайны (énigme). Я придаю большое значение этому слову, которое Лакан использует в Ecrits по поводу маленького Ганса. Она имеет статус тайны, то есть это ещё даже не проблема. Это становится проблемой только благодаря символизации, прогрессу символизации. Она разрешима только в эпоху правления отца. Представление о том, что на этом уровне есть тайна, мы найдем в развернутой формуле метафоры отца, когда Лакан в качестве означаемого Желания Матери (DM) запишет х. Желание матери имеет, в качестве означаемого для субъекта, х, который представляет собой матему тайны. Назначение этого х в формуле отцовской метафоры - быть матемой тайны.
DM ф х
Только посредством функционирования отцовской метафоры, то есть замещения означающим Имени Отца означающего Желания Матери - и в этой дробной записи [ NP / DM ] черта имеет другое значение, нежели разделяющая означающее и означаемое черта сопровождающей её [в формуле отцовской метафоры] другой дроби [ DM / x ], вот в чём дело, поэтому я провёл такую стрелку, тогда как там [в первой дроби] черта - это черта замещения, что создаёт двусмысленность в применении Лаканом черты, которая не всегда имеет одно и то же операциональное значение - итак, только посредством замещения Именем Отца означающего Желания Матери эта тайна уступает место фаллическому значению - фаллическому значению, которое Лакан в отцовской метафоре записывает словом фаллос побуквенно - phallus вместо х
NP phallus
- - -
DM
Он пишет фаллос полностью, потому что на самом деле там тоже есть происходящая замена. Если проследить ход этого Семинара, становится заметным, что воображаемый фаллос заменяется на символический. И поэтому в своей формуле, которую Лакан даёт в Ecrits, обозначая фаллос полным словом, он фактически подвёрстывает всё то, что является операцией замещения, которую мы можем проследить в этом Семинаре, - замены воображаемого статуса фаллоса на
символический.
Сказать, что наблюдение маленького Ганса, несмотря на его полноту, представляет нам парадигму аналитического лечения, парадигму завершения анализа, мешает то, что решение, о котором идёт речь, решение посредством фобии - это комплекс Эдипа, это позиция эдипова комплекса. Действительно, всё наблюдение в том виде, в каком его комментирует Лакан, показывает нам субъекта, ищущего комплекс Эдипа. Он не ищет потерянного времени, вернее, он ищет потерянное время в начале, ищет рай детской любви с матерью, а затем он оказывается на пути к комплексу Эдипа. Другими словами, фобия в её структурированном виде появляется как призыв эдипова комплекса, воззвание к основополагающему замещению Именем Отца (NP) Желания Матери (DM). Таким образом, мы можем сказать, что клинической основой отцовской метафоры Лакана является наблюдение за маленьким Гансом.
Это такое воззвание к эдипову комплексу, в котором, представив нам означающее лошади как способное принимать чрезвычайно разнообразные значения, Лакан, когда формулирует уравнение решения маленького Ганса и предшествующих ему перестановок, в конечном итоге делает лошадь заменой Имени Отца. Лошадь, фобический объект маленького Ганса, является - если использовать термин Фрейда -эрзацем Имени Отца. Это, кстати, гораздо позже приведёт Лакана к вопросу о том, не является ли на самом деле любое Имя Отца подменным Именем Отца. Когда он задастся этим вопросом, он проведёт семинар Неодураченные заблуждаются (Les non-dupes errent) - конечно, в названии присутствует экивок [название полностью омофонично Les noms du père], но также важно множественное число, которым наделяется Имя Отца. Тогда как в Семинаре IV эта функция, которая пока ещё не названа как таковая (и возникает ближе к концу тома), с необходимостью фигурирует в единственном числе как основная точка пристёжки всей артикуляции, хотя если посмотреть на случай маленького Ганса с другой стороны, то уже можно уловить намёк, что вообще-то Имя Отца является лишь одним Именем Отца в числе других. За этим может последовать переоценка найденного маленьким Гансом решения. В конце концов, он нашёл, в сущности, Имя Отца для себя самого. То, что исчезает в Именах Отца во множественном числе, - это идея типичного решения, тогда как один из постоянно появляющихся комментариев Лакана по поводу найденного маленьким Гансом в процессе лечения решения заключается в том, что он оценивает его относительно типичного решения комплекса Эдипа. То, что Лакан называет типичным решением эдипова комплекса, - это истинное Имя Отца, занявшее своё место, чего, по его мнению, с маленьким Гансом не происходит.
Таким образом, сама идея типичного решения может быть поставлена под вопрос, и она подвергается сомнению, когда Лакан умножает Имена Отца, используя форму множественного числа. Эта лошадь, бесспорно , является могуществом и в то же время переходящим могуществом, которое выступает в качестве связующего элемента, поскольку, с одной стороны, несомненно, она олицетворяет отцовское могущество - на довольно продвинутом этапе наблюдения маленький Ганс отмечает красивую поступь,
проследить в этом Семинаре, - замены воображаемого статуса фаллоса на
символический.
Сказать, что наблюдение маленького Ганса, несмотря на его полноту, представляет нам парадигму аналитического лечения, парадигму завершения анализа, мешает то, что решение, о котором идёт речь, решение посредством фобии - это комплекс Эдипа, это позиция эдипова комплекса. Действительно, всё наблюдение в том виде, в каком его комментирует Лакан, показывает нам субъекта, ищущего комплекс Эдипа. Он не ищет потерянного времени, вернее, он ищет потерянное время в начале, ищет рай детской любви с матерью, а затем он оказывается на пути к комплексу Эдипа. Другими словами, фобия в её структурированном виде появляется как призыв эдипова комплекса, воззвание к основополагающему замещению Именем Отца (NP) Желания Матери (DM). Таким образом, мы можем сказать, что клинической основой отцовской метафоры Лакана является наблюдение за маленьким Гансом.
Это такое воззвание к эдипову комплексу, в котором, представив нам означающее лошади как способное принимать чрезвычайно разнообразные значения, Лакан, когда формулирует уравнение решения маленького Ганса и предшествующих ему перестановок, в конечном итоге делает лошадь заменой Имени Отца. Лошадь, фобический объект маленького Ганса, является - если использовать термин Фрейда -эрзацем Имени Отца. Это, кстати, гораздо позже приведёт Лакана к вопросу о том, не является ли на самом деле любое Имя Отца подменным Именем Отца. Когда он задастся этим вопросом, он проведёт семинар Неодураченные заблуждаются (Les non-dupes errent) - конечно, в названии присутствует экивок [название полностью омофонично Les noms du père], но также важно множественное число, которым наделяется Имя Отца. Тогда как в Семинаре IV эта функция, которая пока ещё не названа как таковая (и возникает ближе к концу тома), с необходимостью фигурирует в единственном числе как основная точка пристёжки всей артикуляции, хотя если посмотреть на случай маленького Ганса с другой стороны, то уже можно уловить намёк, что вообще-то Имя Отца является лишь одним Именем Отца в числе других. За этим может последовать переоценка найденного маленьким Гансом решения. В конце концов, он нашёл, в сущности, Имя Отца для себя самого. То, что исчезает в Именах Отца во множественном числе, - это идея типичного решения, тогда как один из постоянно появляющихся комментариев Лакана по поводу найденного маленьким Гансом в процессе лечения решения заключается в том, что он оценивает его относительно типичного решения комплекса Эдипа. То, что Лакан называет типичным решением эдипова комплекса, - это истинное Имя Отца, занявшее своё место, чего, по его мнению, с маленьким Гансом не происходит.
Таким образом, сама идея типичного решения может быть поставлена под вопрос, и она подвергается сомнению, когда Лакан умножает Имена Отца, используя форму множественного числа. Эта лошадь, бесспорно , является могуществом и в то же время переходящим могуществом, которое выступает в качестве связующего элемента, поскольку, с одной стороны, несомненно, она олицетворяет отцовское могущество - на довольно продвинутом этапе наблюдения маленький Ганс отмечает красивую поступь, горделивость и сияющий ореол лошади, сопоставляя эти черты с чертами отца, -лошадь кажется ему олицетворением отцовского могущества - но, с другой стороны, она заимствует могущество у матери. Одна из её существенных черт - это на самом деле укус, тот укус, которого он боится, имеющий настолько важное значение, что Лакан удостаивает его матемы, поскольку в предложенных им формулах мы в какой-то момент обнаруживаем маленькую букву m, которая является матемой укуса. Укус - это своего рода матема оральных отношений. Существует представление об оральных отношениях, которое заключается в том, чтобы одновременно пожирать и быть сожранным, и этот возврат к оральным отношениям с матерью заключается в том, чтобы пожирать её и бояться, в свою очередь, быть ею сожранным - вот что воплощает собой страх укуса лошади. Как я отметил с помощью размещённой на задней обложке Семинара цитаты, поворотным пунктом является момент, когда этот укус, который отражает сущностное качество оральной матери, становится символизированным и входит в комбинаторный цикл.
Скажем так, в том измерении, где завершение лечения маленького Ганса вращается вокруг разработки Эдипова комплекса, трудно усмотреть в нём лишь понятную парадигму аналитического опыта. С другой стороны, Лакан обращается - я уже говорил об этом - к диагностической оценке решения маленького Ганса. На странице 383 вашего Семинара есть предложенное им толкование одного из последних диалогов маленького Ганса и его отца от 30 апреля, где подчёркнуто, что это не типичное решение Эдипова комплекса, но что отец окончательно и бесповоротно несостоятелен, то есть не в состоянии исполнить посредническую функцию третьей стороны, и что в символической среде маленького Ганса только бабушка, мать отца, оказывается воплощением этой функции. Другими словами, в конечном счете маленький Ганс находит как Имя Отца только бабушку, которая является матерью отца.
Таким образом, когда он признается своему отцу, что он не мать, а отец, что он намеревается быть мужем матери, а сам отец будет дедушкой - это его решение - Лакан интерпретирует эти бескомпромиссные утверждения как то, что на бессознательном уровне имеет выражение: итак, я - мать (donc je suis la mère). Я не привожу демонстрацию целиком, но давайте просто скажем, что она сводится к фразе итак, я мать и к тому факту, что в конечном счёте он останется привязанным на протяжении всего своего существования к воображаемому созданию материнского типа. Вот что стало для него решением проблемы наслаждения - Имя Отца, но Имя Отца, воплощённое матерью отца.
Я оставлю на потом - поскольку я хочу ещё задержаться на этом Семинаре -вопрос, который возникает в связи с этим, по поводу завершающего итак (donc) анализа. То, что возникает в связи с этим, следует тщательно взвесить, и вопрос звучит следующим образом: в какой мере завершение анализа завязано на принятие комплекса Эдипа? Конечно, можно сказать, что в учении Лакана преобладающее значение эдипова комплекса в вопросе завершения анализа сохраняется в течение довольно долгого периода, даже в то время, когда прямые отсылки к Эдипу прекращаются. Например, когда Лакан чуть позже формулирует окончание анализа на
горделивость и сияющий ореол лошади, сопоставляя эти черты с чертами отца, -лошадь кажется ему олицетворением отцовского могущества - но, с другой стороны, она заимствует могущество у матери. Одна из её существенных черт - это на самом деле укус, тот укус, которого он боится, имеющий настолько важное значение, что Лакан удостаивает его матемы, поскольку в предложенных им формулах мы в какой-то момент обнаруживаем маленькую букву m, которая является матемой укуса. Укус - это своего рода матема оральных отношений. Существует представление об оральных отношениях, которое заключается в том, чтобы одновременно пожирать и быть сожранным, и этот возврат к оральным отношениям с матерью заключается в том, чтобы пожирать её и бояться, в свою очередь, быть ею сожранным - вот что воплощает собой страх укуса лошади. Как я отметил с помощью размещённой на задней обложке Семинара цитаты, поворотным пунктом является момент, когда этот укус, который отражает сущностное качество оральной матери, становится символизированным и входит в комбинаторный цикл.
Скажем так, в том измерении, где завершение лечения маленького Ганса вращается вокруг разработки Эдипова комплекса, трудно усмотреть в нём лишь понятную парадигму аналитического опыта. С другой стороны, Лакан обращается - я уже говорил об этом - к диагностической оценке решения маленького Ганса. На странице 383 вашего Семинара есть предложенное им толкование одного из последних диалогов маленького Ганса и его отца от 30 апреля, где подчёркнуто, что это не типичное решение Эдипова комплекса, но что отец окончательно и бесповоротно несостоятелен, то есть не в состоянии исполнить посредническую функцию третьей стороны, и что в символической среде маленького Ганса только бабушка, мать отца, оказывается воплощением этой функции. Другими словами, в конечном счете маленький Ганс находит как Имя Отца только бабушку, которая является матерью отца.
Таким образом, когда он признается своему отцу, что он не мать, а отец, что он намеревается быть мужем матери, а сам отец будет дедушкой - это его решение - Лакан интерпретирует эти бескомпромиссные утверждения как то, что на бессознательном уровне имеет выражение: итак, я - мать (donc je suis la mère). Я не привожу демонстрацию целиком, но давайте просто скажем, что она сводится к фразе итак, я мать и к тому факту, что в конечном счёте он останется привязанным на протяжении всего своего существования к воображаемому созданию материнского типа. Вот что стало для него решением проблемы наслаждения - Имя Отца, но Имя Отца, воплощённое матерью отца.
Я оставлю на потом - поскольку я хочу ещё задержаться на этом Семинаре -вопрос, который возникает в связи с этим, по поводу завершающего итак (donc) анализа. То, что возникает в связи с этим, следует тщательно взвесить, и вопрос звучит следующим образом: в какой мере завершение анализа завязано на принятие комплекса Эдипа? Конечно, можно сказать, что в учении Лакана преобладающее значение эдипова комплекса в вопросе завершения анализа сохраняется в течение довольно долгого периода, даже в то время, когда прямые отсылки к Эдипу прекращаются. Например, когда Лакан чуть позже формулирует окончание анализа на основе фаллической дезидентификации - нужно, чтобы субъект смирился с тем, что он не является фаллосом, хотя его фундаментальное желание заключается в том, чтобы им быть, он должен отказаться от своего итак, я - фаллос, - можно сказать, что это всё ещё каким-то образом относится к структуре комплекса Эдипа. Это опять-таки соотносится с некоторой незавершённостью отцовской метафоры, что оставляет субъекта всё ещё в плену отождествления с фаллосом в желании матери. Другими словами, даже когда проблематика в терминах идентификации и дезидентификации, как кажется, противопоставляет субъекта и фаллос, в конечном итоге всё равно остаётся отсылка к какого-то рода незавершённости в отцовской метафоре. Я оставляю этот вопрос открытым, потому что речь идёт о том, вписывается ли проблематика завершения анализа в Эдип, в том числе в его производные версии, такие как фаллическая дезидентификация, или она решительно выходит за эти пределы.
Я хочу ещё задержаться на этом Семинаре, чтобы сделать попытку раскрыть логику определённого хода, - логику, которая начинается не со случая маленького Ганса, который представляет собой завершающий его этап, - и сначала я хотел бы прояснить место этого семинара в учении Лакана.
Можно сказать, что в разработке лакановского учения первый и второй Семинары идут вместе, как идут вместе Семинары III и IV. Семинар I отправляется от аналитической техники точно так же, как Римская речь в её первой части берёт своё начало от полной и пустой речи. Отправная точка, расположенная в аналитическом опыте, позволила затем осуществить разработку, основная задача которой заключалась в том, чтобы показать разделение воображаемого и символического регистров, то есть шаг за шагом вывести символический регистр из воображаемого регистра, чтобы показать, исходя из этого, структурно определяемую разницу между собственным Я и субъектом. Именно на этой основе Семинар II представляет собой разработку символического, которая акцентирует функцию означающего и конструирует автономию этого измерения.
Именно в этом смысле, хотя, судя по названию, этот Семинар посвящён Я, его сердцевиной является повторение как повторение символическое, поэтому я тогда решил не иллюстрировать его обложку Нарциссом, - есть очень красивая картина Караваджо Нарцисс, которая привлекла моё внимание, - но использовать игральные кости - игральные кости, с помощью которых солдаты разыгрывают мантию Христа, -потому что это Семинар о комбинировании означающих функций. Именно в нём Лакан выстраивает схему из маленьких букв. Именно в нём он ссылается на Украденное письмо, и можно сказать, что завершением этой разработки становится схема в форме Z, которая противопоставляет воображаемую ось и символические отношения. Это схема, которую вы найдёте в тексте Лакана об Украденном письме, и именно её Лакан упоминает уже в начале Семинара IV. Таким образом, это схема, которая иллюстрирует, и прежде всего на основе аналитического опыта, разделение между воображаемым и символическим.
Семинар III и Семинар IV, скажем вкратце, это, с одной стороны, психоз, психозы, а с другой стороны, фобия. Отправной точкой является не аналитический опыт и не метапсихология, как в Семинаре II, а действительно две клинические структуры - две
основе фаллической дезидентификации - нужно, чтобы субъект смирился с тем, что он не является фаллосом, хотя его фундаментальное желание заключается в том, чтобы им быть, он должен отказаться от своего итак, я - фаллос, - можно сказать, что это всё ещё каким-то образом относится к структуре комплекса Эдипа. Это опять-таки соотносится с некоторой незавершённостью отцовской метафоры, что оставляет субъекта всё ещё в плену отождествления с фаллосом в желании матери. Другими словами, даже когда проблематика в терминах идентификации и дезидентификации, как кажется, противопоставляет субъекта и фаллос, в конечном итоге всё равно остаётся отсылка к какого-то рода незавершённости в отцовской метафоре. Я оставляю этот вопрос открытым, потому что речь идёт о том, вписывается ли проблематика завершения анализа в Эдип, в том числе в его производные версии, такие как фаллическая дезидентификация, или она решительно выходит за эти пределы.
Я хочу ещё задержаться на этом Семинаре, чтобы сделать попытку раскрыть логику определённого хода, - логику, которая начинается не со случая маленького Ганса, который представляет собой завершающий его этап, - и сначала я хотел бы прояснить место этого семинара в учении Лакана.
Можно сказать, что в разработке лакановского учения первый и второй Семинары идут вместе, как идут вместе Семинары III и IV. Семинар I отправляется от аналитической техники точно так же, как Римская речь в её первой части берёт своё начало от полной и пустой речи. Отправная точка, расположенная в аналитическом опыте, позволила затем осуществить разработку, основная задача которой заключалась в том, чтобы показать разделение воображаемого и символического регистров, то есть шаг за шагом вывести символический регистр из воображаемого регистра, чтобы показать, исходя из этого, структурно определяемую разницу между собственным Я и субъектом. Именно на этой основе Семинар II представляет собой разработку символического, которая акцентирует функцию означающего и конструирует автономию этого измерения.
Именно в этом смысле, хотя, судя по названию, этот Семинар посвящён Я, его сердцевиной является повторение как повторение символическое, поэтому я тогда решил не иллюстрировать его обложку Нарциссом, - есть очень красивая картина Караваджо Нарцисс, которая привлекла моё внимание, - но использовать игральные кости - игральные кости, с помощью которых солдаты разыгрывают мантию Христа, -потому что это Семинар о комбинировании означающих функций. Именно в нём Лакан выстраивает схему из маленьких букв. Именно в нём он ссылается на Украденное письмо, и можно сказать, что завершением этой разработки становится схема в форме Z, которая противопоставляет воображаемую ось и символические отношения. Это схема, которую вы найдёте в тексте Лакана об Украденном письме, и именно её Лакан упоминает уже в начале Семинара IV. Таким образом, это схема, которая иллюстрирует, и прежде всего на основе аналитического опыта, разделение между воображаемым и символическим.
Семинар III и Семинар IV, скажем вкратце, это, с одной стороны, психоз, психозы, а с другой стороны, фобия. Отправной точкой является не аналитический опыт и не метапсихология, как в Семинаре II, а действительно две клинические структуры - две клинические структуры, которые друг друга дополняют. Результатом - я накануне представил его именно таким образом - комбинации Семинара III и Семинара IV (Семинара IV, в основе которого лежит вопрос о фобии) является текст Лакана под названием О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза, который включает в себя формулу отцовской метафоры. То, что мы узнаём о фобии, -это прямое дополнение к расшифровке психоза: именно сочетание этих двух элементов позволяет Лакану сформулировать отцовскую метафору, добавив к ней тот сторонний элемент, которым является статья Якобсона о метафоре и метонимии.
По сути, если в Семинаре III так много говорится об означающем и означаемом, то потому, что он должен показать, что означающее и означаемое всегда предполагают нечто вроде точки пристёжки. Этот семинар движется к этому предположению -предположение (supposition), слово, которое использует Лакан, и оно так и закрепится, - предположению, что психоз является следствием нехватки первичного означающего. Лакан прорабатывает Verwerfung, отбрасывание, как механизм - механизм отказа от означающего - ещё до того, как скажет, что это за означающее. Выдающейся примечательной чертой этого Семинара III является то, что Лакан развивает механизм как таковой вне зависимости от того, к чему он применяется. Выуживая у Фрейда термин Verwerfung, механизм отказа от первичного означающего, Лакан представляет его как предполагаемый фундаментальный механизм, лежащий в основе паранойи. Это то, что он пытается обосновать, и когда ему нужно привести пример, к чему он прибегает в Семинаре III? Он прибегает к истерии. Он прибегает к истерии, чтобы показать, что символизации женского пола как таковой не существует.
Другими словами, если проследить ход этого Семинара, можно заметить, что там, где нужно воплотить то, чем может быть отсутствие означающего при психозе, происходит отсылка к истерии, чтобы показать, что она действительно является меткой того, что в некотором пункте символическому не хватает материала и что, следовательно, можно помыслить такую вещь, как нехватка означающего.
Срезая углы, можно сказать (хотя сам Лакан так не говорит), что это уже демонстрация нехватки означающего женщина - то, что он позже сформулирует как женщины не существует. Это уже присутствует в двух главах о том, что такое женщина, в Семинаре III. Только в конце Лакан подчёркивает функцию означающего быть отцом, приводит пример столбовой дороги и так далее. Также он приводит хороший пример -вы найдёте его на странице 230 [стр. 272-273 в русском издании] - о том, каким образом происходит компенсация у субъектов, которым не хватает означающего быть отцом, у субъектов, у которых невозможно предположить реализацию означающего отец на символическом уровне. Он показывает, в каком смысле он остаётся образом, остаётся отношением к образу могущества, парализующим отношением, отношением подавления и подражания перед означающим могущества, тогда как на самом деле имеет место примитивная обделённость означающим, которая вызывает компенсации.
Именно в это движение вписывается Семинар IV Объектные отношения. В сущности, при развитом психозе, при развязанном психозе, который преодолел все компенсации, которые могли бы ограничить его мощь, это уже свершилось. Когда
клинические структуры, которые друг друга дополняют. Результатом - я накануне представил его именно таким образом - комбинации Семинара III и Семинара IV (Семинара IV, в основе которого лежит вопрос о фобии) является текст Лакана под названием О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза, который включает в себя формулу отцовской метафоры. То, что мы узнаём о фобии, -это прямое дополнение к расшифровке психоза: именно сочетание этих двух элементов позволяет Лакану сформулировать отцовскую метафору, добавив к ней тот сторонний элемент, которым является статья Якобсона о метафоре и метонимии.
По сути, если в Семинаре III так много говорится об означающем и означаемом, то потому, что он должен показать, что означающее и означаемое всегда предполагают нечто вроде точки пристёжки. Этот семинар движется к этому предположению -предположение (supposition), слово, которое использует Лакан, и оно так и закрепится, - предположению, что психоз является следствием нехватки первичного означающего. Лакан прорабатывает Verwerfung, отбрасывание, как механизм - механизм отказа от означающего - ещё до того, как скажет, что это за означающее. Выдающейся примечательной чертой этого Семинара III является то, что Лакан развивает механизм как таковой вне зависимости от того, к чему он применяется. Выуживая у Фрейда термин Verwerfung, механизм отказа от первичного означающего, Лакан представляет его как предполагаемый фундаментальный механизм, лежащий в основе паранойи. Это то, что он пытается обосновать, и когда ему нужно привести пример, к чему он прибегает в Семинаре III? Он прибегает к истерии. Он прибегает к истерии, чтобы показать, что символизации женского пола как таковой не существует.
Другими словами, если проследить ход этого Семинара, можно заметить, что там, где нужно воплотить то, чем может быть отсутствие означающего при психозе, происходит отсылка к истерии, чтобы показать, что она действительно является меткой того, что в некотором пункте символическому не хватает материала и что, следовательно, можно помыслить такую вещь, как нехватка означающего.
Срезая углы, можно сказать (хотя сам Лакан так не говорит), что это уже демонстрация нехватки означающего женщина - то, что он позже сформулирует как женщины не существует. Это уже присутствует в двух главах о том, что такое женщина, в Семинаре III. Только в конце Лакан подчёркивает функцию означающего быть отцом, приводит пример столбовой дороги и так далее. Также он приводит хороший пример -вы найдёте его на странице 230 [стр. 272-273 в русском издании] - о том, каким образом происходит компенсация у субъектов, которым не хватает означающего быть отцом, у субъектов, у которых невозможно предположить реализацию означающего отец на символическом уровне. Он показывает, в каком смысле он остаётся образом, остаётся отношением к образу могущества, парализующим отношением, отношением подавления и подражания перед означающим могущества, тогда как на самом деле имеет место примитивная обделённость означающим, которая вызывает компенсации.
Именно в это движение вписывается Семинар IV Объектные отношения. В сущности, при развитом психозе, при развязанном психозе, который преодолел все компенсации, которые могли бы ограничить его мощь, это уже свершилось. Когда берутся за случай Шребера, это уже свершилось. И, кроме того, мы имеем дело прежде всего с причинным местом какой-то вещи, которой там нет, и мы всегда оказываемся только где-то в окрестностях. То есть точно так же - как в Мемуарах Шребера есть одна недостающая глава - можно сказать, что в самом психозе самое сложное состоит в том, что то, о чём идёт речь, пробило брешь и что мы всегда находимся где-то на её краю. Это уже свершилось, это прописано.
Фобия, с другой стороны, переносит нас в эпоху разработки отцовской метафоры, и те несколько месяцев, четыре или пять месяцев жизни маленького Ганса, - это тот благословенный момент, когда мы становимся свидетелями окончательной разработки отцовской метафоры, когда ещё есть пространство игры. Есть как бы переходное пространство маленького Ганса, где это ещё не свершилось. Несомненно, происходит окончательная фиксация, но в течение четырёх или пяти месяцев есть ощущение, что происходит игра, - игра в позиции маленького Ганса по отношению к его фундаментальным означающим. В то время как фундаментальным механизмом психоза является отбрасывание, которое в Семинаре III обозначено как отцовское, можно сказать, что здесь вместо этого мы имеем нечто, для обозначения чего у Лакана не нашлось другого слова, кроме как несостоятельность. Не отцовский Verwerfung, а отцовская несостоятельность.
Следует отметить, что в этом Семинаре IV отцовская несостоятельность ещё не вполне приобретает консистентность механизма. Нельзя сказать, что несостоятельность означает, что у маленького Ганса нет означающего отца, но есть некоторый сбой на уровне воплощения этого означающего, как бы несостоятельность воплощения (carence d'incarnation). Здесь и там в этом Семинаре можно обнаружить то, что подпитывает эту концепцию несостоятельности воплощения, которая не сформулирована как таковая и которая в некоторой степени является одной из нехваток этого Семинара, заключающейся в том, что механизм фобии не совсем последователен [не приобрёл консистентности, не доработан]. У нас есть механизм фобии в том смысле, что фобический объект предлагается в качестве эрзаца Имени Отца. Фобический объект -это означающее. Это означающее, которое заменяет операцию Имени Отца, которое совершает её по-своему, но точного представления о несостоятельности воплощения у нас нет. Что создаёт ту особого рода трудность, которая не позволяет отцу в реальности удовлетворительно воплотить символическую функцию? Я не осмелюсь сказать, что это проблема воплощения, которая в других дискуссиях резонирует совершенно иначе, но в некотором смысле это суть вопроса.
Итак, у нас есть отец и его несостоятельность, и, скажем так, нужно понимать, что то, что мы видим на протяжении всего этого Семинара, по крайней мере, второй его части (и это никак не было представлено в Семинаре III, мемуары Шребера не могли бы к этому подвести), то, что мы видим в нём, - это совместное торение концептов отца и фаллоса. Нужно понимать, что до Лакана эта связка, ставшая для нас такой привычной, не имела никаких предпосылок. Вот почему мне подумалось, что главам XII и XIII этого Семинара должны выпасть именно те названия, которые я им дал. Я говорю выпасть [как будто они разыгрываются] потому что в конце концов, когда дело доходит до
берутся за случай Шребера, это уже свершилось. И, кроме того, мы имеем дело прежде всего с причинным местом какой-то вещи, которой там нет, и мы всегда оказываемся только где-то в окрестностях. То есть точно так же - как в Мемуарах Шребера есть одна недостающая глава - можно сказать, что в самом психозе самое сложное состоит в том, что то, о чём идёт речь, пробило брешь и что мы всегда находимся где-то на её краю. Это уже свершилось, это прописано.
Фобия, с другой стороны, переносит нас в эпоху разработки отцовской метафоры, и те несколько месяцев, четыре или пять месяцев жизни маленького Ганса, - это тот благословенный момент, когда мы становимся свидетелями окончательной разработки отцовской метафоры, когда ещё есть пространство игры. Есть как бы переходное пространство маленького Ганса, где это ещё не свершилось. Несомненно, происходит окончательная фиксация, но в течение четырёх или пяти месяцев есть ощущение, что происходит игра, - игра в позиции маленького Ганса по отношению к его фундаментальным означающим. В то время как фундаментальным механизмом психоза является отбрасывание, которое в Семинаре III обозначено как отцовское, можно сказать, что здесь вместо этого мы имеем нечто, для обозначения чего у Лакана не нашлось другого слова, кроме как несостоятельность. Не отцовский Verwerfung, а отцовская несостоятельность.
Следует отметить, что в этом Семинаре IV отцовская несостоятельность ещё не вполне приобретает консистентность механизма. Нельзя сказать, что несостоятельность означает, что у маленького Ганса нет означающего отца, но есть некоторый сбой на уровне воплощения этого означающего, как бы несостоятельность воплощения (carence d'incarnation). Здесь и там в этом Семинаре можно обнаружить то, что подпитывает эту концепцию несостоятельности воплощения, которая не сформулирована как таковая и которая в некоторой степени является одной из нехваток этого Семинара, заключающейся в том, что механизм фобии не совсем последователен [не приобрёл консистентности, не доработан]. У нас есть механизм фобии в том смысле, что фобический объект предлагается в качестве эрзаца Имени Отца. Фобический объект -это означающее. Это означающее, которое заменяет операцию Имени Отца, которое совершает её по-своему, но точного представления о несостоятельности воплощения у нас нет. Что создаёт ту особого рода трудность, которая не позволяет отцу в реальности удовлетворительно воплотить символическую функцию? Я не осмелюсь сказать, что это проблема воплощения, которая в других дискуссиях резонирует совершенно иначе, но в некотором смысле это суть вопроса.
Итак, у нас есть отец и его несостоятельность, и, скажем так, нужно понимать, что то, что мы видим на протяжении всего этого Семинара, по крайней мере, второй его части (и это никак не было представлено в Семинаре III, мемуары Шребера не могли бы к этому подвести), то, что мы видим в нём, - это совместное торение концептов отца и фаллоса. Нужно понимать, что до Лакана эта связка, ставшая для нас такой привычной, не имела никаких предпосылок. Вот почему мне подумалось, что главам XII и XIII этого Семинара должны выпасть именно те названия, которые я им дал. Я говорю выпасть [как будто они разыгрываются] потому что в конце концов, когда дело доходит до выбора названия, не всегда есть очевидный вариант. Не всегда удаётся найти очевидное название для лекции Лакана, исходя из того, что в ней звучит. На определённом уровне прочтения создаётся ощущение того, что он последовательно затрагивает несколько тем, и, только пытаясь простроить содержание главы и найти её место во всём тексте, мы можем уловить или предположить, что уловили, вокруг чего балансирует смысл. Мне показалось выигрышным назвать эти две главы так, как я это сделал: глава XII О комплексе Эдипа, глава XIII О комплексе кастрации.
Потому что на самом деле их два, и Лакан подчёркивает, что его намерение заключается в том, чтобы тесно их увязать, сочленить один с другим. Он говорит об этом на странице 216. Кстати, там есть небольшая ошибка. Он говорит: «Кастрация является знаком драмы Эдипа, поскольку она является вписанным в неё стержнем». Ошибка в опубликованном тексте состоит в том, что там осталось написано он является вписанным в неё стержнем. Он вместо она. В предыдущей версии я, должно быть, написал: «Комплекс кастрации является знаком драмы Эдипа, поскольку он является вписанным в неё стержнем», - после чего я, должно быть, подумал, что это неверно, поскольку это не комплекс кастрации является знаком и стержнем, а сама по себе кастрация, поэтому я удалил комплекс кастрации, чтобы заменить его кастрацией, упустив необходимость заменить местоимение он на она. Так что на странице 216 вы уже можете внести одно исправление.
Лакан уточняет (...вообще-то, Лакан в моей редакции): «Хотя это нигде не сформулировано таким образом, это буквально вписано во все тексты Фрейда». Другими словами, это уже дедукция Лакана - связать Эдипа и кастрацию таким образом. И можно сказать, что секретное название этого Семинара: Функция кастрации. На самом деле это переворачивает всё, о чём идёт речь в Объектных отношениях. На этом этапе Лакановской разработки этот Семинар вносит то, что объект организован кастрацией, что любой вопрос объектных отношений возникает на фоне кастрации.
В том числе это возражение, которое Лакан адресует самому себе. Я озаглавил первую часть Теория нехватки объекта. И первая глава - это возражения и разнообразные насмешки, которым Лакан подвергает других авторов, дураков и идиотов объектных отношений. Ха-ха-ха. Он называет их тексты скопищами перлов. Но, возможно, нам не следует так уж увлекаться этой постановкой, которая была актуальна в то время. В действительности идея нехватки объекта - это в первую очередь возражение, которое Лакан выдвигает против самого себя. Поскольку, чем до этого был для него объект? До этого момента для Лакана объектом было малое а, симметричное а', то есть собственное Я. Его основным примером было то, что мы можем найти в структуризации Стадии зеркала (о чём мне нужно будет сказать несколько слов чуть позже). Он продумывал объектные отношения, прежде всего исходя из нарциссизма. В соответствии с тем, что говорит Фрейд, либидо собственного Я перетекает, инвестируется в объект, может возвращаться в собственное Я и так далее. Точно так же желание до сих пор для Лакана было связано прежде всего с образом, оно принадлежало воображаемому регистру. И если задаться вопросом, где находится желание на схеме Лакана, можно сказать, что сначала оно находится между а и а', между
выбора названия, не всегда есть очевидный вариант. Не всегда удаётся найти очевидное название для лекции Лакана, исходя из того, что в ней звучит. На определённом уровне прочтения создаётся ощущение того, что он последовательно затрагивает несколько тем, и, только пытаясь простроить содержание главы и найти её место во всём тексте, мы можем уловить или предположить, что уловили, вокруг чего балансирует смысл. Мне показалось выигрышным назвать эти две главы так, как я это сделал: глава XII О комплексе Эдипа, глава XIII О комплексе кастрации.
Потому что на самом деле их два, и Лакан подчёркивает, что его намерение заключается в том, чтобы тесно их увязать, сочленить один с другим. Он говорит об этом на странице 216. Кстати, там есть небольшая ошибка. Он говорит: «Кастрация является знаком драмы Эдипа, поскольку она является вписанным в неё стержнем». Ошибка в опубликованном тексте состоит в том, что там осталось написано он является вписанным в неё стержнем. Он вместо она. В предыдущей версии я, должно быть, написал: «Комплекс кастрации является знаком драмы Эдипа, поскольку он является вписанным в неё стержнем», - после чего я, должно быть, подумал, что это неверно, поскольку это не комплекс кастрации является знаком и стержнем, а сама по себе кастрация, поэтому я удалил комплекс кастрации, чтобы заменить его кастрацией, упустив необходимость заменить местоимение он на она. Так что на странице 216 вы уже можете внести одно исправление.
Лакан уточняет (...вообще-то, Лакан в моей редакции): «Хотя это нигде не сформулировано таким образом, это буквально вписано во все тексты Фрейда». Другими словами, это уже дедукция Лакана - связать Эдипа и кастрацию таким образом. И можно сказать, что секретное название этого Семинара: Функция кастрации. На самом деле это переворачивает всё, о чём идёт речь в Объектных отношениях. На этом этапе Лакановской разработки этот Семинар вносит то, что объект организован кастрацией, что любой вопрос объектных отношений возникает на фоне кастрации.
В том числе это возражение, которое Лакан адресует самому себе. Я озаглавил первую часть Теория нехватки объекта. И первая глава - это возражения и разнообразные насмешки, которым Лакан подвергает других авторов, дураков и идиотов объектных отношений. Ха-ха-ха. Он называет их тексты скопищами перлов. Но, возможно, нам не следует так уж увлекаться этой постановкой, которая была актуальна в то время. В действительности идея нехватки объекта - это в первую очередь возражение, которое Лакан выдвигает против самого себя. Поскольку, чем до этого был для него объект? До этого момента для Лакана объектом было малое а, симметричное а', то есть собственное Я. Его основным примером было то, что мы можем найти в структуризации Стадии зеркала (о чём мне нужно будет сказать несколько слов чуть позже). Он продумывал объектные отношения, прежде всего исходя из нарциссизма. В соответствии с тем, что говорит Фрейд, либидо собственного Я перетекает, инвестируется в объект, может возвращаться в собственное Я и так далее. Точно так же желание до сих пор для Лакана было связано прежде всего с образом, оно принадлежало воображаемому регистру. И если задаться вопросом, где находится желание на схеме Лакана, можно сказать, что сначала оно находится между а и а', между собственным Я и воображаемым объектом. Однако Семинар IV приведёт к совершенно другой схеме - двухэтажной схеме, которую Лакан любопытным образом назовёт Графом желания.
Почему он назовёт это Графом желания? Из-за того принципиально важного новшества, которое вносит этот Семинар IV, коим является изменение статуса объекта желания и самого желания. Конечно, в Семинаре IV Лакан говорит о воображаемом объекте желания, которым является фаллос в качестве фаллоса воображаемого, он тем более воображаемый, поскольку первый фаллос, о котором заходит речь, это фаллос женский. Но этот Семинар проводится для того, чтобы показать, что этот объект желания связан с символическим. Связка объекта желания и символического - вот что называется кастрацией. Дело в том, что мы не можем клинически позиционировать объект желания просто как один из полюсов этого движения либидо взад-вперёд, как то, что наполняется или опустошается либидо в воображаемом регистре, дело в том, что объект желания занимает своё место благодаря символической кастрации. Итак, первый шаг, который делается в Семинаре IV, состоит в том, чтобы показать, каким образом объект желания, каким бы воображаемым он ни был, занимает своё место в связи с символическим и символической кастрацией.
Вторым моментом, который будет окончательно сформулирован в Семинаре V, станет демонстрация символического статуса самого желания, а именно того, что желание не находится на воображаемой оси, что желание - это определённое отношение означающего и означаемого. Об этом не идёт речи в Семинаре IV, но в следующем будет показано, что желание следует расположить в символическом, что это определённое отношение означающего и означаемого и даже что в схеме отношений означающего и означаемого желание можно рассматривать как означаемое требования или как вытеснение требования:
s d
Этой фундаментальной матемы отношения требования и желания нет в Объектных отношениях, но она является компасом Лакана в Семинарах V и VI, где выстраиваемым фундаментальным концептом становится концепт желания - как вы знаете, Семинар VI называется Желание и его интерпретация. По сути, в Семинаре IV мы становимся свидетелями перехода от воображаемого объекта желания к символическому, что происходит в следующей последовательности. Во-первых, воображаемый объект желания - это фаллос. Во-вторых, фаллос - это прежде всего то, чего не хватает. И, в-третьих, только с помощью символического можно осмыслить функцию этой нехватки, поскольку символ - это убийство вещи. В этом смысле Семинар IV представляет собой возражение, выдвинутое Лаканом против Лакана. Основополагающим в объекте не может быть то, что притягивает желание, поскольку,
собственным Я и воображаемым объектом. Однако Семинар IV приведёт к совершенно другой схеме - двухэтажной схеме, которую Лакан любопытным образом назовёт Графом желания.
Почему он назовёт это Графом желания? Из-за того принципиально важного новшества, которое вносит этот Семинар IV, коим является изменение статуса объекта желания и самого желания. Конечно, в Семинаре IV Лакан говорит о воображаемом объекте желания, которым является фаллос в качестве фаллоса воображаемого, он тем более воображаемый, поскольку первый фаллос, о котором заходит речь, это фаллос женский. Но этот Семинар проводится для того, чтобы показать, что этот объект желания связан с символическим. Связка объекта желания и символического - вот что называется кастрацией. Дело в том, что мы не можем клинически позиционировать объект желания просто как один из полюсов этого движения либидо взад-вперёд, как то, что наполняется или опустошается либидо в воображаемом регистре, дело в том, что объект желания занимает своё место благодаря символической кастрации. Итак, первый шаг, который делается в Семинаре IV, состоит в том, чтобы показать, каким образом объект желания, каким бы воображаемым он ни был, занимает своё место в связи с символическим и символической кастрацией.
Вторым моментом, который будет окончательно сформулирован в Семинаре V, станет демонстрация символического статуса самого желания, а именно того, что желание не находится на воображаемой оси, что желание - это определённое отношение означающего и означаемого. Об этом не идёт речи в Семинаре IV, но в следующем будет показано, что желание следует расположить в символическом, что это определённое отношение означающего и означаемого и даже что в схеме отношений означающего и означаемого желание можно рассматривать как означаемое требования или как вытеснение требования:
s d
Этой фундаментальной матемы отношения требования и желания нет в Объектных отношениях, но она является компасом Лакана в Семинарах V и VI, где выстраиваемым фундаментальным концептом становится концепт желания - как вы знаете, Семинар VI называется Желание и его интерпретация. По сути, в Семинаре IV мы становимся свидетелями перехода от воображаемого объекта желания к символическому, что происходит в следующей последовательности. Во-первых, воображаемый объект желания - это фаллос. Во-вторых, фаллос - это прежде всего то, чего не хватает. И, в-третьих, только с помощью символического можно осмыслить функцию этой нехватки, поскольку символ - это убийство вещи. В этом смысле Семинар IV представляет собой возражение, выдвинутое Лаканом против Лакана. Основополагающим в объекте не может быть то, что притягивает желание, поскольку, напротив, и особенно в случае фобического объекта, мы не желаем с ним встречи, таким образом Лакан возражает против простой прямой реверсии объекта и собственного Я.
В следующий раз я продолжу обсуждение этого вопроса и попытаюсь показать, где именно в Объектных отношениях скрывается, хотя, как кажется, его там и в помине нет, объект а Лакана - что станет ещё одним возражением этого Семинара.
2 марта 1994
напротив, и особенно в случае фобического объекта, мы не желаем с ним встречи, таким образом Лакан возражает против простой прямой реверсии объекта и собственного Я.
В следующий раз я продолжу обсуждение этого вопроса и попытаюсь показать, где именно в Объектных отношениях скрывается, хотя, как кажется, его там и в помине нет, объект а Лакана - что станет ещё одним возражением этого Семинара.
2 марта 1994
 и Семинар IV, похоже, от этого отходит. Но на самом деле б о льшая часть этого семинара отведена комментариям Фрейда - комментарию случая юной гомосексуальной пациентки и обширному комментарию случая маленького Ганса, занимающему половину тома. Но отправная точка в любом случае другая, она обозначена чётко и с самого начала придает этому семинару полемический характер.
Я хотел бы снова рассмотреть с вами предпринятое Лаканом вмешательство в психоанализ, чтобы ещё раз определить для этого Семинара его точное место. Говоря в самых общих чертах, первое вмешательство Лакана в психоанализ ознаменовалось тем, что можно назвать антибиологизмом, и отказом подходить к теории Фрейда с точки зрения развития личности. В этом отношении конфронтация Лакана с теорией объектных отношений ожидалась с самого начала его вмешательства в психоанализ. Первое его вмешательство, оформившееся сразу после Второй мировой войны и до начала семинаров в госпитале Святой Анны, использует против биологизации психоанализа то концептуальное оружие, которое представляет собой интерсубъективность. Он сосредотачивается на том, чтобы продемонстрировать, что любой момент индивидуального развития отмечен интерсубъективностью. Это ориентир, который предлагает Стадия зеркала. Стадия зеркала как феномен развития известна давно. Этот феномен был упомянут Дарвином, а затем подхвачен Валлоном, но у Лакана он встраивается в Гегеля - Гегеля-Кожева. Он встроен в отношения Господина и Раба. Такая стадия зеркала конституируется в переживании момента, отмеченного преобладанием видимого, образа, и этот момент Лакан комментирует одновременно как диалектический момент, он открывает всё богатство интерсубъективной диалектики.
Второе вмешательство Лакана, если датировать его Римской речью и Семинаром I, состоит, в сущности, в том, что я назвал бы расщеплением интерсубъективности. Та простая интерсубъективность, соотносимая со Стадией зеркала, подвергается редупликации, и именно эта редупликация интерсубъективности разработана Лаканом в форме его Z-образной схемы, которая противопоставляет воображаемые отношения а-а' и символические отношения S-A. Проще говоря, там, где до сих пор была только одна интерсубъективность, теперь обнаруживается две - в двух разных режимах, которые Лакан на протяжении первых трёх Семинаров развивает, дифференцирует, противопоставляет один другому.
Ретроспективно, когда мы привыкаем к Лакану этого второго вмешательства, к Лакану этой двойной интерсубъективности, мы видим путаницу, которая была раньше, когда мы пытались рассматривать явления с помощью простой интерсубъективности. Мы видим, например, что Лакан должен был прибегнуть к такому термину, как имаго -термин, подобный летучей мыши, который, с одной стороны, является воображаемым, но представляет собой стилизованное, означенное воображаемое, что одновременно наделяет этот термин имаго качествами и функциями символического типа. Мы также видим, что прежде Лакан диалектически выстраивал само воображаемое и мог проиллюстрировать свою теорию Я примером диалектики закона сердца у Гегеля. Другими словами, раньше воображаемое было заполонено символической
и Семинар IV, похоже, от этого отходит. Но на самом деле б о льшая часть этого семинара отведена комментариям Фрейда - комментарию случая юной гомосексуальной пациентки и обширному комментарию случая маленького Ганса, занимающему половину тома. Но отправная точка в любом случае другая, она обозначена чётко и с самого начала придает этому семинару полемический характер.
Я хотел бы снова рассмотреть с вами предпринятое Лаканом вмешательство в психоанализ, чтобы ещё раз определить для этого Семинара его точное место. Говоря в самых общих чертах, первое вмешательство Лакана в психоанализ ознаменовалось тем, что можно назвать антибиологизмом, и отказом подходить к теории Фрейда с точки зрения развития личности. В этом отношении конфронтация Лакана с теорией объектных отношений ожидалась с самого начала его вмешательства в психоанализ. Первое его вмешательство, оформившееся сразу после Второй мировой войны и до начала семинаров в госпитале Святой Анны, использует против биологизации психоанализа то концептуальное оружие, которое представляет собой интерсубъективность. Он сосредотачивается на том, чтобы продемонстрировать, что любой момент индивидуального развития отмечен интерсубъективностью. Это ориентир, который предлагает Стадия зеркала. Стадия зеркала как феномен развития известна давно. Этот феномен был упомянут Дарвином, а затем подхвачен Валлоном, но у Лакана он встраивается в Гегеля - Гегеля-Кожева. Он встроен в отношения Господина и Раба. Такая стадия зеркала конституируется в переживании момента, отмеченного преобладанием видимого, образа, и этот момент Лакан комментирует одновременно как диалектический момент, он открывает всё богатство интерсубъективной диалектики.
Второе вмешательство Лакана, если датировать его Римской речью и Семинаром I, состоит, в сущности, в том, что я назвал бы расщеплением интерсубъективности. Та простая интерсубъективность, соотносимая со Стадией зеркала, подвергается редупликации, и именно эта редупликация интерсубъективности разработана Лаканом в форме его Z-образной схемы, которая противопоставляет воображаемые отношения а-а' и символические отношения S-A. Проще говоря, там, где до сих пор была только одна интерсубъективность, теперь обнаруживается две - в двух разных режимах, которые Лакан на протяжении первых трёх Семинаров развивает, дифференцирует, противопоставляет один другому.
Ретроспективно, когда мы привыкаем к Лакану этого второго вмешательства, к Лакану этой двойной интерсубъективности, мы видим путаницу, которая была раньше, когда мы пытались рассматривать явления с помощью простой интерсубъективности. Мы видим, например, что Лакан должен был прибегнуть к такому термину, как имаго -термин, подобный летучей мыши, который, с одной стороны, является воображаемым, но представляет собой стилизованное, означенное воображаемое, что одновременно наделяет этот термин имаго качествами и функциями символического типа. Мы также видим, что прежде Лакан диалектически выстраивал само воображаемое и мог проиллюстрировать свою теорию Я примером диалектики закона сердца у Гегеля. Другими словами, раньше воображаемое было заполонено символической диалектикой и не отличалось от неё. В том, что Лакан, строго говоря, называет своим учением, восторг открытия вызывает разделение, осуществляемое между этими двумя типами интерсубъективности. То есть восторг повторяется снова и снова по мере научения тому, как различаются воображаемое и символическое.
Итак, что позволяет и даже делает необходимым это удвоение интерсубъективности? Заметим, что здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, которые Фрейдом вообще не затронуты. Введение интерсубъективности в центр аналитического опыта - это уже привнесение Лаканом тех тем, которые превалировали в то время в философии, в наследии феноменологии, которые, разумеется, были переосмыслены и переработаны для применения в психоанализе. Здесь разработанное и введённое Лаканом разделение между воображаемым и символическим, которое производит экстраординарную трансформацию самого прочтения фрейдовских текстов, было сделано, так сказать, с точки зрения, которая сама по себе является внешней по отношению к эксплицитной проблематике Фрейда.
Итак, что же позволяет осуществить это расщепление интерсубъективности? Скажем, что то, что позволяет это осуществить, - это концепт структуры. Структура, которая вводит необходимость дискретных, отделённых друг от друга элементов, то есть означающих, которая вводит само понятие места и перестановки элементов на местах -перестановки определённого количества элементов, определённого словарного значения в определённом и конечном количестве мест - с момента, когда такая структура с её чисто перестановочным началом появляется у Лакана, она становится константой всего его учения. В этом Семинаре он не только разрабатывает теорию нехватки объекта - кастрацию, фрустрацию, лишение, - демонстрируя в этом отношении распределение трёх порядков: символического, воображаемого и реального. Но также, разрабатывая эту таблицу в течение всего года, он даёт пример структурного и перестановочного функционирования. Это относится к конкретному содержанию, о котором идёт речь, но это также относится и к демонстрации метода, того метода структурных перестановок, который проиллюстрирован в клинике на примере случая маленького Ганса и который не перестанет вдохновлять Лакана на его схемы и матемы, поскольку это же самое вдохновение обнаруживается и намного позже, например, в его теории четырёх дискурсов, которые также определяются порядком мест и перестановок, определённым словарём означающих, занимающих эти места. Этот концепт структуры с отдельными элементами, местами и перестановками имеет совершенно иной порядок, нежели воображаемый. Его уже нельзя смешивать с тем, что является воображаемым. В воображаемом нет отдельных элементов, но есть преобладание непрерывного и массивного, а также преобладание визуального над означающим.
Именно в своем втором Семинаре Лакан разрабатывает эту схему двойной интерсубъективности как таковую, и каноническая форма этой схемы в форме Z даётся в его работе, которую он посвящает Семинару об Украденном письме, на странице 53 Ecrits. На тот момент именно она представлена как результат разработки Лакана. Поскольку эта форма принята за образец, именно её я посоветовал редактору
диалектикой и не отличалось от неё. В том, что Лакан, строго говоря, называет своим учением, восторг открытия вызывает разделение, осуществляемое между этими двумя типами интерсубъективности. То есть восторг повторяется снова и снова по мере научения тому, как различаются воображаемое и символическое.
Итак, что позволяет и даже делает необходимым это удвоение интерсубъективности? Заметим, что здесь мы сталкиваемся с рядом проблем, которые Фрейдом вообще не затронуты. Введение интерсубъективности в центр аналитического опыта - это уже привнесение Лаканом тех тем, которые превалировали в то время в философии, в наследии феноменологии, которые, разумеется, были переосмыслены и переработаны для применения в психоанализе. Здесь разработанное и введённое Лаканом разделение между воображаемым и символическим, которое производит экстраординарную трансформацию самого прочтения фрейдовских текстов, было сделано, так сказать, с точки зрения, которая сама по себе является внешней по отношению к эксплицитной проблематике Фрейда.
Итак, что же позволяет осуществить это расщепление интерсубъективности? Скажем, что то, что позволяет это осуществить, - это концепт структуры. Структура, которая вводит необходимость дискретных, отделённых друг от друга элементов, то есть означающих, которая вводит само понятие места и перестановки элементов на местах -перестановки определённого количества элементов, определённого словарного значения в определённом и конечном количестве мест - с момента, когда такая структура с её чисто перестановочным началом появляется у Лакана, она становится константой всего его учения. В этом Семинаре он не только разрабатывает теорию нехватки объекта - кастрацию, фрустрацию, лишение, - демонстрируя в этом отношении распределение трёх порядков: символического, воображаемого и реального. Но также, разрабатывая эту таблицу в течение всего года, он даёт пример структурного и перестановочного функционирования. Это относится к конкретному содержанию, о котором идёт речь, но это также относится и к демонстрации метода, того метода структурных перестановок, который проиллюстрирован в клинике на примере случая маленького Ганса и который не перестанет вдохновлять Лакана на его схемы и матемы, поскольку это же самое вдохновение обнаруживается и намного позже, например, в его теории четырёх дискурсов, которые также определяются порядком мест и перестановок, определённым словарём означающих, занимающих эти места. Этот концепт структуры с отдельными элементами, местами и перестановками имеет совершенно иной порядок, нежели воображаемый. Его уже нельзя смешивать с тем, что является воображаемым. В воображаемом нет отдельных элементов, но есть преобладание непрерывного и массивного, а также преобладание визуального над означающим.
Именно в своем втором Семинаре Лакан разрабатывает эту схему двойной интерсубъективности как таковую, и каноническая форма этой схемы в форме Z даётся в его работе, которую он посвящает Семинару об Украденном письме, на странице 53 Ecrits. На тот момент именно она представлена как результат разработки Лакана. Поскольку эта форма принята за образец, именно её я посоветовал редактору использовать в начале Семинара IV, когда Лакан ссылается на эту схему. Семинар II, в котором разрабатывается и разъясняется эта двойная схема, целиком посвящён, несмотря на своё название, касающееся Я, демонстрации автономии символического и гетерономии воображаемого, демонстрации того, что символическое доминирует над воображаемым. Текст Фрейда По ту сторону принципа удовольствия становится для Лакана отправным пунктом, чтобы это продемонстрировать. Гораздо позже он воспользуется этой же отсылкой к Фрейду, чтобы выдвинуть концепт наслаждения и его отличие от удовольствия. То есть позже появится новое прочтение Лаканом этого текста Фрейда. Но это первое прочтение, которое происходит во время Семинара II, сущностно подчёркивает повторение - означающее повторение. И оно служит Лакану не столько для разработки теории Я, сколько для разработки теории символической цепи - цепи, относительно которой он приводит ряд примеров, показывая, что только она позволяет осмыслить, как появление в бессознательном одних и тех же элементов или одних и тех же требований может поддерживаться бесконечно долго и что в воображаемом порядке нет ничего такого, что позволяло бы объяснить бессрочное сохранение в памяти одних и тех же элементов. В этом отношении мы можем сказать, что случай встречи Лакана и структуры был для него счастливым, поскольку структура придала его антибиологизму пригодную для применения форму. Память, о которой идёт речь в бессознательном, не является биологической памятью, она постижима только как чисто символическая память.
Этой схемой Лакан подводит итог первых трёх лет Семинаров. Именно об этом он пишет во введении к Семинару об Украденном письме на 53 странице Ecrits, то есть в тексте, повторяющем Семинар II, но написанном в период завершения Семинара III. Лакан заключает первые три года Семинаров в одни скобки и называет эти скобки диалектикой интерсубъективности. Об итоге своей работы на Семинарах I, II и III он говорит следующим образом: «...это та диалектика интерсубъективности,
необходимость применения которой мы продемонстрировали в течение последних трёх лет наших Семинаров в госпитале Святой Анны, начиная с теории переноса до структурыпаранойи».
Можно допустить, что теория переноса является предметом Семинара I, что на Семинаре III - это структура паранойи, а в центре в качестве стержня находится Семинар II, где возникла эта схема, которая обосновала автономию символического измерения.
Другими словами, когда мы открываем Семинар IV, это момент, в который только что завершились три года разработки диалектики интерсубъективности, которые, кстати, не обошлись без изменения смысла этой самой интерсубъективности, таким образом, что Лакан постепенно закрепляет концепт интерсубъективности за тем, что имеет место на символической оси, тогда как воображаемые отношения полагаются на ложную интерсубъективность. Вот почему он определяет эти воображаемые отношения парой взаимно обратимой воображаемой объективации, которую мы выявили на стадии зеркала. Он говорит это на странице 53 Ecrits, и, очевидно, что, говоря это, он смещает смысл отсылки к Стадии зеркала, поскольку, когда он ссылался на неё, начиная с 1934 года вплоть до этих лет разработки диалектики интерсубъективности, он
использовать в начале Семинара IV, когда Лакан ссылается на эту схему. Семинар II, в котором разрабатывается и разъясняется эта двойная схема, целиком посвящён, несмотря на своё название, касающееся Я, демонстрации автономии символического и гетерономии воображаемого, демонстрации того, что символическое доминирует над воображаемым. Текст Фрейда По ту сторону принципа удовольствия становится для Лакана отправным пунктом, чтобы это продемонстрировать. Гораздо позже он воспользуется этой же отсылкой к Фрейду, чтобы выдвинуть концепт наслаждения и его отличие от удовольствия. То есть позже появится новое прочтение Лаканом этого текста Фрейда. Но это первое прочтение, которое происходит во время Семинара II, сущностно подчёркивает повторение - означающее повторение. И оно служит Лакану не столько для разработки теории Я, сколько для разработки теории символической цепи - цепи, относительно которой он приводит ряд примеров, показывая, что только она позволяет осмыслить, как появление в бессознательном одних и тех же элементов или одних и тех же требований может поддерживаться бесконечно долго и что в воображаемом порядке нет ничего такого, что позволяло бы объяснить бессрочное сохранение в памяти одних и тех же элементов. В этом отношении мы можем сказать, что случай встречи Лакана и структуры был для него счастливым, поскольку структура придала его антибиологизму пригодную для применения форму. Память, о которой идёт речь в бессознательном, не является биологической памятью, она постижима только как чисто символическая память.
Этой схемой Лакан подводит итог первых трёх лет Семинаров. Именно об этом он пишет во введении к Семинару об Украденном письме на 53 странице Ecrits, то есть в тексте, повторяющем Семинар II, но написанном в период завершения Семинара III. Лакан заключает первые три года Семинаров в одни скобки и называет эти скобки диалектикой интерсубъективности. Об итоге своей работы на Семинарах I, II и III он говорит следующим образом: «...это та диалектика интерсубъективности,
необходимость применения которой мы продемонстрировали в течение последних трёх лет наших Семинаров в госпитале Святой Анны, начиная с теории переноса до структурыпаранойи».
Можно допустить, что теория переноса является предметом Семинара I, что на Семинаре III - это структура паранойи, а в центре в качестве стержня находится Семинар II, где возникла эта схема, которая обосновала автономию символического измерения.
Другими словами, когда мы открываем Семинар IV, это момент, в который только что завершились три года разработки диалектики интерсубъективности, которые, кстати, не обошлись без изменения смысла этой самой интерсубъективности, таким образом, что Лакан постепенно закрепляет концепт интерсубъективности за тем, что имеет место на символической оси, тогда как воображаемые отношения полагаются на ложную интерсубъективность. Вот почему он определяет эти воображаемые отношения парой взаимно обратимой воображаемой объективации, которую мы выявили на стадии зеркала. Он говорит это на странице 53 Ecrits, и, очевидно, что, говоря это, он смещает смысл отсылки к Стадии зеркала, поскольку, когда он ссылался на неё, начиная с 1934 года вплоть до этих лет разработки диалектики интерсубъективности, он обращался вовсе не к паре воображаемой объективации, но, напротив, показывал, что именно здесь вся диалектика Гегеля. Это было никак не воображаемой объективацией. Наоборот, до сих пор все усилия вкладывались в разработку символической интерсубъективности на Стадии зеркала. Но теперь он может изменить положение вещей и в новой расстановке представить свою Стадию зеркала как взаимно обратимую воображаемую объективацию. Здесь берёт начало то усилие, которое приведёт его к изменению диспозиции воображаемого по отношению к символическому. В этот момент всё ещё можно сказать, что зеркальное отношение к другому [подчиняет] всю фантазматизацию, выявляемую аналитическим опытом. К моменту начала Семинара IV ещё актуально положение, что всё, что относится к категории фантазматического, располагается на а-а', принадлежит собственному Я, именно тому собственному Я, которое осмыслено исходя из нарциссизма. Всё, что является отношениями с другим, упорядочено и подчинено нарциссизму.
В то же время в этот период он методично старается показать, что преобразующим фактором в аналитическом опыте, как и в истории субъекта, которую следует отличать от его развития, является символический порядок. Именно в этом заключается преобразующий субъекта фактор. Согласно этим положениям, внедрение символического осуществляется вплоть до самого сокровенного в человеческом организме. Внедрение означающей структуры осуществляется вплоть до самого сокровенного в организме. То, что в истории субъекта является активным, - это символические элементы. Вот почему главным примером того периода становится Украденное письмо, в котором Лакан стремится показать, что всё, что касается субъекта, строго определяется перемещением буквы, а всё остальное лишь следует за ней. Сам характер субъекта и его позиция строго заданы путём означающего. Что тогда остаётся для воображаемого? Что ж, остаётся его пассивность, остаётся его сопротивление; как-то раз в моём курсе я сослался на очень точное слово, которым Лакан периодически определяет воображаемое в отношениях с этим автономным символическим, - инерция воображаемого. Это то, что мы встречаем у Лакана, когда открываем 11 страницу Ecrits: важно то, что в перемещении означающего [...] воображаемые факторы, несмотря на их инерцию, представляют собой лишь тени и отражения. Что характеризует воображаемое, так это инерция, и символическое настолько сильно, что воображаемые факторы, даже с их инерцией, не могут помешать означающему идти своей дорогой, воображаемое - это всего лишь тень и отражение.
После того, как эта теория была разложена, - и мы можем сказать, что она была разложена благодаря изучению структуры паранойи, которая показывает, как поле большого Другого тотально подчиняет субъекта, - Лакан начинает полемику в Семинаре IV, то есть полемику с доктриной объектных отношений, доктриной, которая стремится свести аналитический опыт только к воображаемому измерению. Именно так Лакан изначально её определил. Аналитики, сторонники объектных отношений, несмотря на разницу в позициях одних и других, все определяются одной и той же формулой: они сводят анализ к отношениям а-а'. Они сводят анализ к тому, что Лакан называет утопической ректификацией воображаемой пары. В связи с этим Семинар направлен
обращался вовсе не к паре воображаемой объективации, но, напротив, показывал, что именно здесь вся диалектика Гегеля. Это было никак не воображаемой объективацией. Наоборот, до сих пор все усилия вкладывались в разработку символической интерсубъективности на Стадии зеркала. Но теперь он может изменить положение вещей и в новой расстановке представить свою Стадию зеркала как взаимно обратимую воображаемую объективацию. Здесь берёт начало то усилие, которое приведёт его к изменению диспозиции воображаемого по отношению к символическому. В этот момент всё ещё можно сказать, что зеркальное отношение к другому [подчиняет] всю фантазматизацию, выявляемую аналитическим опытом. К моменту начала Семинара IV ещё актуально положение, что всё, что относится к категории фантазматического, располагается на а-а', принадлежит собственному Я, именно тому собственному Я, которое осмыслено исходя из нарциссизма. Всё, что является отношениями с другим, упорядочено и подчинено нарциссизму.
В то же время в этот период он методично старается показать, что преобразующим фактором в аналитическом опыте, как и в истории субъекта, которую следует отличать от его развития, является символический порядок. Именно в этом заключается преобразующий субъекта фактор. Согласно этим положениям, внедрение символического осуществляется вплоть до самого сокровенного в человеческом организме. Внедрение означающей структуры осуществляется вплоть до самого сокровенного в организме. То, что в истории субъекта является активным, - это символические элементы. Вот почему главным примером того периода становится Украденное письмо, в котором Лакан стремится показать, что всё, что касается субъекта, строго определяется перемещением буквы, а всё остальное лишь следует за ней. Сам характер субъекта и его позиция строго заданы путём означающего. Что тогда остаётся для воображаемого? Что ж, остаётся его пассивность, остаётся его сопротивление; как-то раз в моём курсе я сослался на очень точное слово, которым Лакан периодически определяет воображаемое в отношениях с этим автономным символическим, - инерция воображаемого. Это то, что мы встречаем у Лакана, когда открываем 11 страницу Ecrits: важно то, что в перемещении означающего [...] воображаемые факторы, несмотря на их инерцию, представляют собой лишь тени и отражения. Что характеризует воображаемое, так это инерция, и символическое настолько сильно, что воображаемые факторы, даже с их инерцией, не могут помешать означающему идти своей дорогой, воображаемое - это всего лишь тень и отражение.
После того, как эта теория была разложена, - и мы можем сказать, что она была разложена благодаря изучению структуры паранойи, которая показывает, как поле большого Другого тотально подчиняет субъекта, - Лакан начинает полемику в Семинаре IV, то есть полемику с доктриной объектных отношений, доктриной, которая стремится свести аналитический опыт только к воображаемому измерению. Именно так Лакан изначально её определил. Аналитики, сторонники объектных отношений, несмотря на разницу в позициях одних и других, все определяются одной и той же формулой: они сводят анализ к отношениям а-а'. Они сводят анализ к тому, что Лакан называет утопической ректификацией воображаемой пары. В связи с этим Семинар направлен на демонстрацию того, что аналитический опыт требует дополнения, переупорядочения на основе символических отношений. Но, по сути, речь на семинаре идёт не столько об этом. Об этом подробно говорится, например, в Главе V в связи с той статьёй, но можно сказать, что это доказательство Лакан уже продемонстрировал в течение первых трёх лет, когда прицельно откреплял символическую ось от воображаемых отношений. В Семинарах I и II есть гораздо более полемические главы Лакана на эту тему, нежели в Объектных отношениях, но тем не менее этот Семинар представляется полемическим. В прошлый раз я указал на то, что настоящая полемика в Семинаре IV является внутренней в отношении самого учения Лакана. Не то чтобы не было никаких элементов полемики с чем-то вовне, но, в конце концов, если можно так выразиться, скорее для того, чтобы развлечь публику. Это побочный продукт полемической разработки Лакана своего собственного учения.
Поскольку Лакан предлагает нам заключить в одни скобки первые три Семинара как разработку диалектики интерсубъективности, закреплённую в схеме Z, что ж, давайте тогда расположим Семинар IV в следующей тройке: IV, Vu VI - Объектные отношения, Образования бессознательного и Желание и его интерпретация. Действительно, можно сказать, что концепт третьего вмешательства Лакана - это концепт желания. Именно в этом концепте желания сосредоточены все трудности его вмешательства в психоанализ. После разработки диалектики интерсубъективности, после её удвоения и сосредоточения на символическом возникает трудность с желанием. Вот почему не будет злоупотреблением провести черту таким образом, чтобы отнести этот Семинар IV к разработке, которая, как вы знаете, будет сосредоточена на двухступенчатой схеме, названной Лаканом Графом желания. Он называет её Графом желания, поскольку, несмотря на то что означающее желания тогда не особенно ценилось, именно оно становится поворотным понятием, в котором концентрируются все трудности вмешательства Лакана в психоанализ.
Чтобы подвести итог этого затруднения, я скажу, что оно касается определения положения желания в воображаемом и того, что нельзя избежать размещения желания в символическом. В хитросплетениях и тупиках лакановской разработки что-то в конечном итоге не клеится, и если в тот момент он подходит к объектным отношениям, то именно для того, чтобы можно было это концептуально согласовать, принимая во внимание ряд феноменов.
В прошлый раз я говорил, что желание в тот момент лакановской разработки находится, по сути, на воображаемой оси. Лакан говорит об этом в Семинаре IV: теория, которая была почерпнута у Фрейда в отношении либидо, состоит в том, что Я является резервуаром либидо, которое распространяется на объекты интереса, объекты желания. Таким образом, это отправная точка и для теории желания у Лакана, которую он, однако, дополняет тем, что Я в первую очередь связано с нарциссизмом. Итак, Лакан комбинирует свою теорию желания, взяв главу Теория либидо из Трёх очерков и добавив к ней К введению в нарциссизм. Он постоянно повторяет: давайте в разговоре о либидо не будем забывать, что оно берет своё начало в Я и что Я связано с теорией нарциссизма. Он снова говорит об этом на странице 53 Ecrits: «Для начала мы хотели вернуть
на демонстрацию того, что аналитический опыт требует дополнения, переупорядочения на основе символических отношений. Но, по сути, речь на семинаре идёт не столько об этом. Об этом подробно говорится, например, в Главе V в связи с той статьёй, но можно сказать, что это доказательство Лакан уже продемонстрировал в течение первых трёх лет, когда прицельно откреплял символическую ось от воображаемых отношений. В Семинарах I и II есть гораздо более полемические главы Лакана на эту тему, нежели в Объектных отношениях, но тем не менее этот Семинар представляется полемическим. В прошлый раз я указал на то, что настоящая полемика в Семинаре IV является внутренней в отношении самого учения Лакана. Не то чтобы не было никаких элементов полемики с чем-то вовне, но, в конце концов, если можно так выразиться, скорее для того, чтобы развлечь публику. Это побочный продукт полемической разработки Лакана своего собственного учения.
Поскольку Лакан предлагает нам заключить в одни скобки первые три Семинара как разработку диалектики интерсубъективности, закреплённую в схеме Z, что ж, давайте тогда расположим Семинар IV в следующей тройке: IV, Vu VI - Объектные отношения, Образования бессознательного и Желание и его интерпретация. Действительно, можно сказать, что концепт третьего вмешательства Лакана - это концепт желания. Именно в этом концепте желания сосредоточены все трудности его вмешательства в психоанализ. После разработки диалектики интерсубъективности, после её удвоения и сосредоточения на символическом возникает трудность с желанием. Вот почему не будет злоупотреблением провести черту таким образом, чтобы отнести этот Семинар IV к разработке, которая, как вы знаете, будет сосредоточена на двухступенчатой схеме, названной Лаканом Графом желания. Он называет её Графом желания, поскольку, несмотря на то что означающее желания тогда не особенно ценилось, именно оно становится поворотным понятием, в котором концентрируются все трудности вмешательства Лакана в психоанализ.
Чтобы подвести итог этого затруднения, я скажу, что оно касается определения положения желания в воображаемом и того, что нельзя избежать размещения желания в символическом. В хитросплетениях и тупиках лакановской разработки что-то в конечном итоге не клеится, и если в тот момент он подходит к объектным отношениям, то именно для того, чтобы можно было это концептуально согласовать, принимая во внимание ряд феноменов.
В прошлый раз я говорил, что желание в тот момент лакановской разработки находится, по сути, на воображаемой оси. Лакан говорит об этом в Семинаре IV: теория, которая была почерпнута у Фрейда в отношении либидо, состоит в том, что Я является резервуаром либидо, которое распространяется на объекты интереса, объекты желания. Таким образом, это отправная точка и для теории желания у Лакана, которую он, однако, дополняет тем, что Я в первую очередь связано с нарциссизмом. Итак, Лакан комбинирует свою теорию желания, взяв главу Теория либидо из Трёх очерков и добавив к ней К введению в нарциссизм. Он постоянно повторяет: давайте в разговоре о либидо не будем забывать, что оно берет своё начало в Я и что Я связано с теорией нарциссизма. Он снова говорит об этом на странице 53 Ecrits: «Для начала мы хотели вернуть доминирующее положение в определении функции Я важнейшей для Фрейда теории нарциссизма».
До начала Семинара IV позиция Лакана была такова. Вот почему, кстати, в том же тексте он напоминает о глубоко нарциссической природе любой любви. Он напоминает, что любовь у Фрейда - любовь с первого взгляда, влюблённость - по сути своей имеет нарциссический характер. Постоянно напоминает, что либидо придерживается Я, а Я -нарциссизма.
Это означает, что вытесняется всё то, что связано с функцией кастрации. Чем больше он напоминает, что либидо связано с Я и что доминирующим в функции Я является нарциссизм, тем дальше он отходит от любых ссылок на кастрацию. Мы находим это в Вариантах образцового лечения, где Лакан напоминает, что воображаемое у животных гораздо более разнообразно, чем у людей, и что у последних воображаемая функция, по-видимому, полностью направлена на нарциссические отношения, в которых формируется Я. Тот же текст Лакана изобилует ссылками на тот факт, что субъект всегда навязывает другим воображаемую форму своего собственного Я. Вот почему он говорит, что лучшее, на что оказался способен психоанализ после Фрейда и до наших дней, это выстроить естественную историю форм, в которых пленялось желание, то есть эффектов захвата желания воображаемым. Проблема в следующем: желание возвращается к образам, которые его заманивают и захватывают.
Желание - это термин, значение которому придал Лакан, и о котором можно сказать, что он приходит в большей степени от Гегеля, чем от Фрейда, но это не так важно, как важно то, что он всегда учитывает его на воображаемой оси. Желание пленено образами, но с того момента, как происходит раздвоение осей, появляется другое желание, и оно ищет свой статус. И мы можем лучше проследить в Ecrits, чем в Семинарах, как возрастает необходимость другого статуса желания. Это то, что Лакан в первый период, в котором мы и расположились, называет в гегелевских терминах желанием добиться признания своего желания. Несомненно, это приходит непосредственно от Кожева, но вообще-то желание добиться признания своего желания невозможно расположить на воображаемой оси. Дело не в признании одной формы, а в признании в речи, которая гарантируется Другим. Итак, Лакан ещё до Семинара IV в соответствии с идеей об удвоении осей, излагает то, что вы найдёте на странице 431 Ecrits: «Желание признания доминирует [...] желание быть признанным». Важен термин доминировать. Есть одно желание, которое доминирует над другим. Желание в символическом смысле, когда речь идёт о желании признания желания, о желании добиться признания своего желания, которое доминирует над любым желанием, лежащим на воображаемой оси. Лакан, по сути, позиционирует это как принцип, который недостаточно обоснован, не продуман, но который действительно отвечает своего рода логическому требованию. Мы уже можем заметить, как Лакан разводит желание в воображаемом смысле и желание в его символическом статусе. Таким образом, он может говорить о воображаемом моделировании субъекта его желаниями, более или менее фиксированными или регрессивными в их отношении к
доминирующее положение в определении функции Я важнейшей для Фрейда теории нарциссизма».
До начала Семинара IV позиция Лакана была такова. Вот почему, кстати, в том же тексте он напоминает о глубоко нарциссической природе любой любви. Он напоминает, что любовь у Фрейда - любовь с первого взгляда, влюблённость - по сути своей имеет нарциссический характер. Постоянно напоминает, что либидо придерживается Я, а Я -нарциссизма.
Это означает, что вытесняется всё то, что связано с функцией кастрации. Чем больше он напоминает, что либидо связано с Я и что доминирующим в функции Я является нарциссизм, тем дальше он отходит от любых ссылок на кастрацию. Мы находим это в Вариантах образцового лечения, где Лакан напоминает, что воображаемое у животных гораздо более разнообразно, чем у людей, и что у последних воображаемая функция, по-видимому, полностью направлена на нарциссические отношения, в которых формируется Я. Тот же текст Лакана изобилует ссылками на тот факт, что субъект всегда навязывает другим воображаемую форму своего собственного Я. Вот почему он говорит, что лучшее, на что оказался способен психоанализ после Фрейда и до наших дней, это выстроить естественную историю форм, в которых пленялось желание, то есть эффектов захвата желания воображаемым. Проблема в следующем: желание возвращается к образам, которые его заманивают и захватывают.
Желание - это термин, значение которому придал Лакан, и о котором можно сказать, что он приходит в большей степени от Гегеля, чем от Фрейда, но это не так важно, как важно то, что он всегда учитывает его на воображаемой оси. Желание пленено образами, но с того момента, как происходит раздвоение осей, появляется другое желание, и оно ищет свой статус. И мы можем лучше проследить в Ecrits, чем в Семинарах, как возрастает необходимость другого статуса желания. Это то, что Лакан в первый период, в котором мы и расположились, называет в гегелевских терминах желанием добиться признания своего желания. Несомненно, это приходит непосредственно от Кожева, но вообще-то желание добиться признания своего желания невозможно расположить на воображаемой оси. Дело не в признании одной формы, а в признании в речи, которая гарантируется Другим. Итак, Лакан ещё до Семинара IV в соответствии с идеей об удвоении осей, излагает то, что вы найдёте на странице 431 Ecrits: «Желание признания доминирует [...] желание быть признанным». Важен термин доминировать. Есть одно желание, которое доминирует над другим. Желание в символическом смысле, когда речь идёт о желании признания желания, о желании добиться признания своего желания, которое доминирует над любым желанием, лежащим на воображаемой оси. Лакан, по сути, позиционирует это как принцип, который недостаточно обоснован, не продуман, но который действительно отвечает своего рода логическому требованию. Мы уже можем заметить, как Лакан разводит желание в воображаемом смысле и желание в его символическом статусе. Таким образом, он может говорить о воображаемом моделировании субъекта его желаниями, более или менее фиксированными или регрессивными в их отношении к объекту. Это также можно найти на странице 431 Ecrits во Фрейдовой вещи, где уже есть не только говорю вам, собственное Я - истина, но и многое другое.
Таким образом, с одной стороны, у нас есть измерение, в котором существует определённая форма отпечатка, который зафиксирован и подчиняет субъекта со стороны преобладающих образов, куда он в большей или меньшей степени регрессирует. Это определённый порядок вещей, который мыслим в воображаемом. Но то, что в воображаемом немыслимо, - это настойчивость повторения желания. То, что в воображаемом немыслимо, так это вечная консервация, если можно так выразиться, желания в символической цепи. То, что в воображаемом немыслимо, так это то, что у субъекта желание является объектом постоянного воспоминания в вытеснении. И так же одним движением, как он постоянно делает, например, во Фрейдовской вещи, Лакан противопоставляет два типа значения. Он противопоставляет значения вины, то есть значения символического долга, о которых он говорит в то время, то есть значения, принадлежащие регистру символического, и значения, которые для него в то время принадлежат регистру воображаемого, то есть значения аффективной фрустрации, инстинктивной недостаточности и воображаемой зависимости субъекта.
Можно сказать, что Семинар IV открывается проблемой согласования и осмысления этой двойственной природы желания. Как можно осмыслить то, что кажется преобладанием в желании воображаемого, и даже преобладанием в желании нарциссического воображаемого, и в то же время желание во фрейдистском смысле -бессознательное желание, которое передаётся в символической цепочке? Что позволяет согласовать и осмыслить эту двойственную природу желания? Кстати, я процитировал вам этот отрывок из Фрейдовой вещи, потому что в Семинаре IV вы найдёте все те же самые термины аффективной фрустрации, инстинктивной недостаточности, воображаемой зависимости субъекта. Лакан покажет, как именно они соотносятся с символическим и каким образом они в связи с этим совершенно меняют свой статус.
Итак, вот снова этот момент Семинара IV. Таким образом, я надеюсь показать вам, как Семинар отвечает на вопросы, что не подразумевает «Лакан продолжает», но отмечает концептуальную трудность, с которой он сталкивается.
Кроме того, Лакан в Объектных отношениях и в Семинарах V и VI пересматривает пришедшее от Кожева желание добиться признания своего желания. Он сконструирует Граф желания, где желание на символическом уровне больше не будет иметь ничего общего с желанием добиться признания своего желания, и даже напишет в какой-то момент, что как раз это желание структурирует до самых глубин влечения. Это была чертовски смелая затея! Потому что на самом деле - вы можете поискать - с самого начала нет указания на то, что желание добиться признания своего желания представлено во влечениях. По сути, если он так об этом написал, то только из необходимости принять то положение, что символическое до самых глубин структурирует человеческий организм, а следовательно и влечения. Что это должно быть за желание в символическом регистре, чтобы действительно можно было сказать, что оно структурирует влечения? Это можно найти на странице 343 в Вариантах
объекту. Это также можно найти на странице 431 Ecrits во Фрейдовой вещи, где уже есть не только говорю вам, собственное Я - истина, но и многое другое.
Таким образом, с одной стороны, у нас есть измерение, в котором существует определённая форма отпечатка, который зафиксирован и подчиняет субъекта со стороны преобладающих образов, куда он в большей или меньшей степени регрессирует. Это определённый порядок вещей, который мыслим в воображаемом. Но то, что в воображаемом немыслимо, - это настойчивость повторения желания. То, что в воображаемом немыслимо, так это вечная консервация, если можно так выразиться, желания в символической цепи. То, что в воображаемом немыслимо, так это то, что у субъекта желание является объектом постоянного воспоминания в вытеснении. И так же одним движением, как он постоянно делает, например, во Фрейдовской вещи, Лакан противопоставляет два типа значения. Он противопоставляет значения вины, то есть значения символического долга, о которых он говорит в то время, то есть значения, принадлежащие регистру символического, и значения, которые для него в то время принадлежат регистру воображаемого, то есть значения аффективной фрустрации, инстинктивной недостаточности и воображаемой зависимости субъекта.
Можно сказать, что Семинар IV открывается проблемой согласования и осмысления этой двойственной природы желания. Как можно осмыслить то, что кажется преобладанием в желании воображаемого, и даже преобладанием в желании нарциссического воображаемого, и в то же время желание во фрейдистском смысле -бессознательное желание, которое передаётся в символической цепочке? Что позволяет согласовать и осмыслить эту двойственную природу желания? Кстати, я процитировал вам этот отрывок из Фрейдовой вещи, потому что в Семинаре IV вы найдёте все те же самые термины аффективной фрустрации, инстинктивной недостаточности, воображаемой зависимости субъекта. Лакан покажет, как именно они соотносятся с символическим и каким образом они в связи с этим совершенно меняют свой статус.
Итак, вот снова этот момент Семинара IV. Таким образом, я надеюсь показать вам, как Семинар отвечает на вопросы, что не подразумевает «Лакан продолжает», но отмечает концептуальную трудность, с которой он сталкивается.
Кроме того, Лакан в Объектных отношениях и в Семинарах V и VI пересматривает пришедшее от Кожева желание добиться признания своего желания. Он сконструирует Граф желания, где желание на символическом уровне больше не будет иметь ничего общего с желанием добиться признания своего желания, и даже напишет в какой-то момент, что как раз это желание структурирует до самых глубин влечения. Это была чертовски смелая затея! Потому что на самом деле - вы можете поискать - с самого начала нет указания на то, что желание добиться признания своего желания представлено во влечениях. По сути, если он так об этом написал, то только из необходимости принять то положение, что символическое до самых глубин структурирует человеческий организм, а следовательно и влечения. Что это должно быть за желание в символическом регистре, чтобы действительно можно было сказать, что оно структурирует влечения? Это можно найти на странице 343 в Вариантах образцового лечения: «Желание это, в котором с буквальной точностью подтверждается тот факт, что желание человека отчуждается в желании другого, как раз и определяет структуру открытых анализом влечений». Он хочет продемонстрировать здесь, что влечения не являются чистыми и простыми потребностями, но мы должны видеть, что здесь отсутствует сочленение. Отсутствует артикуляция между этим желанием добиться признания своего желания и влечениями.
Я указываю на страницу 343, потому что там сразу видна отчётливая ссылка на перверсию. Прежде всего, это делается для того, чтобы показать, что влечения не являются потребностями естественного удовлетворения, и чтобы показать это, на помощь приходит перверсия. Потом на этой же странице Лакан снова ссылается на перверсию по поводу господства нарциссизма в воображаемом, говоря, что именно это обнаруживается в идеальной амбивалентности позиции, в которой он [субъект] идентифицирует себя внутри первертной пары. Таким образом, здесь есть замечание, которое будет значительно развёрнуто в Объектных отношениях, о том, что переверсия акцентирует воображаемое измерение, что если и существует клиника перверсии, то необходимо учитывать преобладающее место воображаемого в перверсии. Это одна из проблем, которую Объектные отношения попытаются решить: как объяснить это преобладание воображаемого в перверсии?
Я возвращаюсь сейчас к началу Семинара IV, к его основной отправной точке, потому что в полемике Лакана есть что-то вроде ловушки, чучела, которое нужно проткнуть. Я попытаюсь сделать это, разобрав ситуацию таким образом. Во-первых, объектные отношения в том виде, в каком они представлены нам аналитиками Парижского Психоаналитического Общества и их английскими и американскими учителями, находятся на воображаемой оси. Они просто комментируют взаимодополняемость и гармонию, существующую между субъектом и объектом. Во-вторых, поскольку объектные отношения ограничены а-а', они могут дать нам лишь частичное представление об аналитическом опыте и в ходе лечения способны привести лишь к одному существенному результату, а именно к преходящей перверсии. В этом месте связь между перверсией и воображаемым прослеживается в критике направления лечения. Если свести аналитический опыт к воображаемой взаимосвязи, то логично и нормально, что в анализе возникают преходящие перверсии. Но это ещё не всё, есть в-третьих. Если бы на этом всё закончилось, у нас была бы чисто внешняя полемика Лакана. В-третьих, на самом деле здраво принимаемые во внимание объектные отношения, расположенные на своем месте, не находятся на воображаемой оси. Объект не является коррелятом Я. И это то, что составляет суть доказательства Лакана: объект не является коррелятом Я. Его сущность связана с фаллосом. Частичной является не только принятая теория объектных отношений, но и сведение объекта к воображаемой паре а-а'. В объекте есть нечто большее, чем воображаемое. Фактически эту дискуссию вокруг концептуальной трудности согласования желания в его символическом статусе и желания в его воображаемой природе Лакан сосредотачивает, разыгрывает на вопросе об объекте. Именно в разговоре об объекте речь идёт о демонстрации того, что объект по своей сути не является объектом нарциссизма. Он не
образцового лечения: «Желание это, в котором с буквальной точностью подтверждается тот факт, что желание человека отчуждается в желании другого, как раз и определяет структуру открытых анализом влечений». Он хочет продемонстрировать здесь, что влечения не являются чистыми и простыми потребностями, но мы должны видеть, что здесь отсутствует сочленение. Отсутствует артикуляция между этим желанием добиться признания своего желания и влечениями.
Я указываю на страницу 343, потому что там сразу видна отчётливая ссылка на перверсию. Прежде всего, это делается для того, чтобы показать, что влечения не являются потребностями естественного удовлетворения, и чтобы показать это, на помощь приходит перверсия. Потом на этой же странице Лакан снова ссылается на перверсию по поводу господства нарциссизма в воображаемом, говоря, что именно это обнаруживается в идеальной амбивалентности позиции, в которой он [субъект] идентифицирует себя внутри первертной пары. Таким образом, здесь есть замечание, которое будет значительно развёрнуто в Объектных отношениях, о том, что переверсия акцентирует воображаемое измерение, что если и существует клиника перверсии, то необходимо учитывать преобладающее место воображаемого в перверсии. Это одна из проблем, которую Объектные отношения попытаются решить: как объяснить это преобладание воображаемого в перверсии?
Я возвращаюсь сейчас к началу Семинара IV, к его основной отправной точке, потому что в полемике Лакана есть что-то вроде ловушки, чучела, которое нужно проткнуть. Я попытаюсь сделать это, разобрав ситуацию таким образом. Во-первых, объектные отношения в том виде, в каком они представлены нам аналитиками Парижского Психоаналитического Общества и их английскими и американскими учителями, находятся на воображаемой оси. Они просто комментируют взаимодополняемость и гармонию, существующую между субъектом и объектом. Во-вторых, поскольку объектные отношения ограничены а-а', они могут дать нам лишь частичное представление об аналитическом опыте и в ходе лечения способны привести лишь к одному существенному результату, а именно к преходящей перверсии. В этом месте связь между перверсией и воображаемым прослеживается в критике направления лечения. Если свести аналитический опыт к воображаемой взаимосвязи, то логично и нормально, что в анализе возникают преходящие перверсии. Но это ещё не всё, есть в-третьих. Если бы на этом всё закончилось, у нас была бы чисто внешняя полемика Лакана. В-третьих, на самом деле здраво принимаемые во внимание объектные отношения, расположенные на своем месте, не находятся на воображаемой оси. Объект не является коррелятом Я. И это то, что составляет суть доказательства Лакана: объект не является коррелятом Я. Его сущность связана с фаллосом. Частичной является не только принятая теория объектных отношений, но и сведение объекта к воображаемой паре а-а'. В объекте есть нечто большее, чем воображаемое. Фактически эту дискуссию вокруг концептуальной трудности согласования желания в его символическом статусе и желания в его воображаемой природе Лакан сосредотачивает, разыгрывает на вопросе об объекте. Именно в разговоре об объекте речь идёт о демонстрации того, что объект по своей сути не является объектом нарциссизма. Он не является объектом нарциссического Я, он прежде всего объект фаллоса, он - объект в отношениях с фаллосом.
Несомненно, бывают определённые моменты, когда отношения субъекта и объекта кажутся прямыми и беззазорными, как выражается Лакан в первой главе. Бывают моменты, когда это происходит в такой взаимно обратимой и взаимодополняющей форме. Эти моменты есть в опыте. Если мы полагаем, что именно эти моменты дают ключ к объекту желания, мы ограничиваем себя таким опытом. Не следует распространять моменты кажущейся взаимодополняемости субъекта и объекта на всю совокупность отношений субъекта и объекта. По сути, это то же предостережение, которое позже Лакан делает в отношении картезианского cogito. Картезианское cogito - это момент, но, если мы расширяем этот момент от точечной и исчезающей идентичности до совокупности всего Я, мы себя этим ограничиваем. Следовательно, необходимо учитывать момент возможного совпадения субъекта и объекта или их взаимодополняемости, но не распространять его на всю клинику. Истинная предвзятость - это предвзятость более ранней теории объекта Лакана. Дело в том, что в течение многих лет он создавал теорию желания, в которой объект появлялся просто и ясно как часть теории нарциссизма, с постоянным напоминанием: всякая влюблённость носит нарциссический характер, как говорит об этом Фрейд. Постоянная вынужденная мера на тот момент. Но здесь акцент Лакана - хотя, конечно, он отводит место нарциссизму - совершенно противоположен: дело не в том, что объект имеет сущностно нарциссическую природу, а в том, что объект всегда играет свою роль в отношениях с кастрацией. Вот в чём заключается настоящая полемика, о которой идёт речь, в эффекте переключения, которого достигает этот Семинар и который будет длиться, раскручиваться в учении Лакана в течение трёх лет, чтобы всеми возможными способами встроиться и закрепиться, и мы увидим, что объект всё больше и больше интегрируется в символический порядок и всё более и более в этом же порядке разбирается, пока в результате такого символического распада объекта он не появится снова во всём своём достоинстве как объект а. Но для этого потребуется, чтобы Лакан раздробил его в символическом регистре, чтобы он распался, чтобы он исчез до такой степени, что в течение этих последующих трёх лет пришлось бы восстанавливать некоторые из его достоинств, которые таким образом испарились, и тогда возник бы вопрос реального и наслаждения, который Лакан поднимает в уже опубликованном Семинаре VII.
Два объекта, о которых идёт речь в Семинаре IV, - это «объект фобии» и объект фетиша. Фобический объект следует заключить в кавычки. Вы заметите, что я удержался - хотя это было бы не так уж и плохо для разделения на части, которые бы симметрично отражали друг друга, - от того, чтобы поместить фобический объект в название части. Я поместил объект фетиша там, где речь шла о фетише, но я не упомянул объект фобии, исходя из самых лучших побуждений. Но в итоге очевидно, что на первый план выведены два объекта: объект фобии и объект фетиша. И по какой причине эти два? Потому что оба они ставят кастрацию в центр вопроса. Потому что оба, по уже ставшим в психоанализе классическими - просто забытыми и не связанными с другими -
является объектом нарциссического Я, он прежде всего объект фаллоса, он - объект в отношениях с фаллосом.
Несомненно, бывают определённые моменты, когда отношения субъекта и объекта кажутся прямыми и беззазорными, как выражается Лакан в первой главе. Бывают моменты, когда это происходит в такой взаимно обратимой и взаимодополняющей форме. Эти моменты есть в опыте. Если мы полагаем, что именно эти моменты дают ключ к объекту желания, мы ограничиваем себя таким опытом. Не следует распространять моменты кажущейся взаимодополняемости субъекта и объекта на всю совокупность отношений субъекта и объекта. По сути, это то же предостережение, которое позже Лакан делает в отношении картезианского cogito. Картезианское cogito - это момент, но, если мы расширяем этот момент от точечной и исчезающей идентичности до совокупности всего Я, мы себя этим ограничиваем. Следовательно, необходимо учитывать момент возможного совпадения субъекта и объекта или их взаимодополняемости, но не распространять его на всю клинику. Истинная предвзятость - это предвзятость более ранней теории объекта Лакана. Дело в том, что в течение многих лет он создавал теорию желания, в которой объект появлялся просто и ясно как часть теории нарциссизма, с постоянным напоминанием: всякая влюблённость носит нарциссический характер, как говорит об этом Фрейд. Постоянная вынужденная мера на тот момент. Но здесь акцент Лакана - хотя, конечно, он отводит место нарциссизму - совершенно противоположен: дело не в том, что объект имеет сущностно нарциссическую природу, а в том, что объект всегда играет свою роль в отношениях с кастрацией. Вот в чём заключается настоящая полемика, о которой идёт речь, в эффекте переключения, которого достигает этот Семинар и который будет длиться, раскручиваться в учении Лакана в течение трёх лет, чтобы всеми возможными способами встроиться и закрепиться, и мы увидим, что объект всё больше и больше интегрируется в символический порядок и всё более и более в этом же порядке разбирается, пока в результате такого символического распада объекта он не появится снова во всём своём достоинстве как объект а. Но для этого потребуется, чтобы Лакан раздробил его в символическом регистре, чтобы он распался, чтобы он исчез до такой степени, что в течение этих последующих трёх лет пришлось бы восстанавливать некоторые из его достоинств, которые таким образом испарились, и тогда возник бы вопрос реального и наслаждения, который Лакан поднимает в уже опубликованном Семинаре VII.
Два объекта, о которых идёт речь в Семинаре IV, - это «объект фобии» и объект фетиша. Фобический объект следует заключить в кавычки. Вы заметите, что я удержался - хотя это было бы не так уж и плохо для разделения на части, которые бы симметрично отражали друг друга, - от того, чтобы поместить фобический объект в название части. Я поместил объект фетиша там, где речь шла о фетише, но я не упомянул объект фобии, исходя из самых лучших побуждений. Но в итоге очевидно, что на первый план выведены два объекта: объект фобии и объект фетиша. И по какой причине эти два? Потому что оба они ставят кастрацию в центр вопроса. Потому что оба, по уже ставшим в психоанализе классическими - просто забытыми и не связанными с другими - представлениям осмыслены в связи с кастрационной тревогой. Другими словами, стоит только остановить выбор на этих двух объектах, и мы больше не можем полагаться только на привязку объекта к нарциссизму, мы вынуждены связать объект с кастрацией. Уже у Гловера и других авторов фобический объект рассматривается как заслонка, защита от тревоги кастрации. И фетиш тоже. И именно в этом смысле Лакан далее по ходу этого Семинара скажет, что эти два объекта устанавливают границы желания, что они являются двумя крайностями желания, о которых следует сказать, что одну ищут, а другую избегают. Эта симметричная позиция фобии и фетиша и их общая связь с тревогой кастрации объясняют, почему Лакан выбирает их для Семинара и придерживается и того, и другого до тех пор, пока фобия не переходит в широкомасштабную разработку, которой в итоге отводится вся вторая половина года.
Вы знаете, что на последней странице Ecrits, на странице 877, датированной первым декабря 1965 года, то есть почти через десять лет после работы над Семинаром IV, Лакан продолжает проводить параллель между фобией и фетишем. Он ссылается на материнскую кастрацию. Он говорит в точности о нехватке пениса матери, то есть он определяет материнскую кастрацию в терминах реального: «Нехватка пениса матери, в которой проявляется природа фаллоса». Если он может так написать, то потому, что есть Семинар IV. Он раскрывает для нас природу фрейдовского фаллоса, отталкиваясь от материнской кастрации, особенно в случае маленького Ганса, и от того, что субъект расщепляется здесь по отношению к реальности. Поэтому он использует здесь термины Фрейда о фетишизме как для фобии, так и для фетиша. И далее он говорит, что субъект видит разверзающуюся бездну, от которой он будет защищаться фобией [по сути, это краткое изложение некоторой части Семинара IV: фобический объект как оплот против пропасти материнской кастрации], а с другой стороны, прикрывать её той поверхностью, на которой он воздвигнет фетиш, и это очень точная отсылка на Главу VII Объектных отношений, посвящённую функции вуали.
Можно сказать, что на горизонте этого Семинара появляется матема, которую Лакан сформулирует и объяснит гораздо позже в Семинаре Тревога. Матема, намеченная в Семинаре IV, - это матема, в которой объект располагается в качестве коррелята кастрации, как затычка кастрации: а/-ф. Эта матема ещё не сформулирована в Семинаре IV, и она является тем, что превосходит, переступает матему а-а'. Матема а-а' описывает объект прежде всего как зеркальный образ - а' здесь представляет собой собственное Я. Эта матема устанавливает сущностную значимую связь между объектом и собственным Я во взаимной объективации, и то, что начинает раскручиваться в Семинаре IV, - это осмысление объекта через его связь с кастрацией. Понятно, что Лакан сохранит ту же самую маленькую букву, маленькую букву а, обозначавшую воображаемый объект, хотя это две совершенно разные формулировки, два совершенно разных акцента в отношении теории желания. Это случится, если мне не изменяет память, только в Переносе и Тревоге. Семинар Тревога Лакан использует как возможность поправить Объектные отношения.
На самом деле можно сказать, что фобия - это страх вместо тревоги. Это как способ организовать тревогу, тревогу, которая связана с пустотой, безграничностью,
представлениям осмыслены в связи с кастрационной тревогой. Другими словами, стоит только остановить выбор на этих двух объектах, и мы больше не можем полагаться только на привязку объекта к нарциссизму, мы вынуждены связать объект с кастрацией. Уже у Гловера и других авторов фобический объект рассматривается как заслонка, защита от тревоги кастрации. И фетиш тоже. И именно в этом смысле Лакан далее по ходу этого Семинара скажет, что эти два объекта устанавливают границы желания, что они являются двумя крайностями желания, о которых следует сказать, что одну ищут, а другую избегают. Эта симметричная позиция фобии и фетиша и их общая связь с тревогой кастрации объясняют, почему Лакан выбирает их для Семинара и придерживается и того, и другого до тех пор, пока фобия не переходит в широкомасштабную разработку, которой в итоге отводится вся вторая половина года.
Вы знаете, что на последней странице Ecrits, на странице 877, датированной первым декабря 1965 года, то есть почти через десять лет после работы над Семинаром IV, Лакан продолжает проводить параллель между фобией и фетишем. Он ссылается на материнскую кастрацию. Он говорит в точности о нехватке пениса матери, то есть он определяет материнскую кастрацию в терминах реального: «Нехватка пениса матери, в которой проявляется природа фаллоса». Если он может так написать, то потому, что есть Семинар IV. Он раскрывает для нас природу фрейдовского фаллоса, отталкиваясь от материнской кастрации, особенно в случае маленького Ганса, и от того, что субъект расщепляется здесь по отношению к реальности. Поэтому он использует здесь термины Фрейда о фетишизме как для фобии, так и для фетиша. И далее он говорит, что субъект видит разверзающуюся бездну, от которой он будет защищаться фобией [по сути, это краткое изложение некоторой части Семинара IV: фобический объект как оплот против пропасти материнской кастрации], а с другой стороны, прикрывать её той поверхностью, на которой он воздвигнет фетиш, и это очень точная отсылка на Главу VII Объектных отношений, посвящённую функции вуали.
Можно сказать, что на горизонте этого Семинара появляется матема, которую Лакан сформулирует и объяснит гораздо позже в Семинаре Тревога. Матема, намеченная в Семинаре IV, - это матема, в которой объект располагается в качестве коррелята кастрации, как затычка кастрации: а/-ф. Эта матема ещё не сформулирована в Семинаре IV, и она является тем, что превосходит, переступает матему а-а'. Матема а-а' описывает объект прежде всего как зеркальный образ - а' здесь представляет собой собственное Я. Эта матема устанавливает сущностную значимую связь между объектом и собственным Я во взаимной объективации, и то, что начинает раскручиваться в Семинаре IV, - это осмысление объекта через его связь с кастрацией. Понятно, что Лакан сохранит ту же самую маленькую букву, маленькую букву а, обозначавшую воображаемый объект, хотя это две совершенно разные формулировки, два совершенно разных акцента в отношении теории желания. Это случится, если мне не изменяет память, только в Переносе и Тревоге. Семинар Тревога Лакан использует как возможность поправить Объектные отношения.
На самом деле можно сказать, что фобия - это страх вместо тревоги. Это как способ организовать тревогу, тревогу, которая связана с пустотой, безграничностью, бесформенностью, заменив её страхом, выдумкой объекта, которого можно бояться, -объекта, который сам упорядочивает мир, устанавливает пределы, границы, указывает, какое пространство является безопасным, и таким образом задаёт структуру пригодных для жизни субъекта условий. Так что уже хорошо заметно то, что в операции фобии перекликается с операцией Имени-Отца. Это структурирующая операция. Можно сказать, что фобия осуществляет метафору, в которой страх заменяет тревогу. Также мы можем сказать, что в Объектных отношениях, строго говоря, нет теории тревоги. Скорее это место занимает теория страха. Фобия настолько структурирована, что весь анализ фобии указывает на тот факт, что в конечном итоге фобический объект является заменителем означающего Имени-Отца. Так в этом Семинаре преподнесена окончательная истина фобического объекта - знаменитой лошади - это на самом деле не объект. Дело в том, что на самом деле это означающее. По своей глубинной сути фобический объект является означающим, восприимчивым к различным значениям. В своем Направлении лечения Лакан охарактеризует его как означающее «на все руки». И именно из-за того, что Лакан проясняет в конце Семинара IV, а именно из-за означающей функции фобического объекта, я не хотел проводить параллель, которая, как кажется, напрашивается, между объектом-фетишем и фобическим объектом.
Что привлекает внимание тех, кто последовал учению Лакана, так это то, что он изначально принимает положение о том, что, как выразился Фрейд, тревога без объекта, тогда как у фобии он есть. Это означает, что вопрос об объекте а в смысле, которым его наделит Лакан, не может быть поставлен в этом Семинаре. Тем не менее он уже возникает на полях. Там, на полях, можно отметить тот факт, что в конечном итоге не совсем всё ясно по поводу объекта фобии, который сам по себе хорошо представлен, -это ведь лошадь; привет, лошадь, мы хорошо тебя знаем, - мы узнаём объект, репрезентирующий фобию. Но есть кое-что, что не даёт покоя, преследует и маленького Ганса, и этот Семинар, а именно то, что нет уверенности, что всё, что является тревогой, впитается и превратится в фобию. Это звучит в запоминающихся отрывках Семинара, где Лакан упоминает о чёрном пятне. Он придаёт большое значение черному пятну, которое Маленький Ганс постоянно видит где-то на голове лошади.
Чтобы доставить вам удовольствие, я могу процитировать отрывок. Это страница 244, и именно там, внизу, вы слышите ноту объекта а. Это то, что позже даёт Лакану материал для переработки объекта, чтобы помочь наделить его совершенно иным статусом, нежели репрезентативный объект:
Я не знаю, является ли фобия настолько репрезентативной, потому что очень трудно понять, чего боится ребёнок. Маленький Ганс артикулирует это массой способов [слово артикулировать следует сохранить, поскольку оно хорошо характеризует означающую артикуляцию, означающую маркировку объекта], но всегда остаётся совершенно особенный остаток.
Этот остаток и есть отправная точка того, что Лакан позже назовёт объектом а, а именно остаток после любого воображаемого представления и любой означающей артикуляции. Лакан продолжает:
бесформенностью, заменив её страхом, выдумкой объекта, которого можно бояться, -объекта, который сам упорядочивает мир, устанавливает пределы, границы, указывает, какое пространство является безопасным, и таким образом задаёт структуру пригодных для жизни субъекта условий. Так что уже хорошо заметно то, что в операции фобии перекликается с операцией Имени-Отца. Это структурирующая операция. Можно сказать, что фобия осуществляет метафору, в которой страх заменяет тревогу. Также мы можем сказать, что в Объектных отношениях, строго говоря, нет теории тревоги. Скорее это место занимает теория страха. Фобия настолько структурирована, что весь анализ фобии указывает на тот факт, что в конечном итоге фобический объект является заменителем означающего Имени-Отца. Так в этом Семинаре преподнесена окончательная истина фобического объекта - знаменитой лошади - это на самом деле не объект. Дело в том, что на самом деле это означающее. По своей глубинной сути фобический объект является означающим, восприимчивым к различным значениям. В своем Направлении лечения Лакан охарактеризует его как означающее «на все руки». И именно из-за того, что Лакан проясняет в конце Семинара IV, а именно из-за означающей функции фобического объекта, я не хотел проводить параллель, которая, как кажется, напрашивается, между объектом-фетишем и фобическим объектом.
Что привлекает внимание тех, кто последовал учению Лакана, так это то, что он изначально принимает положение о том, что, как выразился Фрейд, тревога без объекта, тогда как у фобии он есть. Это означает, что вопрос об объекте а в смысле, которым его наделит Лакан, не может быть поставлен в этом Семинаре. Тем не менее он уже возникает на полях. Там, на полях, можно отметить тот факт, что в конечном итоге не совсем всё ясно по поводу объекта фобии, который сам по себе хорошо представлен, -это ведь лошадь; привет, лошадь, мы хорошо тебя знаем, - мы узнаём объект, репрезентирующий фобию. Но есть кое-что, что не даёт покоя, преследует и маленького Ганса, и этот Семинар, а именно то, что нет уверенности, что всё, что является тревогой, впитается и превратится в фобию. Это звучит в запоминающихся отрывках Семинара, где Лакан упоминает о чёрном пятне. Он придаёт большое значение черному пятну, которое Маленький Ганс постоянно видит где-то на голове лошади.
Чтобы доставить вам удовольствие, я могу процитировать отрывок. Это страница 244, и именно там, внизу, вы слышите ноту объекта а. Это то, что позже даёт Лакану материал для переработки объекта, чтобы помочь наделить его совершенно иным статусом, нежели репрезентативный объект:
Я не знаю, является ли фобия настолько репрезентативной, потому что очень трудно понять, чего боится ребёнок. Маленький Ганс артикулирует это массой способов [слово артикулировать следует сохранить, поскольку оно хорошо характеризует означающую артикуляцию, означающую маркировку объекта], но всегда остаётся совершенно особенный остаток.
Этот остаток и есть отправная точка того, что Лакан позже назовёт объектом а, а именно остаток после любого воображаемого представления и любой означающей артикуляции. Лакан продолжает: Если вы прочитали текст, то знаете, что коричневая, белая, чёрная, зелёная лошадь - эти цвета, по-своему, небезынтересны - остаётся загадкой до самого конца наблюдения, и она несёт на своей морде непонятное измерение чёрного пятна, которое превращает её в животное доисторических времён. Отец спрашивает ребёнка: «Это железо у неё во рту?» «Вовсе нет», - говорит ребёнок. «Это упряжь?» - «Нет». - «У лошади, которую ты видел, есть пятно?» -«Нет, нет», - говорит ребёнок. Однажды устав, он говорит: «Да, у неё есть пятно, не будем больше об этом говорить». В чём тут есть определённость, так это в том, что мы не знаем, чем является чёрное пятно на морде лошади.
И Лакан делает ещё одно замечание, которое не развивает в этом Семинаре:
В общем, фобия не так проста, поскольку несёт в себе малоочевидные, практически несводимые к пониманию элементы. Если есть нечто, дающее представление о подобного рода негативном галлюциногенном элементе, о котором в анализе не перестают возникать всё новые теоретические изыскания, то это тот самый неясный элемент, проступающий наиболее отчётливо в виде пятна на голове лошади [...] Возможно даже, что лошади сохраняют на себе след тревоги.
Это означает, что то, что я называл метафорой тревоги, страхом, фобией, не является полным и есть остаток. И след этого остатка в наблюдении случая -беспокойство маленького Ганса по поводу чёрного пятна. Другими словами, здесь Лакан находится на грани обнаружения объекта тревоги, который является нерепрезентативным объектом и который он позже сформулирует именно как объект непредставимый, как объект а - остаток после любого представления. Это будет своего рода расширением этого чёрного пятна маленького Ганса. Размытое чёрное пятно появляется, возможно, не без связи с тревогой, как если бы лошади прикрывали этой расползающейся чернотой нечто проступающее, просвечивающее из-под неё. Но Лакан добавляет: «Но то, что появляется в переживаниях маленького Ганса, - это страх», - так что здесь он останавливается на этом.
Разумеется, это очень привлекало моё внимание, когда я переписывал этот Семинар. Я помнил об этом чёрном пятне, и я хотел удостовериться, насколько это уже было при столь тщательном анализе, проведённом Лаканом, предчувствием элемента, которому сначала он не может дать название и потом ничего особенного с ним не делает, но который он тем не менее выявляет, совершенно не акцентируя на нём внимания, не концептуализируя его, не определяя матемой, - всё это произойдёт гораздо позже. «Этот неясный элемент, - говорит он, - тайна которого напоминает лошадь в верхней части картины Тициана “Венера и Вулкан”». Я подумал: «Ну и прекрасно! Отыщем же эту картину Тициана!» Действительно, есть изображения Венеры и её мужа Вулкана, немного прихрамывающего кузнеца, и, конечно, нет ничего удивительного в том, что может существовать картина Тициана с этими двумя
Если вы прочитали текст, то знаете, что коричневая, белая, чёрная, зелёная лошадь - эти цвета, по-своему, небезынтересны - остаётся загадкой до самого конца наблюдения, и она несёт на своей морде непонятное измерение чёрного пятна, которое превращает её в животное доисторических времён. Отец спрашивает ребёнка: «Это железо у неё во рту?» «Вовсе нет», - говорит ребёнок. «Это упряжь?» - «Нет». - «У лошади, которую ты видел, есть пятно?» -«Нет, нет», - говорит ребёнок. Однажды устав, он говорит: «Да, у неё есть пятно, не будем больше об этом говорить». В чём тут есть определённость, так это в том, что мы не знаем, чем является чёрное пятно на морде лошади.
И Лакан делает ещё одно замечание, которое не развивает в этом Семинаре:
В общем, фобия не так проста, поскольку несёт в себе малоочевидные, практически несводимые к пониманию элементы. Если есть нечто, дающее представление о подобного рода негативном галлюциногенном элементе, о котором в анализе не перестают возникать всё новые теоретические изыскания, то это тот самый неясный элемент, проступающий наиболее отчётливо в виде пятна на голове лошади [...] Возможно даже, что лошади сохраняют на себе след тревоги.
Это означает, что то, что я называл метафорой тревоги, страхом, фобией, не является полным и есть остаток. И след этого остатка в наблюдении случая -беспокойство маленького Ганса по поводу чёрного пятна. Другими словами, здесь Лакан находится на грани обнаружения объекта тревоги, который является нерепрезентативным объектом и который он позже сформулирует именно как объект непредставимый, как объект а - остаток после любого представления. Это будет своего рода расширением этого чёрного пятна маленького Ганса. Размытое чёрное пятно появляется, возможно, не без связи с тревогой, как если бы лошади прикрывали этой расползающейся чернотой нечто проступающее, просвечивающее из-под неё. Но Лакан добавляет: «Но то, что появляется в переживаниях маленького Ганса, - это страх», - так что здесь он останавливается на этом.
Разумеется, это очень привлекало моё внимание, когда я переписывал этот Семинар. Я помнил об этом чёрном пятне, и я хотел удостовериться, насколько это уже было при столь тщательном анализе, проведённом Лаканом, предчувствием элемента, которому сначала он не может дать название и потом ничего особенного с ним не делает, но который он тем не менее выявляет, совершенно не акцентируя на нём внимания, не концептуализируя его, не определяя матемой, - всё это произойдёт гораздо позже. «Этот неясный элемент, - говорит он, - тайна которого напоминает лошадь в верхней части картины Тициана “Венера и Вулкан”». Я подумал: «Ну и прекрасно! Отыщем же эту картину Тициана!» Действительно, есть изображения Венеры и её мужа Вулкана, немного прихрамывающего кузнеца, и, конечно, нет ничего удивительного в том, что может существовать картина Тициана с этими двумя персонажами и лошадью, которая, по сути, является классическим иконологическим символом необузданной сексуальности. В произведениях эпохи Возрождения лошадь часто имеет это значение. За исключением того, что между Венерой и Вулканом всё совсем не так, поскольку Венера будет искать удовлетворение в этом регистре и порядке скорее с Марсом.
Так что я раздобыл каталог работ Тициана, где всё пронумеровано, и... я не смог найти эту картину! Вообще-то, меня это очень разозлило, потому что я очень хотел получить представление о непредставимом чёрном пятне! Неожиданно в полном каталоге работ Веронезе, то есть не у Тициана, я нашёл кое-что такое, что вполне могло оказаться тем самым. Это картина, которая находится в Метрополитен-музее, на которой изображены Венера и Марс, связанные любовью. Я могу показать вам её издалека, но это мало что даст, потому что она небольшая. В левой части картины мы видим великолепную обнажённую Венеру. Её приподнятую левую ногу обхватывает маленький прекрасный ангелочек, и, поскольку она находится в неустойчивом положении, она томно обвивает левой рукой шею Марса, одетого в доспехи. Это занимает примерно две трети картины, а на одной трети, в самой правой части, если мы стоим лицом к картине, изображена лошадь с фаской и уздой, и тоже с маленьким ангелочком, который, однако, поднимает маленький клинок, чтобы помешать лошади приблизиться. Беда в том, что на этой картине нет черного пятна! Я не вижу на ней ничего похожего. Впрочем, это не так просто, потому что она всё-таки маленькая. Кроме того, эта лошадь выглядит благоразумной, здесь мы ещё находимся на стадии прелюдии к отношениям. В любом случае, я бы не поместил это на обложку семинара, потому что это пресновато, и я думал, что название Объектные отношения, которое выглядит не очень аппетитно, должно быть дополнено изображением, которое действительно донесёт, о чём идёт речь. Поэтому я бы не стал использовать эту картину, тем более я всё ещё задаюсь вопросом, действительно ли это та картина, на которую ссылается Лакан. Я не знаю, прогуливался ли он тогда по Нью-Йорку. Эта картина не входит в число самых известных у Веронезе. Очень возможно, что картина, упоминаемая в этом Семинаре, может быть и картиной Тициана. Вас довольно много, и если кто-то из вас случайно увидит на картинах эпохи Возрождения лошадь с подозрительным чёрным пятном, я прошу вас как можно быстрее мне об этом сообщить.
Чуть позже, на странице 296 Семинара IV, вы найдёте очень сочную интерпретацию этого ожидающего своего появления объекта а, когда игра маленького Ганса с означающим вдохновляет его на остроту. Это глава, которую я назвал Означающее и острота, предвосхищающая Семинар V, который опирается на комментарий Остроумия и его отношения к бессознательному. Это зарождается в работе Лакана о маленьком Гансе с игрой означающего и игрой с означающим, которую практикует этот последний.
персонажами и лошадью, которая, по сути, является классическим иконологическим символом необузданной сексуальности. В произведениях эпохи Возрождения лошадь часто имеет это значение. За исключением того, что между Венерой и Вулканом всё совсем не так, поскольку Венера будет искать удовлетворение в этом регистре и порядке скорее с Марсом.
Так что я раздобыл каталог работ Тициана, где всё пронумеровано, и... я не смог найти эту картину! Вообще-то, меня это очень разозлило, потому что я очень хотел получить представление о непредставимом чёрном пятне! Неожиданно в полном каталоге работ Веронезе, то есть не у Тициана, я нашёл кое-что такое, что вполне могло оказаться тем самым. Это картина, которая находится в Метрополитен-музее, на которой изображены Венера и Марс, связанные любовью. Я могу показать вам её издалека, но это мало что даст, потому что она небольшая. В левой части картины мы видим великолепную обнажённую Венеру. Её приподнятую левую ногу обхватывает маленький прекрасный ангелочек, и, поскольку она находится в неустойчивом положении, она томно обвивает левой рукой шею Марса, одетого в доспехи. Это занимает примерно две трети картины, а на одной трети, в самой правой части, если мы стоим лицом к картине, изображена лошадь с фаской и уздой, и тоже с маленьким ангелочком, который, однако, поднимает маленький клинок, чтобы помешать лошади приблизиться. Беда в том, что на этой картине нет черного пятна! Я не вижу на ней ничего похожего. Впрочем, это не так просто, потому что она всё-таки маленькая. Кроме того, эта лошадь выглядит благоразумной, здесь мы ещё находимся на стадии прелюдии к отношениям. В любом случае, я бы не поместил это на обложку семинара, потому что это пресновато, и я думал, что название Объектные отношения, которое выглядит не очень аппетитно, должно быть дополнено изображением, которое действительно донесёт, о чём идёт речь. Поэтому я бы не стал использовать эту картину, тем более я всё ещё задаюсь вопросом, действительно ли это та картина, на которую ссылается Лакан. Я не знаю, прогуливался ли он тогда по Нью-Йорку. Эта картина не входит в число самых известных у Веронезе. Очень возможно, что картина, упоминаемая в этом Семинаре, может быть и картиной Тициана. Вас довольно много, и если кто-то из вас случайно увидит на картинах эпохи Возрождения лошадь с подозрительным чёрным пятном, я прошу вас как можно быстрее мне об этом сообщить.
Чуть позже, на странице 296 Семинара IV, вы найдёте очень сочную интерпретацию этого ожидающего своего появления объекта а, когда игра маленького Ганса с означающим вдохновляет его на остроту. Это глава, которую я назвал Означающее и острота, предвосхищающая Семинар V, который опирается на комментарий Остроумия и его отношения к бессознательному. Это зарождается в работе Лакана о маленьком Гансе с игрой означающего и игрой с означающим, которую практикует этот последний.

 они задаются вопросом пресловутой черноты над лошадиным ртом и думают, а что бы это могло значить, Фрейд говорит: «Ну вот, вытянутая голова, это ведь осёл». А когда я говорю осёл...
Вы всё равно скажете, что эта неуловимая чернота возле рта лошади представляет собой зияние реального, всегда скрытое за вуалью и за зеркалом, и оно всегда появляется на фоне в виде пятна.
Вот здесь Лакан ближе всего подходит к тому, что назовёт объектом а. Далее он говорит:
Откровенно говоря, возникает своего рода короткое замыкание между божественным характером профессорского превосходства, который не без юмора подчёркивает Фрейд, и тем суждением, которое, судя по признаниям современников, всегда было готово сорваться у Фрейда с губ и которое выражается во французском написании третьей буквой алфавита с последующим троеточием. Ну и м.к, думает Фрейд, говоря себе, что находящееся перед ним пересекается и сходится интуитивным видением бездонности, открывающейся перед ним глубины.
Проще говоря, речь о бездонной глупости. Лакан здесь имеет в виду слово con (фр. абс. лексика, мудак, а скорее пиздюк, поскольку это ещё и вагина - прим. переводчика), позаимствованное, осмелюсь предположить, у материнского пениса. Это слово появляется также не без связи с упомянутой им однажды фразой Ренана Глупость даёт представление о бесконечности, куда Лакан к глупости добавляет и разглагольствования психоаналитиков тоже. В этом уже есть намёк на логическое измерение [консистентность] объекта а, а также предвосхищение того, на что Лакан позже обратит внимание, говоря, что означающее глупо. В любом случае здесь уже заложен краеугольный камень, который заключается в анализе чёрного пятна с уже присутствующим у Лакана представлением о том, что за любым изображением и любым представлением есть непредставимое. И где это было у Лакана до сих пор? Ну очевидно, что именно в форме того, что в любой идентификации Я присутствует смерть - смерть, которая для каждого является чем-то непредставимым. Таким образом, здесь есть определённая нить, ряд намёков, которые могут кристаллизоваться и которые позже кристаллизуются в теории объекта а как непредставимого.
Можно сказать, что этот Семинар посвящён прибытию в батальон ещё одного типа объекта, неизвестного до сих пор. И если мы ещё и не дошли до свержения a' через а/-ф, то всё же есть переход от дуальности a-a' к совершенно другой конфигурации, которая является троичной - фаллос, мать и дитя, - которая уже фигурирует на краю Семинара III. Это означает, что мы с самого начала переходим от представления о взаимно обратимых отношениях объекта с собственным Я, от представления о нарциссической природе объекта, к представлению, которое между парой матери и ребёнка размещает фаллос:
они задаются вопросом пресловутой черноты над лошадиным ртом и думают, а что бы это могло значить, Фрейд говорит: «Ну вот, вытянутая голова, это ведь осёл». А когда я говорю осёл...
Вы всё равно скажете, что эта неуловимая чернота возле рта лошади представляет собой зияние реального, всегда скрытое за вуалью и за зеркалом, и оно всегда появляется на фоне в виде пятна.
Вот здесь Лакан ближе всего подходит к тому, что назовёт объектом а. Далее он говорит:
Откровенно говоря, возникает своего рода короткое замыкание между божественным характером профессорского превосходства, который не без юмора подчёркивает Фрейд, и тем суждением, которое, судя по признаниям современников, всегда было готово сорваться у Фрейда с губ и которое выражается во французском написании третьей буквой алфавита с последующим троеточием. Ну и м.к, думает Фрейд, говоря себе, что находящееся перед ним пересекается и сходится интуитивным видением бездонности, открывающейся перед ним глубины.
Проще говоря, речь о бездонной глупости. Лакан здесь имеет в виду слово con (фр. абс. лексика, мудак, а скорее пиздюк, поскольку это ещё и вагина - прим. переводчика), позаимствованное, осмелюсь предположить, у материнского пениса. Это слово появляется также не без связи с упомянутой им однажды фразой Ренана Глупость даёт представление о бесконечности, куда Лакан к глупости добавляет и разглагольствования психоаналитиков тоже. В этом уже есть намёк на логическое измерение [консистентность] объекта а, а также предвосхищение того, на что Лакан позже обратит внимание, говоря, что означающее глупо. В любом случае здесь уже заложен краеугольный камень, который заключается в анализе чёрного пятна с уже присутствующим у Лакана представлением о том, что за любым изображением и любым представлением есть непредставимое. И где это было у Лакана до сих пор? Ну очевидно, что именно в форме того, что в любой идентификации Я присутствует смерть - смерть, которая для каждого является чем-то непредставимым. Таким образом, здесь есть определённая нить, ряд намёков, которые могут кристаллизоваться и которые позже кристаллизуются в теории объекта а как непредставимого.
Можно сказать, что этот Семинар посвящён прибытию в батальон ещё одного типа объекта, неизвестного до сих пор. И если мы ещё и не дошли до свержения a' через а/-ф, то всё же есть переход от дуальности a-a' к совершенно другой конфигурации, которая является троичной - фаллос, мать и дитя, - которая уже фигурирует на краю Семинара III. Это означает, что мы с самого начала переходим от представления о взаимно обратимых отношениях объекта с собственным Я, от представления о нарциссической природе объекта, к представлению, которое между парой матери и ребёнка размещает фаллос:
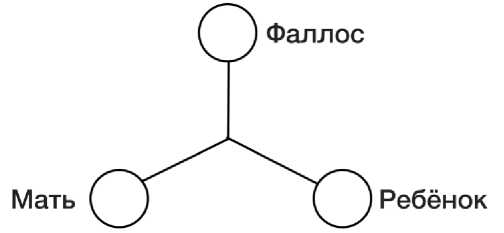 Вы найдёте это начало артикуляции Лакана в более завершённой форме, если обратитесь к схеме R в статье О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психозов, где Лакан описывает треугольник, в котором phi - воображаемый фаллос, m - собственное Я, i - зеркальное отражение, то есть он берёт тройку, представленную в Семинаре IV: малое phi в вершине этого прямоугольного
треугольника и пару а-а', где m - собственное Я и i - зеркальное отражение:
Вы найдёте это начало артикуляции Лакана в более завершённой форме, если обратитесь к схеме R в статье О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психозов, где Лакан описывает треугольник, в котором phi - воображаемый фаллос, m - собственное Я, i - зеркальное отражение, то есть он берёт тройку, представленную в Семинаре IV: малое phi в вершине этого прямоугольного
треугольника и пару а-а', где m - собственное Я и i - зеркальное отражение: Другими словами, он помещает фаллос в центр воображаемых отношений, между собственным Я и его зеркальным образом и достраивает конструкцию, продолжая линии до пункта М, матери, на верхней линии, и I, Я-идеала или пометки ребёнка, на перпендикуляре
Другими словами, он помещает фаллос в центр воображаемых отношений, между собственным Я и его зеркальным образом и достраивает конструкцию, продолжая линии до пункта М, матери, на верхней линии, и I, Я-идеала или пометки ребёнка, на перпендикуляре Иначе говоря, на этой схеме, представляющей психоз, есть исправление, касающееся пары а-а', которое состоит в том, что фаллос вписывается в центр согласно схеме в Объектных отношениях, и которое показывает, что пара матери и ребёнка поддерживает и перекрывает отношения собственного Я и его образа. Лакан прямо говорит об этом и именно таким образом меняет схему Стадии зеркала, вводя фаллос и достраивая пару матери и ребёнка на воображаемой паре. По этому поводу он говорит: «Два термина нарциссического отношения, т и I, служат аналогами символических отношений матери и ребёнка, которые его покрывают». Вот тип решения и
Иначе говоря, на этой схеме, представляющей психоз, есть исправление, касающееся пары а-а', которое состоит в том, что фаллос вписывается в центр согласно схеме в Объектных отношениях, и которое показывает, что пара матери и ребёнка поддерживает и перекрывает отношения собственного Я и его образа. Лакан прямо говорит об этом и именно таким образом меняет схему Стадии зеркала, вводя фаллос и достраивая пару матери и ребёнка на воображаемой паре. По этому поводу он говорит: «Два термина нарциссического отношения, т и I, служат аналогами символических отношений матери и ребёнка, которые его покрывают». Вот тип решения и согласования, к которому стремится Лакан, вводя фаллос в качестве третьей стороны в отношения, в которых он ранее отсутствовал. Впрочем, вы знаете, что эта схема завершается четвертой вершиной - отцом, то есть позицией Имени-Отца в Другом, предположительно аналогичной тому, что Лакан в то время называл закреплением значения субъекта под фаллическим означающим:
Ф / М
согласования, к которому стремится Лакан, вводя фаллос в качестве третьей стороны в отношения, в которых он ранее отсутствовал. Впрочем, вы знаете, что эта схема завершается четвертой вершиной - отцом, то есть позицией Имени-Отца в Другом, предположительно аналогичной тому, что Лакан в то время называл закреплением значения субъекта под фаллическим означающим:
Ф / М
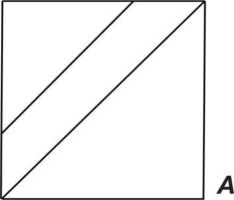
 образ тела! Это не только не объект, но и никогда не может им быть!» Лакан опять переобулся и все снова повелись. И напротив, появляется то, что он отмечает в противовес Франсуазе Дольто, - это Винникотт и его переходный объект, который, в частности, является не образом, а, противоположно, краешком объекта - частью объекта, имеющего контрфобическую ценность. Этот выбор в пользу Винникотта и в ущерб Дольто, конечно, направляет учение Лакана к краю.
Что ж, комментируя этот Семинар, я потратил больше времени, чем планировал, и теперь придется посвятить ему ещё и следующий раз, чтобы потом, я надеюсь, перейти к чему-то другому.
9 марта 1994
образ тела! Это не только не объект, но и никогда не может им быть!» Лакан опять переобулся и все снова повелись. И напротив, появляется то, что он отмечает в противовес Франсуазе Дольто, - это Винникотт и его переходный объект, который, в частности, является не образом, а, противоположно, краешком объекта - частью объекта, имеющего контрфобическую ценность. Этот выбор в пользу Винникотта и в ущерб Дольто, конечно, направляет учение Лакана к краю.
Что ж, комментируя этот Семинар, я потратил больше времени, чем планировал, и теперь придется посвятить ему ещё и следующий раз, чтобы потом, я надеюсь, перейти к чему-то другому.
9 марта 1994

 Я передам, почему бы и нет, это изображение по рядам, поскольку не могу его спроецировать. Я полагаю, что благодаря Жаку Бори картина найдена, поэтому в будущем издании я думаю, что смогу считать эту проблему решённой, если только другой первооткрыватель не предложит нам более убедительную версию, но, честно говоря, такое мне кажется маловероятным. Вот, я даю её вам, и вы, пожалуйста, передавайте её дальше. Смею надеяться, что в конце концов она вернётся ко мне, в ином случае Жак Бори, я надеюсь, даст мне ещё одну. Она ярче, чем изображение на картине Метрополитен... Послушайте, я не знаю, чем вы там занимаетесь, но если не передавать её быстро, то она не доберётся до последнего ряда. Посмотрите на пятно и передавайте дальше! Я говорю себе, что я должен делать это чаще: просить вас внести посильный вклад, когда я в затруднении.
Я сказал, что Семинар IV больше не читается, как раньше. Подтверждение этому я получаю отовсюду. Подтверждается, что есть старое прочтение и есть новое прочтение. В этом и заключается преимущество пунктуации. Есть чтение I и чтение II для каждого, даже для тех, кто, если можно так выразиться, настроен недоброжелательно. Но то, что я даю вам здесь, на этом курсе, - это элементы чтения III. Я как бы выворачиваю Объектные отношения наизнанку. Я приглашаю вас прочитать этот Семинар с изнанки его замысла, со стороны его основополагающей проблемы. В этом издании, в этом чтении II мы можем дать убаюкать себя образам, которые создаёт Лакан, и тем, что он привносит, чтобы как-то переубедить самого себя, то есть установить, в какой степени он до сих пор шел по ложному пути, и убедиться, что сейчас, в 1956-57 годах, он выбрал верное направление.
В каком направлении было сподвигнуто это клиническое исследование? Этот Семинар указывает нам на него, а именно на то, как объект в психоанализе мигрирует от воображаемого к символическому. Клинические факты, будучи изложенными и упорядоченными Лаканом, говорят о том, что воображаемого недостаточно, чтобы определить объект. Хотя отсылка к воображаемому сохраняется на протяжении всего Семинара, тем не менее значимость объекта не связана с воображаемым, даже если может показаться, что его природа относится именно к этому измерению. Другими словами, пара а-а', связь объекта и собственного Я - связь, которая находит своё обоснование во фрейдовском учении о Я-либидо, - не позволяет поставить на надлежащее ей место функцию объекта. Отсылка, преобладающая в клинических фактах, - это отсылка к символическому. Даже когда кажется, что воображаемое преобладает, само по себе это преобладание в действительности устанавливается в символических координатах субъекта. И это также относится к феноменам, возникающим в аналитическом лечении.
Отсылка к фобии приобретает здесь своё значение, что и продемонстрировано в Семинаре IV, половина которого посвящена разработке объекта фобии. По сути, фобия в этом отношении является пограничным примером, поскольку - и именно на это направлена демонстрация Лакана - сам по себе фобический объект, который мы по понятной причине могли бы считать воображаемым, а именно лошадь - это представление, которое при случае обнаруживается в произведениях искусства, и мы
Я передам, почему бы и нет, это изображение по рядам, поскольку не могу его спроецировать. Я полагаю, что благодаря Жаку Бори картина найдена, поэтому в будущем издании я думаю, что смогу считать эту проблему решённой, если только другой первооткрыватель не предложит нам более убедительную версию, но, честно говоря, такое мне кажется маловероятным. Вот, я даю её вам, и вы, пожалуйста, передавайте её дальше. Смею надеяться, что в конце концов она вернётся ко мне, в ином случае Жак Бори, я надеюсь, даст мне ещё одну. Она ярче, чем изображение на картине Метрополитен... Послушайте, я не знаю, чем вы там занимаетесь, но если не передавать её быстро, то она не доберётся до последнего ряда. Посмотрите на пятно и передавайте дальше! Я говорю себе, что я должен делать это чаще: просить вас внести посильный вклад, когда я в затруднении.
Я сказал, что Семинар IV больше не читается, как раньше. Подтверждение этому я получаю отовсюду. Подтверждается, что есть старое прочтение и есть новое прочтение. В этом и заключается преимущество пунктуации. Есть чтение I и чтение II для каждого, даже для тех, кто, если можно так выразиться, настроен недоброжелательно. Но то, что я даю вам здесь, на этом курсе, - это элементы чтения III. Я как бы выворачиваю Объектные отношения наизнанку. Я приглашаю вас прочитать этот Семинар с изнанки его замысла, со стороны его основополагающей проблемы. В этом издании, в этом чтении II мы можем дать убаюкать себя образам, которые создаёт Лакан, и тем, что он привносит, чтобы как-то переубедить самого себя, то есть установить, в какой степени он до сих пор шел по ложному пути, и убедиться, что сейчас, в 1956-57 годах, он выбрал верное направление.
В каком направлении было сподвигнуто это клиническое исследование? Этот Семинар указывает нам на него, а именно на то, как объект в психоанализе мигрирует от воображаемого к символическому. Клинические факты, будучи изложенными и упорядоченными Лаканом, говорят о том, что воображаемого недостаточно, чтобы определить объект. Хотя отсылка к воображаемому сохраняется на протяжении всего Семинара, тем не менее значимость объекта не связана с воображаемым, даже если может показаться, что его природа относится именно к этому измерению. Другими словами, пара а-а', связь объекта и собственного Я - связь, которая находит своё обоснование во фрейдовском учении о Я-либидо, - не позволяет поставить на надлежащее ей место функцию объекта. Отсылка, преобладающая в клинических фактах, - это отсылка к символическому. Даже когда кажется, что воображаемое преобладает, само по себе это преобладание в действительности устанавливается в символических координатах субъекта. И это также относится к феноменам, возникающим в аналитическом лечении.
Отсылка к фобии приобретает здесь своё значение, что и продемонстрировано в Семинаре IV, половина которого посвящена разработке объекта фобии. По сути, фобия в этом отношении является пограничным примером, поскольку - и именно на это направлена демонстрация Лакана - сам по себе фобический объект, который мы по понятной причине могли бы считать воображаемым, а именно лошадь - это представление, которое при случае обнаруживается в произведениях искусства, и мы понимаем, что это не то же самое, что слон в Семинаре I; фобический объект - и в этом состоит демонстрация Лакана - на самом деле является означающим. Именно это соображение заставило меня тщательно избегать изображения лошади на обложке -избегать увлечения внимания изображением лошади, тогда как демонстрация идёт совершенно противоположным путем, а именно в том направлении, что фобический объект - это не образ, а означающее, которое в своей наиболее глубинной сути замещает отцовское означающее.
Другой объект, рассматриваемый в этом Семинаре, пусть и менее проработанный, - это объект фетиша, который, несомненно, в том виде, в каком он предстаёт в чтении II и даже в чтении I, не является означающим, но в отношении которого также нет утверждения, что он целиком и полностью представляет собой образ. Его точный статус покрывает, так сказать, своего рода вуаль. Фобический объект, со своей стороны, в любом случае требует отсылки к символическому, к какому-то подвиду символической кастрации. Это объект, как его с самого начала определил Фрейд, клинический смысл которого остаётся неуловимым, если не связать его с фаллосом, точнее с символической нехваткой фаллоса. Поэтому в прошлый раз мне довелось сказать, что уже на горизонте этого Семинара по поводу объекта-фетиша мы обнаруживаем надобность, которая позже подтолкнёт Лакана произвести запись а/-ф. Эта более поздняя формула специально предназначена для того, чтобы зафиксировать функцию объекта как замены, как восполнителя символической кастрации воображаемого фаллоса.
Так я резюмирую то, что подчеркнул в прошлый раз: основополагающая проблематика этого семинара заключается в вопросе, является ли собственное Я коррелятом объекта в психоанализе. То, что Лакан ставит под вопрос, касается двоичности системы а-а', которая предполагает, что объект коррелятивен собственному Я. И ответ, который Лакан даёт в Семинаре IV, противоречит его собственному предыдущему построению и заключается в том, что коррелятом объекта является фаллос, а не собственное Я. Фаллос как воображаемый, но также и как объект, участвующий в символической кастрации. Это отрицательный фаллос - фаллос, заминусованный (négativé) означающим. Таким образом, недостаточно
довольствоваться очевидностью того, что объект является аттрактором либидо. Для объяснения образования объекта недостаточно предположения о первичном резервуаре либидо, из которого изначальное либидо собственного Я перетекает в объект. Если этот объект и приметен (un appât) для либидо, то с учётом того, что его приметность зиждется на его «нетности» (un «n'y a pas»). Приманка (appât) основана на «нет» отсутствия (n'y a pas) - фаллоса нет.
Затем в Семинаре разрабатывается концепция кастрации как символической нехватки воображаемого объекта. Это означает, что, конечно, объект является воображаемым, но он приобретает своё значение для желания только от символической нехватки. Что такое символическая нехватка? Это, прежде всего, фаллическая нехватка, минус фи, и Лакан позже пропишет её курсивом - типографской пометкой воображаемого в Écrits. Рассматриваемая символическая нехватка - это
понимаем, что это не то же самое, что слон в Семинаре I; фобический объект - и в этом состоит демонстрация Лакана - на самом деле является означающим. Именно это соображение заставило меня тщательно избегать изображения лошади на обложке -избегать увлечения внимания изображением лошади, тогда как демонстрация идёт совершенно противоположным путем, а именно в том направлении, что фобический объект - это не образ, а означающее, которое в своей наиболее глубинной сути замещает отцовское означающее.
Другой объект, рассматриваемый в этом Семинаре, пусть и менее проработанный, - это объект фетиша, который, несомненно, в том виде, в каком он предстаёт в чтении II и даже в чтении I, не является означающим, но в отношении которого также нет утверждения, что он целиком и полностью представляет собой образ. Его точный статус покрывает, так сказать, своего рода вуаль. Фобический объект, со своей стороны, в любом случае требует отсылки к символическому, к какому-то подвиду символической кастрации. Это объект, как его с самого начала определил Фрейд, клинический смысл которого остаётся неуловимым, если не связать его с фаллосом, точнее с символической нехваткой фаллоса. Поэтому в прошлый раз мне довелось сказать, что уже на горизонте этого Семинара по поводу объекта-фетиша мы обнаруживаем надобность, которая позже подтолкнёт Лакана произвести запись а/-ф. Эта более поздняя формула специально предназначена для того, чтобы зафиксировать функцию объекта как замены, как восполнителя символической кастрации воображаемого фаллоса.
Так я резюмирую то, что подчеркнул в прошлый раз: основополагающая проблематика этого семинара заключается в вопросе, является ли собственное Я коррелятом объекта в психоанализе. То, что Лакан ставит под вопрос, касается двоичности системы а-а', которая предполагает, что объект коррелятивен собственному Я. И ответ, который Лакан даёт в Семинаре IV, противоречит его собственному предыдущему построению и заключается в том, что коррелятом объекта является фаллос, а не собственное Я. Фаллос как воображаемый, но также и как объект, участвующий в символической кастрации. Это отрицательный фаллос - фаллос, заминусованный (négativé) означающим. Таким образом, недостаточно
довольствоваться очевидностью того, что объект является аттрактором либидо. Для объяснения образования объекта недостаточно предположения о первичном резервуаре либидо, из которого изначальное либидо собственного Я перетекает в объект. Если этот объект и приметен (un appât) для либидо, то с учётом того, что его приметность зиждется на его «нетности» (un «n'y a pas»). Приманка (appât) основана на «нет» отсутствия (n'y a pas) - фаллоса нет.
Затем в Семинаре разрабатывается концепция кастрации как символической нехватки воображаемого объекта. Это означает, что, конечно, объект является воображаемым, но он приобретает своё значение для желания только от символической нехватки. Что такое символическая нехватка? Это, прежде всего, фаллическая нехватка, минус фи, и Лакан позже пропишет её курсивом - типографской пометкой воображаемого в Écrits. Рассматриваемая символическая нехватка - это фаллическая нехватка, но в дальнейшем её развитии за пределами Семинара IV и в продолжении его хода окажется, что эту символическую нехватку также можно записать как $, поскольку субъект оказывается расщеплённым в отношении этой нехватки, как сам Фрейд отмечает это, рассматривая фетишизм. Таким образом, именно в этом Семинаре IV заложены те самые основы, которые чуть позже, на Семинарах V и VI, приведут Лакана к формуле фантазма, записанной следующим образом: ($ ◊ а) - формуле, обобщающей формулу а/-ф и указывающей на то, что воображаемый объект обнаруживает свою функцию по отношению к субъекту как субъекту расщеплённому или как к субъекту нехватки.
В сущности, урок, извлечённый из объектных отношений, отношений субъекта с объектом, превратится в концепт фантазма как связи перечёркнутого субъекта и объекта. В ходе своей разработки Лакан откажется от отсылки к объектным отношениям, но на это место придёт концепт фантазма. Когда мы обращаемся к понятию фантазма, фундаментального фантазма или пересечения фантазма как завершения анализа, мы говорим, что мы имеем дело с лакановской версией объектных отношений. Концепт фантазма является следствием разработки Лаканом объектных отношений, где в их основу помещена инстанция нехватки. В Семинаре IV это фаллическая нехватка, но впоследствии она обобщается как субъективная нехватка, так что сосредоточение на проблеме объекта в этом Семинаре является предисловием к новой теории желания, которую Лакан разработает в Семинарах Vи VI. Если мы хотим понять, что мотивирует эту новую теорию желания, которая остаётся ключевым моментом в учении Лакана, то мы найдём это именно в Семинаре IV. Здесь мы находим основы, основы того, что остаётся своего рода классической доктриной учения Лакана, и я говорю классической в том смысле, что она и преподаётся сейчас в классах.
В прошлый раз я сказал, что для Лакана речь шла о согласовании двух статусов желания: статуса желания как воображаемого на оси а-а' вместе с необходимостью учесть символический статус желания. Вплоть до Семинара IVсимволическое желание для Лакана было - я уже говорил об этом - гегелевским желанием, кожевским желанием добиться признания своего желания, с необходимостью принимаемым следствием того, что символическое желание доходит до подчинения влечений, как об этом написано в Вариантах образцового лечения. Так вот, это положение по ходу Семинара IV пропадает. Мы становимся свидетелями исчезновения этого желания добиться признания своего желания. То, что приходит на смену, - и проходит через всю эту разработку - то, что удивительным образом приходит на смену, - это любовь. В этом семинаре мы сталкиваемся с символическим статусом желания в учении о любви. Мне уже довелось сказать, что по-настоящему этот Семинар стоило назвать Женская сексуальность или Функция кастрации. Можно было бы также сказать, что его настоящее название Учение о любви - любви, которая точно не полагается на основу нарциссической влюблённости, если сослаться на Фрейда, любви, которая не понимается на основе воображаемого, но любви, мыслимой на основе символического, как самого центра символического, стержня символического.
фаллическая нехватка, но в дальнейшем её развитии за пределами Семинара IV и в продолжении его хода окажется, что эту символическую нехватку также можно записать как $, поскольку субъект оказывается расщеплённым в отношении этой нехватки, как сам Фрейд отмечает это, рассматривая фетишизм. Таким образом, именно в этом Семинаре IV заложены те самые основы, которые чуть позже, на Семинарах V и VI, приведут Лакана к формуле фантазма, записанной следующим образом: ($ ◊ а) - формуле, обобщающей формулу а/-ф и указывающей на то, что воображаемый объект обнаруживает свою функцию по отношению к субъекту как субъекту расщеплённому или как к субъекту нехватки.
В сущности, урок, извлечённый из объектных отношений, отношений субъекта с объектом, превратится в концепт фантазма как связи перечёркнутого субъекта и объекта. В ходе своей разработки Лакан откажется от отсылки к объектным отношениям, но на это место придёт концепт фантазма. Когда мы обращаемся к понятию фантазма, фундаментального фантазма или пересечения фантазма как завершения анализа, мы говорим, что мы имеем дело с лакановской версией объектных отношений. Концепт фантазма является следствием разработки Лаканом объектных отношений, где в их основу помещена инстанция нехватки. В Семинаре IV это фаллическая нехватка, но впоследствии она обобщается как субъективная нехватка, так что сосредоточение на проблеме объекта в этом Семинаре является предисловием к новой теории желания, которую Лакан разработает в Семинарах Vи VI. Если мы хотим понять, что мотивирует эту новую теорию желания, которая остаётся ключевым моментом в учении Лакана, то мы найдём это именно в Семинаре IV. Здесь мы находим основы, основы того, что остаётся своего рода классической доктриной учения Лакана, и я говорю классической в том смысле, что она и преподаётся сейчас в классах.
В прошлый раз я сказал, что для Лакана речь шла о согласовании двух статусов желания: статуса желания как воображаемого на оси а-а' вместе с необходимостью учесть символический статус желания. Вплоть до Семинара IVсимволическое желание для Лакана было - я уже говорил об этом - гегелевским желанием, кожевским желанием добиться признания своего желания, с необходимостью принимаемым следствием того, что символическое желание доходит до подчинения влечений, как об этом написано в Вариантах образцового лечения. Так вот, это положение по ходу Семинара IV пропадает. Мы становимся свидетелями исчезновения этого желания добиться признания своего желания. То, что приходит на смену, - и проходит через всю эту разработку - то, что удивительным образом приходит на смену, - это любовь. В этом семинаре мы сталкиваемся с символическим статусом желания в учении о любви. Мне уже довелось сказать, что по-настоящему этот Семинар стоило назвать Женская сексуальность или Функция кастрации. Можно было бы также сказать, что его настоящее название Учение о любви - любви, которая точно не полагается на основу нарциссической влюблённости, если сослаться на Фрейда, любви, которая не понимается на основе воображаемого, но любви, мыслимой на основе символического, как самого центра символического, стержня символического. Прежде чем мы к этому перейдем, я рассмотрю вопрос с другой стороны, напомнив, что в тот период, когда Лакан произносит Семинар IV, он пишет статью Инстанция буквы. Он пишет её в мае 1957 года, то есть когда он произносит то, что стало главой XIX Семинара IV, которую я назвал Перестановки, и главу XX, которую я назвал Преобразования. Вообще, есть три главы, XVIII, XIX и XX, в выборе названия для которых я испытывал поначалу некоторые затруднения, поскольку в них рассматриваются различные вопросы, касающиеся маленького Ганса. В конце концов я решил обозначить каждую из них квазиматематическим термином, поскольку каждый из этих уроков, как мне показалось, подчёркивал своё особое значение, и я оставил: Схемы, Перестановки, Преобразования.
Итак, именно в то время, когда Лакан занимается наблюдением случая маленького Ганса, он пишет Инстанцию буквы, между 14 мая и 26 мая - в даты, указанные в конце этой статьи. Стоит сослаться на эту работу, которая пишется одновременно с тем, как Лакан произносит Семинар IV, именно по той причине, что этот Семинар, если читать его обстоятельно, чтением II, выводит на первый план метафору. Весь комментарий наблюдения случая маленького Ганса подытоживается отцовской метафорой, то есть положением о том, что означающее желания матери -которое Лакан чуть позже, через три месяца после завершения Семинара IV, назовёт DM - должно быть заменено Именем-Отца и что из-за неспособности реального отца воплотить отцовское означающее начинается фобия как операция означающего, которое является заменителем (лошадь по-гречески - hippos) означающего желания матери. Таков тезис, разработанный к концу комментария наблюдения случая маленького Ганса.
Таким образом, этот семинар сосредоточен на представлении метафоры как замены одного означающего другим, но благодаря статье Инстанция буквы мы можем увидеть его скрытую пружину. Кажется, что Семинар сводится к основополагающей функции метафоры как замене одного означающего другим, но на менее очевидном уровне - на самом деле прямо так это не представлено, но именно так появляется в Инстанции буквы - речь идёт о функции метонимии. Именно функция метонимии представлена и подчёркнута в Семинаре IV - функция метонимии, которая заключается не в замене одного означающего другим S'/S, а в соединении одного означающего с другим: S...$. Это то, что Лакан называет метонимической структурой...
Из зала: не $, а S'!
Да, S... S'. Это то, что Лакан называет метонимической структурой. Она не разъясняется как таковая на этом семинаре, но она представлена в статье Инстанция буквы в терминах, которые я сейчас напомню и которые имеют самое прямое отношение к объектным отношениям. Это страница 515 Écrits: «Именно связь означающего с означающим делает возможным элизию, с помощью которой означающее вводит нехватку (manque de l’étre) бытия в объектные отношения, пользуясь присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание, направленное на ту самую нехватку, которой это значение служит основанием».
Прежде чем мы к этому перейдем, я рассмотрю вопрос с другой стороны, напомнив, что в тот период, когда Лакан произносит Семинар IV, он пишет статью Инстанция буквы. Он пишет её в мае 1957 года, то есть когда он произносит то, что стало главой XIX Семинара IV, которую я назвал Перестановки, и главу XX, которую я назвал Преобразования. Вообще, есть три главы, XVIII, XIX и XX, в выборе названия для которых я испытывал поначалу некоторые затруднения, поскольку в них рассматриваются различные вопросы, касающиеся маленького Ганса. В конце концов я решил обозначить каждую из них квазиматематическим термином, поскольку каждый из этих уроков, как мне показалось, подчёркивал своё особое значение, и я оставил: Схемы, Перестановки, Преобразования.
Итак, именно в то время, когда Лакан занимается наблюдением случая маленького Ганса, он пишет Инстанцию буквы, между 14 мая и 26 мая - в даты, указанные в конце этой статьи. Стоит сослаться на эту работу, которая пишется одновременно с тем, как Лакан произносит Семинар IV, именно по той причине, что этот Семинар, если читать его обстоятельно, чтением II, выводит на первый план метафору. Весь комментарий наблюдения случая маленького Ганса подытоживается отцовской метафорой, то есть положением о том, что означающее желания матери -которое Лакан чуть позже, через три месяца после завершения Семинара IV, назовёт DM - должно быть заменено Именем-Отца и что из-за неспособности реального отца воплотить отцовское означающее начинается фобия как операция означающего, которое является заменителем (лошадь по-гречески - hippos) означающего желания матери. Таков тезис, разработанный к концу комментария наблюдения случая маленького Ганса.
Таким образом, этот семинар сосредоточен на представлении метафоры как замены одного означающего другим, но благодаря статье Инстанция буквы мы можем увидеть его скрытую пружину. Кажется, что Семинар сводится к основополагающей функции метафоры как замене одного означающего другим, но на менее очевидном уровне - на самом деле прямо так это не представлено, но именно так появляется в Инстанции буквы - речь идёт о функции метонимии. Именно функция метонимии представлена и подчёркнута в Семинаре IV - функция метонимии, которая заключается не в замене одного означающего другим S'/S, а в соединении одного означающего с другим: S...$. Это то, что Лакан называет метонимической структурой...
Из зала: не $, а S'!
Да, S... S'. Это то, что Лакан называет метонимической структурой. Она не разъясняется как таковая на этом семинаре, но она представлена в статье Инстанция буквы в терминах, которые я сейчас напомню и которые имеют самое прямое отношение к объектным отношениям. Это страница 515 Écrits: «Именно связь означающего с означающим делает возможным элизию, с помощью которой означающее вводит нехватку (manque de l’étre) бытия в объектные отношения, пользуясь присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание, направленное на ту самую нехватку, которой это значение служит основанием». Я постараюсь объяснить вам эту фразу. Она значительно опережает то, что Лакан говорит в Семинаре IV. Это чрезвычайно точная формула, основанная на матеме, на квазиматематической формуле, которой нет в Семинаре IV, но которая тем не менее направляет его. О чём это вообще? Дело в том, что в основе объектных отношений - и таков вывод Лакана на этот счёт - лежит элизия. А что же такое элизия? Это именно нехватка - нехватка, внедрённая означающим в объектные отношения. Лакан квалифицирует её, как нехватку [расположенную] в бытии (manque de l'être), а чуть позже он предпочтёт выражение нехватка бытия (manque-à-être).
В этом состоит вклад Лакана, в этом его разрушение, его деконструкция доктрины объектных отношений. Чего не хватает в принятой доктрине объектных отношений, так это функции означающего как убийства вещи, поскольку означающее отменяет то, что является субстанцией реального объекта, поскольку оно оказывает смертоносное воздействие на реальный объект, следовательно, рассматриваемый объект в объектных отношениях возможно помыслить только на фоне этой аннуляции реального объекта, на фоне символической аннуляции, то есть аннуляции реального объекта означающим. Так Лакан сводит воедино в, так сказать, абстрактной манере демонстрацию своего положения о том, что объект мыслим только в его взаимосвязи с кастрацией как символической нехваткой. Присутствие кастрации в объекте относится к тому омертвляющему воздействию, которое оказывает означающее на реальный объект.
Надеюсь, это проясняет формулу: «...элизию, с помощью которой означающее вводит нехватку (manque de l’étre) бытия в объектные отношения». К этой формуле есть дополнение, которое остаётся загадочным, когда мы читаем Семинар Объектные отношения, потому что в нём она ещё не разработана. Лакан сделает это в следующем году. Добавим, что означающее пользуется присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание. Как я могу вам это объяснить? То, что Лакан здесь называет свойством обратной референции, относится к данности символического порядка - данности, которую он позже перефразирует, сказав, что означающее всегда отсылает к другому означающему.
Эта отсылка, зачем её специально связывать со значением? Это нужно в том измерении, где эта отсылка выводится на первый план, когда мы задаёмся по поводу какого-либо означающего вопросом, что оно значит. Что означает А? Общая структура ответа на этот вопрос заключается в том, что А означает Б. Вопрос о значении одного означающего всегда требует в качестве ответа выдвижения другого означающего. Это то, что Лакан сформулировал в ряде предыдущих текстов, говоря, что значение всегда отсылает к другому значению. Именно постольку, поскольку до сих пор он всегда формулировал эту структуру отсылки таким образом, он говорит об отсылке значения. Одно значение всегда отсылает к другому. В Инстанции буквы он указывает на то, что именно в эту структуру отсылки - которая присуща, скажем так, взаимосвязи означающего и означаемого - вклинивается желание. Именно в эту структуру отсылки вложено желание. Желание проскальзывает в отсылку от значения к значению. Это
Я постараюсь объяснить вам эту фразу. Она значительно опережает то, что Лакан говорит в Семинаре IV. Это чрезвычайно точная формула, основанная на матеме, на квазиматематической формуле, которой нет в Семинаре IV, но которая тем не менее направляет его. О чём это вообще? Дело в том, что в основе объектных отношений - и таков вывод Лакана на этот счёт - лежит элизия. А что же такое элизия? Это именно нехватка - нехватка, внедрённая означающим в объектные отношения. Лакан квалифицирует её, как нехватку [расположенную] в бытии (manque de l'être), а чуть позже он предпочтёт выражение нехватка бытия (manque-à-être).
В этом состоит вклад Лакана, в этом его разрушение, его деконструкция доктрины объектных отношений. Чего не хватает в принятой доктрине объектных отношений, так это функции означающего как убийства вещи, поскольку означающее отменяет то, что является субстанцией реального объекта, поскольку оно оказывает смертоносное воздействие на реальный объект, следовательно, рассматриваемый объект в объектных отношениях возможно помыслить только на фоне этой аннуляции реального объекта, на фоне символической аннуляции, то есть аннуляции реального объекта означающим. Так Лакан сводит воедино в, так сказать, абстрактной манере демонстрацию своего положения о том, что объект мыслим только в его взаимосвязи с кастрацией как символической нехваткой. Присутствие кастрации в объекте относится к тому омертвляющему воздействию, которое оказывает означающее на реальный объект.
Надеюсь, это проясняет формулу: «...элизию, с помощью которой означающее вводит нехватку (manque de l’étre) бытия в объектные отношения». К этой формуле есть дополнение, которое остаётся загадочным, когда мы читаем Семинар Объектные отношения, потому что в нём она ещё не разработана. Лакан сделает это в следующем году. Добавим, что означающее пользуется присущим значению свойством обратной референции, чтобы вложить в него желание. Как я могу вам это объяснить? То, что Лакан здесь называет свойством обратной референции, относится к данности символического порядка - данности, которую он позже перефразирует, сказав, что означающее всегда отсылает к другому означающему.
Эта отсылка, зачем её специально связывать со значением? Это нужно в том измерении, где эта отсылка выводится на первый план, когда мы задаёмся по поводу какого-либо означающего вопросом, что оно значит. Что означает А? Общая структура ответа на этот вопрос заключается в том, что А означает Б. Вопрос о значении одного означающего всегда требует в качестве ответа выдвижения другого означающего. Это то, что Лакан сформулировал в ряде предыдущих текстов, говоря, что значение всегда отсылает к другому значению. Именно постольку, поскольку до сих пор он всегда формулировал эту структуру отсылки таким образом, он говорит об отсылке значения. Одно значение всегда отсылает к другому. В Инстанции буквы он указывает на то, что именно в эту структуру отсылки - которая присуща, скажем так, взаимосвязи означающего и означаемого - вклинивается желание. Именно в эту структуру отсылки вложено желание. Желание проскальзывает в отсылку от значения к значению. Это означает, что желание - это не проекция либидо собственного Я на объекты, но вложение в структуру отсылки, присущую символическому порядку.
Если кто-то хочет дополнить это означающее присоединение, присущее метонимической структуре S...S', можно дополнить его термином, которым является означаемое. Действительно, когда мы задаемся вопросом означаемого означающего, всегда происходит отсылка к другому означающему, и когда Лакан говорит, что отсылка значения нужна для вложения желания, он имеет в виду, что желание, как означаемое, скользит под цепью означающих.
(Б ... Б') s
Исходя из этого, в статье Направление лечения на странице 640 Écrits - я придерживаюсь здесь продвинутой точки зрения на его учение - он сформулирует то, что является выводом Семинара IV, а именно: «Желание - это метонимия нехватки бытия». Означающее вводит нехватку, аннулируя объект, и желание определяющим образом связано с нехваткой, привнесённой означающим. Чтобы суметь возродить свою прежнюю доктрину о желании, связанном с собственным Я, Лакан здесь же, как бы это ни было странно, вслед за только что процитированной фразой о нехватке бытия на странице 640 Écrits, добавляет: «Я - это метонимия желания».
Если мы говорим, что следующий Семинар V продвигается с опорой на Семинар IV, то потому, что Лакан, отталкиваясь от остроты, развивает мысль и старается продемонстрировать, что объект как объект желания всегда метонимичен. Именно на этой формуле, которая не была озвучена в Семинаре IV, тем не менее сходится вся разработка. Добавлю, что именно в этом Семинаре IV мы видим то, что позже приведёт Лакана к утверждению, и всегда в соответствии с этой самой структурой отсылки, что означающее представляет субъекта другому означающему. Означающее для другого означающего - это отражение той метонимической связи, которую Лакан позже, в Семинаре XI, обозначит как S1-S2 вместо S...S'. И вместо маленькой буквы s означаемого он просто запишет нехватку в бытии (manque de l'être) или нехватку бытия (manque-à-être), а именно $. Таким образом появляется матрица S1-S2 и субъектная нехватка, курсирующая в означающей цепи $.
S1 S2 $
Позже Лакан дополнит эту намеченную в Семинаре XI схему, поместив на четвёртое место объект а, но уже в Семинаре IV очерчены линии этой структуры, и именно поэтому он знаменует собой весьма заметный отход от первоначальной разработки первых трёх Семинаров.
означает, что желание - это не проекция либидо собственного Я на объекты, но вложение в структуру отсылки, присущую символическому порядку.
Если кто-то хочет дополнить это означающее присоединение, присущее метонимической структуре S...S', можно дополнить его термином, которым является означаемое. Действительно, когда мы задаемся вопросом означаемого означающего, всегда происходит отсылка к другому означающему, и когда Лакан говорит, что отсылка значения нужна для вложения желания, он имеет в виду, что желание, как означаемое, скользит под цепью означающих.
(Б ... Б') s
Исходя из этого, в статье Направление лечения на странице 640 Écrits - я придерживаюсь здесь продвинутой точки зрения на его учение - он сформулирует то, что является выводом Семинара IV, а именно: «Желание - это метонимия нехватки бытия». Означающее вводит нехватку, аннулируя объект, и желание определяющим образом связано с нехваткой, привнесённой означающим. Чтобы суметь возродить свою прежнюю доктрину о желании, связанном с собственным Я, Лакан здесь же, как бы это ни было странно, вслед за только что процитированной фразой о нехватке бытия на странице 640 Écrits, добавляет: «Я - это метонимия желания».
Если мы говорим, что следующий Семинар V продвигается с опорой на Семинар IV, то потому, что Лакан, отталкиваясь от остроты, развивает мысль и старается продемонстрировать, что объект как объект желания всегда метонимичен. Именно на этой формуле, которая не была озвучена в Семинаре IV, тем не менее сходится вся разработка. Добавлю, что именно в этом Семинаре IV мы видим то, что позже приведёт Лакана к утверждению, и всегда в соответствии с этой самой структурой отсылки, что означающее представляет субъекта другому означающему. Означающее для другого означающего - это отражение той метонимической связи, которую Лакан позже, в Семинаре XI, обозначит как S1-S2 вместо S...S'. И вместо маленькой буквы s означаемого он просто запишет нехватку в бытии (manque de l'être) или нехватку бытия (manque-à-être), а именно $. Таким образом появляется матрица S1-S2 и субъектная нехватка, курсирующая в означающей цепи $.
S1 S2 $
Позже Лакан дополнит эту намеченную в Семинаре XI схему, поместив на четвёртое место объект а, но уже в Семинаре IV очерчены линии этой структуры, и именно поэтому он знаменует собой весьма заметный отход от первоначальной разработки первых трёх Семинаров. S1 S2
$ а
Теперь я вернусь в пределы этого горизонта, то есть к Семинару IV, а именно к тому, что сформулировано в его главе III. Действительно, Лакан во время этого Семинара от раза к разу обогащает свою концепцию символического порядка, как бы между делом развивая новую доктрину означающего, которую уже на явном уровне сделает темой следующего семинара. В главе III он приводит схему, которая может разочаровать своей простотой, смысл которой заключается в расположении означающего и означаемого по двум параллельным линиям. Я записываю означающее как Sa, а означаемое как 5ё:
Sa----------------------------------------------
5ё ---------------------------
Эта схема параллелей разочаровывает, если мы не понимаем, что её ценность заключается в том, чтобы пересмотреть исходный пункт, который Лакан напомнил в главе I, а именно перекрёстную схему, о которой я неоднократно говорил, - ту самую схему перекрестия между символическим порядком, S-А, и воображаемой осью, а-а'. Схема параллелей приобретает свою ценность, если мы понимаем, что она противоречит тому, о чём напомнил Лакан в главе I. В перекрёстной схеме либидо находится на воображаемой оси, которая препятствует чисто символической реализации. Перейти от этой схемы пересечений к схеме параллелей означает сказать нечто совсем другое. Обратите внимание на тот факт, что это две параллели, но тем не менее они не равны. Линия, обозначающая означающее, выше линии, обозначающей означаемое, и это положение отражает то, что Лакан хочет подчеркнуть, а именно, что либидо, желание, означаемое всегда отмечены отпечатком означающего. Таким образом он заменяет перекрёстную схему, в которой противопоставляются означающее и означаемое, означающее и желание, означающее и либидо, на схему, в которой означающее превосходит, доминирует, накладывает свой отпечаток на означаемое, а также на желание и либидо.
Вот что вы найдёте на страницах 47-48 Семинара: «Всё, что проявляется в вожделении (envie) [это кляйнианский термин], психической тенденции, либидо субъекта, всегда отмечено отпечатком означающего». Вместе с оговоркой, которая предвосхищает дальнейшую разработку объекта а : «...что не исключает того, что во влечении или стремлении может быть что-то ещё, что никоим образом не отмечено отпечатком означающего». Но центральным пунктом, который Лакан развивает в Семинаре IV, является то, что всё, относящееся к порядку либидо и желания, всегда отмечено означающим, всегда отмечено смертоносным воздействием означающего,
S1 S2
$ а
Теперь я вернусь в пределы этого горизонта, то есть к Семинару IV, а именно к тому, что сформулировано в его главе III. Действительно, Лакан во время этого Семинара от раза к разу обогащает свою концепцию символического порядка, как бы между делом развивая новую доктрину означающего, которую уже на явном уровне сделает темой следующего семинара. В главе III он приводит схему, которая может разочаровать своей простотой, смысл которой заключается в расположении означающего и означаемого по двум параллельным линиям. Я записываю означающее как Sa, а означаемое как 5ё:
Sa----------------------------------------------
5ё ---------------------------
Эта схема параллелей разочаровывает, если мы не понимаем, что её ценность заключается в том, чтобы пересмотреть исходный пункт, который Лакан напомнил в главе I, а именно перекрёстную схему, о которой я неоднократно говорил, - ту самую схему перекрестия между символическим порядком, S-А, и воображаемой осью, а-а'. Схема параллелей приобретает свою ценность, если мы понимаем, что она противоречит тому, о чём напомнил Лакан в главе I. В перекрёстной схеме либидо находится на воображаемой оси, которая препятствует чисто символической реализации. Перейти от этой схемы пересечений к схеме параллелей означает сказать нечто совсем другое. Обратите внимание на тот факт, что это две параллели, но тем не менее они не равны. Линия, обозначающая означающее, выше линии, обозначающей означаемое, и это положение отражает то, что Лакан хочет подчеркнуть, а именно, что либидо, желание, означаемое всегда отмечены отпечатком означающего. Таким образом он заменяет перекрёстную схему, в которой противопоставляются означающее и означаемое, означающее и желание, означающее и либидо, на схему, в которой означающее превосходит, доминирует, накладывает свой отпечаток на означаемое, а также на желание и либидо.
Вот что вы найдёте на страницах 47-48 Семинара: «Всё, что проявляется в вожделении (envie) [это кляйнианский термин], психической тенденции, либидо субъекта, всегда отмечено отпечатком означающего». Вместе с оговоркой, которая предвосхищает дальнейшую разработку объекта а : «...что не исключает того, что во влечении или стремлении может быть что-то ещё, что никоим образом не отмечено отпечатком означающего». Но центральным пунктом, который Лакан развивает в Семинаре IV, является то, что всё, относящееся к порядку либидо и желания, всегда отмечено означающим, всегда отмечено смертоносным воздействием означающего, всегда отмечено нехваткой, которую означающее привносит в либидо и в желание, -той нехваткой, которую мы можем назвать кастрацией или перечёркнутым субъектом.
Таким образом, объектные отношения не так просты. Они не просто связывают субъект и объект. В нём всегда присутствует и действует этот смертоносный, омертвляющий эффект. Позже, в Семинаре XI, Лакан назовёт его афанизисом - от греческого aphanisis, что означает исчезновение, - заимствуя у Эрнеста Джонса этот термин и уже в Семинаре IV задаваясь о нём вопросом. Всегда то, что располагается на этой линии, на линии желания или означаемого, отмечено нехваткой, введённой означающим. И именно в этой связи, кстати, на странице 48 Лакан впервые использует слово «требование» (demand) - термин, который он позже замечательным образом применит в сочетании с желанием. Но именно здесь, на странице 48, мы находим его, я думаю, впервые, причём на английском языке: demand. Очевидно, это было вдохновлено английским языком, где это слово demand означает требование (exigence).
Если Лакан ввёл это слово для обозначения того, что происходит по линии либидо, то именно потому, что в либидо, в аппетите, в вожделении (envie) нет ничего естественного. Либидо отмечено означающим и именно поэтому по сути - это требование (exigence). Это не просто инстинкт, это не чисто естественный аппетит, уже на этом уровне он устанавливается в субъекте как требование (exigence). Существует разница между аппетитом и требованием, аппетит можно рассматривать как нечто естественное, в то время как требование составлено означающими. Требование (exigence) - это то, что по-французски называется запросом, просьбой (demande) или мольбой. Это уже формулировка. Поэтому Лакан пишет: «Означающее вводится в естественное движение, в желание или в требование (demande). Последний термин используют в английском языке для выражения примитивного аппетита в смысле требования (exigence), хотя аппетит как таковой не отмечен законами означающего».
Лакан интересуется здесь тем, что в конечном итоге в слове требование (demande) указывает на то, что сам естественный аппетит отмечен законами означающего, и здесь расположен исходный пункт его построения, которое станет записью D/d. Есть требование, и под требованием, передвигаясь под ним, располагается желание. Таким образом, любые отсылки к естественному аппетиту оказываются исключёнными.
Всё построение Лакана, представленное в главе III, состоит в том, что означающее заимствует элементы у тела. Оно заимствует элементы в воображаемом, оно заимствует элементы у любого воображаемого значения, и эти элементы берутся означающим и принимают форму того, что Лакан мимоходом называет орудиями (armes). Слово орудия, которое он использует, определённо должно иметь отношение к гербу. Действительно, на гербах присутствует ряд репрезентативных элементов: башни, лошади, единороги, которые являются воображаемыми элементами, но имеют символическое значение в пространстве герба. Лакан, кстати, приводит забавный пример на эту тему. Он говорит о том, что нельзя свести на нет в воображаемом, из чего мы делаем символы. Он говорит о фаллической эрекции, которая порождает ряд
всегда отмечено нехваткой, которую означающее привносит в либидо и в желание, -той нехваткой, которую мы можем назвать кастрацией или перечёркнутым субъектом.
Таким образом, объектные отношения не так просты. Они не просто связывают субъект и объект. В нём всегда присутствует и действует этот смертоносный, омертвляющий эффект. Позже, в Семинаре XI, Лакан назовёт его афанизисом - от греческого aphanisis, что означает исчезновение, - заимствуя у Эрнеста Джонса этот термин и уже в Семинаре IV задаваясь о нём вопросом. Всегда то, что располагается на этой линии, на линии желания или означаемого, отмечено нехваткой, введённой означающим. И именно в этой связи, кстати, на странице 48 Лакан впервые использует слово «требование» (demand) - термин, который он позже замечательным образом применит в сочетании с желанием. Но именно здесь, на странице 48, мы находим его, я думаю, впервые, причём на английском языке: demand. Очевидно, это было вдохновлено английским языком, где это слово demand означает требование (exigence).
Если Лакан ввёл это слово для обозначения того, что происходит по линии либидо, то именно потому, что в либидо, в аппетите, в вожделении (envie) нет ничего естественного. Либидо отмечено означающим и именно поэтому по сути - это требование (exigence). Это не просто инстинкт, это не чисто естественный аппетит, уже на этом уровне он устанавливается в субъекте как требование (exigence). Существует разница между аппетитом и требованием, аппетит можно рассматривать как нечто естественное, в то время как требование составлено означающими. Требование (exigence) - это то, что по-французски называется запросом, просьбой (demande) или мольбой. Это уже формулировка. Поэтому Лакан пишет: «Означающее вводится в естественное движение, в желание или в требование (demande). Последний термин используют в английском языке для выражения примитивного аппетита в смысле требования (exigence), хотя аппетит как таковой не отмечен законами означающего».
Лакан интересуется здесь тем, что в конечном итоге в слове требование (demande) указывает на то, что сам естественный аппетит отмечен законами означающего, и здесь расположен исходный пункт его построения, которое станет записью D/d. Есть требование, и под требованием, передвигаясь под ним, располагается желание. Таким образом, любые отсылки к естественному аппетиту оказываются исключёнными.
Всё построение Лакана, представленное в главе III, состоит в том, что означающее заимствует элементы у тела. Оно заимствует элементы в воображаемом, оно заимствует элементы у любого воображаемого значения, и эти элементы берутся означающим и принимают форму того, что Лакан мимоходом называет орудиями (armes). Слово орудия, которое он использует, определённо должно иметь отношение к гербу. Действительно, на гербах присутствует ряд репрезентативных элементов: башни, лошади, единороги, которые являются воображаемыми элементами, но имеют символическое значение в пространстве герба. Лакан, кстати, приводит забавный пример на эту тему. Он говорит о том, что нельзя свести на нет в воображаемом, из чего мы делаем символы. Он говорит о фаллической эрекции, которая порождает ряд символов, а также об эрекции собственного тела - прямостоящего тела человека или животного. В этой связи он указывает на символ стоящего вертикально камня как на своего рода минимальный символ, примеры которого действительно можно найти на останках доисторических мест обитания, где минимум символизма достигается в том, чтобы взять и поставить вертикально камень, - в этом примере имеет место переход от представления о реальном объекте к его символической функции.
Что забавно - я заметил это несколько лет назад - так это то, что как раз в непосредственной близости от того места, где Лакан написал ряд своих произведений, то есть недалеко от его загородного дома в Ивелин, в Гитранкуре, есть - по местному выражению - Прямой камень; он расположен посреди поля в старых руинах в пятистах метрах от дома Лакана, и он действительно является таким доисторическим камнем, стоящим вертикально в доступном для посещения месте.
Итак, вот то, что Лакан называет символизацией, которая позже даст некоторым его ученикам материал для больших исследований. На странице 51 Объектных отношений он пишет: «Эти элементы [те элементы, которые заимствованы в воображаемом, в воображаемых значениях, в теле, в природе] вводятся в место означающего, которое характеризуется тем, что артикулируется в соответствии с логическими законами». Следует понимать, что в схеме параллелей это отражено, с одной стороны, в расположении означающего над означаемым, а с другой стороны, в том, что в означающее привнесены элементы, заимствованные в означаемом. Они становятся символами. Большой камень, лежащий на земле, устанавливается вертикально, и в этот момент, когда он установлен и может послужить ориентиром для людей, он становится символом.
Это вводит в психоанализ учение об объекте: объект всегда обработан, он никогда не бывает просто реальным или воображаемым, он всегда переделывается, обрабатывается означающим. Вот что формулирует Лакан на странице 54, когда критикует идею развития как гармоничного и непрерывного перехода субъекта от одного объекта к другому: «Напротив, речь идёт о кризисном развитии, в котором уже с самого начала объекты, как мы их называем, различных периодов, орального, анального, уже принимаются за нечто другое, нежели то, чем они являются [это один из способов отразить их символизацию]. Эти объекты уже обработаны означающим и подвержены операциям, чью означающую структуру от них уже не отмыслить».
Другими словами, хотя в духе Фрейда можно было бы думать, что есть простой переход от собственного Я к объекту, вместо этого предполагается необходимость работы - работы, которая является воздействием означающего на объекты. Исходя из этого, природа всегда расприроживается (dénaturée) означающим. Что имеет одно важное последствие, на которое указывает Лакан, а именно то, что между полами нет естественно заданной гармонии. Вот как звучит это на странице 49: «В развитии ребёнка, [здесь он ссылается на Фрейда] и, в частности, в его отношениях с сексуальными образами, ничто не указывает на наличие уже проложенных рельсов в направлении свободного доступа от мужчины к женщине и обратно. Никоим образом
символов, а также об эрекции собственного тела - прямостоящего тела человека или животного. В этой связи он указывает на символ стоящего вертикально камня как на своего рода минимальный символ, примеры которого действительно можно найти на останках доисторических мест обитания, где минимум символизма достигается в том, чтобы взять и поставить вертикально камень, - в этом примере имеет место переход от представления о реальном объекте к его символической функции.
Что забавно - я заметил это несколько лет назад - так это то, что как раз в непосредственной близости от того места, где Лакан написал ряд своих произведений, то есть недалеко от его загородного дома в Ивелин, в Гитранкуре, есть - по местному выражению - Прямой камень; он расположен посреди поля в старых руинах в пятистах метрах от дома Лакана, и он действительно является таким доисторическим камнем, стоящим вертикально в доступном для посещения месте.
Итак, вот то, что Лакан называет символизацией, которая позже даст некоторым его ученикам материал для больших исследований. На странице 51 Объектных отношений он пишет: «Эти элементы [те элементы, которые заимствованы в воображаемом, в воображаемых значениях, в теле, в природе] вводятся в место означающего, которое характеризуется тем, что артикулируется в соответствии с логическими законами». Следует понимать, что в схеме параллелей это отражено, с одной стороны, в расположении означающего над означаемым, а с другой стороны, в том, что в означающее привнесены элементы, заимствованные в означаемом. Они становятся символами. Большой камень, лежащий на земле, устанавливается вертикально, и в этот момент, когда он установлен и может послужить ориентиром для людей, он становится символом.
Это вводит в психоанализ учение об объекте: объект всегда обработан, он никогда не бывает просто реальным или воображаемым, он всегда переделывается, обрабатывается означающим. Вот что формулирует Лакан на странице 54, когда критикует идею развития как гармоничного и непрерывного перехода субъекта от одного объекта к другому: «Напротив, речь идёт о кризисном развитии, в котором уже с самого начала объекты, как мы их называем, различных периодов, орального, анального, уже принимаются за нечто другое, нежели то, чем они являются [это один из способов отразить их символизацию]. Эти объекты уже обработаны означающим и подвержены операциям, чью означающую структуру от них уже не отмыслить».
Другими словами, хотя в духе Фрейда можно было бы думать, что есть простой переход от собственного Я к объекту, вместо этого предполагается необходимость работы - работы, которая является воздействием означающего на объекты. Исходя из этого, природа всегда расприроживается (dénaturée) означающим. Что имеет одно важное последствие, на которое указывает Лакан, а именно то, что между полами нет естественно заданной гармонии. Вот как звучит это на странице 49: «В развитии ребёнка, [здесь он ссылается на Фрейда] и, в частности, в его отношениях с сексуальными образами, ничто не указывает на наличие уже проложенных рельсов в направлении свободного доступа от мужчины к женщине и обратно. Никоим образом речь не идёт о том, что для их встречи нет другого препятствия, кроме как какой-то несчастный случай, который может произойти в пути».
Уже этот отрывок о воздействии означающего на то, что полагается естественным, намечает перспективу для утверждения впоследствии отсутствия сексуальной связи. Это сказано уже здесь. И в то же время ещё не совсем, поскольку в точности говорится о том, что воображаемое не отвечает на вопрос о том, как мужчина связан с женщиной и как женщина связана с мужчиной, и чтобы узнать это, нужно пройти через посредничество означающего. Именно в тот момент, когда Лакан удостоверится, что означающее также не отвечает на этот вопрос, он сможет сформулировать, что сексуальной связи нет и что самая жестокая нехватка, вписанная в естественность в результате воздействия означающего, - это отсутствие регулярной, устойчивой, установленной, типичной связи между мужчиной и женщиной. Некоторым образом (-s) и $ имеют это значение. Это разные записи символической нехватки, которые несут в себе, возможно, крайний смысл, а именно то, что между мужчиной и женщиной нет типичной сексуальной связи из-за означающего, из-за того, что человек живёт в языке.
Таким образом, в этой символизации объекта, в этом акценте на символическом восприятии объекта мы наблюдаем улетучивание воображаемого или реального объекта, который становится материальным только для символического, и это даст Лакану основание сенсационно перепрочитать у Фрейда, что означает латентный период. Латентный период у Фрейда означает, что образование желания происходит в два такта, сначала происходит инвестирование в ряд объектов, после чего процесс затухает, чтобы возобновиться снова, но в другой форме - в форме повторяющейся и затверженной (inoubliable). Латентный период означает, что первый объект потерян, а затем найден вновь.
Только что это значит, что он был потерян? У самого Фрейда это означает, что он был вытеснен и что, будучи вытесненным, он сохранился в бессознательной памяти. Вот почему Лакан особым образом отражает фрейдовскую идею латентного периода, говоря, что происходит перенесение объекта посредством означающего. Когда объект возвращается после этого перенесения означающим, кое-что уже не работает, он отмечен означающим, отмечен нехваткой, внесённой означающим, и с тех пор объект - объект, который возвращается после латентного периода, - играет разрушительную роль в любых дальнейших объектных отношениях субъекта.
Именно такое значение Лакан придаёт латентному периоду. Дело в том, что в конечном итоге все объектные отношения являются нарушенными отношениями. Это не естественные отношения, это отношения, отмеченные воздействием означающего, отмеченные потерей и возвращением, так что после этой операции нет никаких шансов, что объект окажется подходящим естественным объектом. Это значит, что кастрация никогда не даёт возможности заполучения объекта. Здесь мы уже можем обнаружить исток более продвинутой формулы, которую Лакан приведёт гораздо позже, а именно, что центром объекта а является кастрация. Это формула может показаться загадочной, но её основания заложены в главе III Объектных отношений.
речь не идёт о том, что для их встречи нет другого препятствия, кроме как какой-то несчастный случай, который может произойти в пути».
Уже этот отрывок о воздействии означающего на то, что полагается естественным, намечает перспективу для утверждения впоследствии отсутствия сексуальной связи. Это сказано уже здесь. И в то же время ещё не совсем, поскольку в точности говорится о том, что воображаемое не отвечает на вопрос о том, как мужчина связан с женщиной и как женщина связана с мужчиной, и чтобы узнать это, нужно пройти через посредничество означающего. Именно в тот момент, когда Лакан удостоверится, что означающее также не отвечает на этот вопрос, он сможет сформулировать, что сексуальной связи нет и что самая жестокая нехватка, вписанная в естественность в результате воздействия означающего, - это отсутствие регулярной, устойчивой, установленной, типичной связи между мужчиной и женщиной. Некоторым образом (-s) и $ имеют это значение. Это разные записи символической нехватки, которые несут в себе, возможно, крайний смысл, а именно то, что между мужчиной и женщиной нет типичной сексуальной связи из-за означающего, из-за того, что человек живёт в языке.
Таким образом, в этой символизации объекта, в этом акценте на символическом восприятии объекта мы наблюдаем улетучивание воображаемого или реального объекта, который становится материальным только для символического, и это даст Лакану основание сенсационно перепрочитать у Фрейда, что означает латентный период. Латентный период у Фрейда означает, что образование желания происходит в два такта, сначала происходит инвестирование в ряд объектов, после чего процесс затухает, чтобы возобновиться снова, но в другой форме - в форме повторяющейся и затверженной (inoubliable). Латентный период означает, что первый объект потерян, а затем найден вновь.
Только что это значит, что он был потерян? У самого Фрейда это означает, что он был вытеснен и что, будучи вытесненным, он сохранился в бессознательной памяти. Вот почему Лакан особым образом отражает фрейдовскую идею латентного периода, говоря, что происходит перенесение объекта посредством означающего. Когда объект возвращается после этого перенесения означающим, кое-что уже не работает, он отмечен означающим, отмечен нехваткой, внесённой означающим, и с тех пор объект - объект, который возвращается после латентного периода, - играет разрушительную роль в любых дальнейших объектных отношениях субъекта.
Именно такое значение Лакан придаёт латентному периоду. Дело в том, что в конечном итоге все объектные отношения являются нарушенными отношениями. Это не естественные отношения, это отношения, отмеченные воздействием означающего, отмеченные потерей и возвращением, так что после этой операции нет никаких шансов, что объект окажется подходящим естественным объектом. Это значит, что кастрация никогда не даёт возможности заполучения объекта. Здесь мы уже можем обнаружить исток более продвинутой формулы, которую Лакан приведёт гораздо позже, а именно, что центром объекта а является кастрация. Это формула может показаться загадочной, но её основания заложены в главе III Объектных отношений. Следующим шагом в концепте объекта является, по-видимому, размещение в центре фрустрации. Я, кстати, акцентировал этот термин в главе IV, назвав её Диалектика фрустрации. Я подчеркнул это диалектическое слово - слово, которое использовалось в других местах само по себе, без уточнения его места в контексте исследования, - мне показалось, суть демонстрации Лакана заключалась в том, чтобы показать, как объект из реального, каким он изначально является, становится символическим. Это превращение объекта из реального в символический Лакан отслеживает во всём этом Семинаре, он иллюстрирует его и придаёт ему форму, применяя теоретическую реконструкцию (fiction) момента развития, исправляя или перерабатывая то, что он до сих пор говорил о Fort-Da. Он перерабатывает Fort-Da, чтобы показать, как объект становится символическим. Для этого он приводит Fort-Da и создаёт диалектическую конструкцию, которая носит отчётливый, совершенно теоретический характер и основана на том факте, который Фрейд подчёркивает в По ту сторону принципа удовольствия.
В Римской речи, в Семинаре об Украденном письме Лакан использовал Fort-Da для того, чтобы показать, как субъект вводится в символический порядок. Лакан наделял значением бинарность фонем, повторение, а в Семинаре IV он возвращается к представлению Fort-Da как опыта фрустрации. Нам нужно поладить с этим словом фрустрация, которое тогда было в моде. Лакан его подхватывает и, так сказать, переворачивает. Фрустрация, по сути, означает, что субъект испытывает аппетит к реальному объекту, которого у него нет, и это доставляет определённые неудобства.
Таким образом, Лакан использует эту концепцию и даже формулирует, что она является истинным центром отношений матери и ребёнка. Но он говорит это, пересматривая смысл фрустрации, показывая, что она разыгрывается между любовью и наслаждением. Наслаждение здесь вообще не на первом плане. То, что находится на первом плане, - это слово любви. Помещая фрустрацию в центр отношений матери и ребёнка, Лакан изобретает новую концепцию любви, которая вполне применима, поскольку задаёт место фаллоса. Можно сказать, что в некотором смысле клиника Семинара IV основана на любви.
Лакан представил Fort-Da как свидетельство своего рода слепой автоматической работы, как своего рода немного ацефальный алгоритм, где S1 обращается к S2 и с возвратом по петле к S1. Но что он вводит здесь нового, так это то, что это действо разыгрывается в отношениях с одним существом, в отношениях с матерью. Раньше он акцентировал внимание на логическом аспекте Fort-Da, на аспекте логического автоматизма, а здесь мы имеем как бы перевёрнутую перспективу: центральное место занимает мать как источник поощрения, то есть как та, кто даёт грудь, как та, кто даёт заботу. В этом случае речь идёт о маленьком ребёнке, который, заняв место матери, принимается играть со своим маленьким мячиком и с фонемами, здесь нехватка касается удовлетворения, которое приносит реальный объект. Ребёнок обнаруживает себя субъектом фрустрации наслаждения.
В Fort-Da мы могли бы сказать, что ребёнок в игре воспроизводит, как уходит и приходит мать и что он использует для этого любой объект. В некотором смысле Fort-
Следующим шагом в концепте объекта является, по-видимому, размещение в центре фрустрации. Я, кстати, акцентировал этот термин в главе IV, назвав её Диалектика фрустрации. Я подчеркнул это диалектическое слово - слово, которое использовалось в других местах само по себе, без уточнения его места в контексте исследования, - мне показалось, суть демонстрации Лакана заключалась в том, чтобы показать, как объект из реального, каким он изначально является, становится символическим. Это превращение объекта из реального в символический Лакан отслеживает во всём этом Семинаре, он иллюстрирует его и придаёт ему форму, применяя теоретическую реконструкцию (fiction) момента развития, исправляя или перерабатывая то, что он до сих пор говорил о Fort-Da. Он перерабатывает Fort-Da, чтобы показать, как объект становится символическим. Для этого он приводит Fort-Da и создаёт диалектическую конструкцию, которая носит отчётливый, совершенно теоретический характер и основана на том факте, который Фрейд подчёркивает в По ту сторону принципа удовольствия.
В Римской речи, в Семинаре об Украденном письме Лакан использовал Fort-Da для того, чтобы показать, как субъект вводится в символический порядок. Лакан наделял значением бинарность фонем, повторение, а в Семинаре IV он возвращается к представлению Fort-Da как опыта фрустрации. Нам нужно поладить с этим словом фрустрация, которое тогда было в моде. Лакан его подхватывает и, так сказать, переворачивает. Фрустрация, по сути, означает, что субъект испытывает аппетит к реальному объекту, которого у него нет, и это доставляет определённые неудобства.
Таким образом, Лакан использует эту концепцию и даже формулирует, что она является истинным центром отношений матери и ребёнка. Но он говорит это, пересматривая смысл фрустрации, показывая, что она разыгрывается между любовью и наслаждением. Наслаждение здесь вообще не на первом плане. То, что находится на первом плане, - это слово любви. Помещая фрустрацию в центр отношений матери и ребёнка, Лакан изобретает новую концепцию любви, которая вполне применима, поскольку задаёт место фаллоса. Можно сказать, что в некотором смысле клиника Семинара IV основана на любви.
Лакан представил Fort-Da как свидетельство своего рода слепой автоматической работы, как своего рода немного ацефальный алгоритм, где S1 обращается к S2 и с возвратом по петле к S1. Но что он вводит здесь нового, так это то, что это действо разыгрывается в отношениях с одним существом, в отношениях с матерью. Раньше он акцентировал внимание на логическом аспекте Fort-Da, на аспекте логического автоматизма, а здесь мы имеем как бы перевёрнутую перспективу: центральное место занимает мать как источник поощрения, то есть как та, кто даёт грудь, как та, кто даёт заботу. В этом случае речь идёт о маленьком ребёнке, который, заняв место матери, принимается играть со своим маленьким мячиком и с фонемами, здесь нехватка касается удовлетворения, которое приносит реальный объект. Ребёнок обнаруживает себя субъектом фрустрации наслаждения.
В Fort-Da мы могли бы сказать, что ребёнок в игре воспроизводит, как уходит и приходит мать и что он использует для этого любой объект. В некотором смысле Fort- Da, если мы сосредоточим внимание на матери, символизирует мать. Лакан предлагает записать эту символизацию матери как S(M). Позже эта запись станет DM, желанием матери, которая приходит и уходит как символ, как означающее. В записи S(M), а затем и в записи DM мать в её присутствии и отсутствии символизирована означающим, и в этом смысле она имеет статус символической матери.
Можно сказать, что это снова комментарий Фрейда, что это комментарий к факту, обнаруженному Фрейдом в наблюдении. Именно здесь Лакан применяет теоретическую реконструкцию, которая часто повторялась, но мотивацию которой необходимо уловить. Лакан берёт и перерабатывает Fort-Da для того, чтобы показать, как объект из реального становится символическим. То, с чем мы имели дело до сих пор, - это символическая или символизированная мать, поскольку она владеет реальными объектами, которые она может дать ребёнку. Вы знаете теоретическую реконструкцию Лакана, которая затем появляется: может статься так, что мать не отвечает. Когда Лакан формулирует это, мы полностью выходим за рамки строго фрейдовского опыта. Мать не отвечает! Она не отвечает на зов, она не подчиняется символическому зову ребёнка. И, следовательно, поскольку она поступает, как ей заблагорассудится, она не сводится к означающему S(M), которое, будучи означающим, подчиняется периодическому возврату: Fort-Da, Fort-Da, Fort-Da ...
Пока мать является символом, она подчиняется символическому циклу, который не перестаёт возвращаться, но, если она не отвечает, она выходит из символической игры. В некотором смысле Fort-Da - это символическое усилие по овладению матерью, и можно сказать, что Лакан вводит её отказ возвращаться на то же место. Она способна на каприз, и именно так формулирует Лакан, когда говорит, что она становится всемогущей. Он даже доходит до того, что связывает это с реальным. Это значит, что он больше не определяет реальное просто как то, что занимает то место, которое прописывает ему символическое, но как то, что неподвластно символическому. То, что он называет здесь реальным, - это то, что сопротивляется периодическому возврату символического.
Тогда - и здесь оправдывает себя акцент на слове диалектика - Лакан выводит хиазм, то есть двойную инверсию реального и символического. До сих пор в простом Fort-Da мать была символической хранительницей реальных объектов. Но с того момента, как она перестает отвечать, она становится реальной, оказывающей символическому сопротивление, а вот объект становится символическим. Другими словами, мы наблюдаем хиазм, инверсию между реальным и символическим.
Что это значит, что объект становится здесь символическим? В каком смысле он становится символическим? В каком смысле он отражает этот захват означающего в означаемом - этот захват означающим естественных значений, либидо, желания и так далее...? Так вот, смысл в том, что объект, который приходит от реальной всемогущей матери, не будет так важен сам по себе, как субстанция или в силу своих качеств, но будет иметь ценность материнского дара, независимую от его качеств. Лакан по-настоящему подчёркивает эту концепцию дара. Объект приобретает ценность как знак
Da, если мы сосредоточим внимание на матери, символизирует мать. Лакан предлагает записать эту символизацию матери как S(M). Позже эта запись станет DM, желанием матери, которая приходит и уходит как символ, как означающее. В записи S(M), а затем и в записи DM мать в её присутствии и отсутствии символизирована означающим, и в этом смысле она имеет статус символической матери.
Можно сказать, что это снова комментарий Фрейда, что это комментарий к факту, обнаруженному Фрейдом в наблюдении. Именно здесь Лакан применяет теоретическую реконструкцию, которая часто повторялась, но мотивацию которой необходимо уловить. Лакан берёт и перерабатывает Fort-Da для того, чтобы показать, как объект из реального становится символическим. То, с чем мы имели дело до сих пор, - это символическая или символизированная мать, поскольку она владеет реальными объектами, которые она может дать ребёнку. Вы знаете теоретическую реконструкцию Лакана, которая затем появляется: может статься так, что мать не отвечает. Когда Лакан формулирует это, мы полностью выходим за рамки строго фрейдовского опыта. Мать не отвечает! Она не отвечает на зов, она не подчиняется символическому зову ребёнка. И, следовательно, поскольку она поступает, как ей заблагорассудится, она не сводится к означающему S(M), которое, будучи означающим, подчиняется периодическому возврату: Fort-Da, Fort-Da, Fort-Da ...
Пока мать является символом, она подчиняется символическому циклу, который не перестаёт возвращаться, но, если она не отвечает, она выходит из символической игры. В некотором смысле Fort-Da - это символическое усилие по овладению матерью, и можно сказать, что Лакан вводит её отказ возвращаться на то же место. Она способна на каприз, и именно так формулирует Лакан, когда говорит, что она становится всемогущей. Он даже доходит до того, что связывает это с реальным. Это значит, что он больше не определяет реальное просто как то, что занимает то место, которое прописывает ему символическое, но как то, что неподвластно символическому. То, что он называет здесь реальным, - это то, что сопротивляется периодическому возврату символического.
Тогда - и здесь оправдывает себя акцент на слове диалектика - Лакан выводит хиазм, то есть двойную инверсию реального и символического. До сих пор в простом Fort-Da мать была символической хранительницей реальных объектов. Но с того момента, как она перестает отвечать, она становится реальной, оказывающей символическому сопротивление, а вот объект становится символическим. Другими словами, мы наблюдаем хиазм, инверсию между реальным и символическим.
Что это значит, что объект становится здесь символическим? В каком смысле он становится символическим? В каком смысле он отражает этот захват означающего в означаемом - этот захват означающим естественных значений, либидо, желания и так далее...? Так вот, смысл в том, что объект, который приходит от реальной всемогущей матери, не будет так важен сам по себе, как субстанция или в силу своих качеств, но будет иметь ценность материнского дара, независимую от его качеств. Лакан по-настоящему подчёркивает эту концепцию дара. Объект приобретает ценность как знак материнской любви. Именно здесь впервые появляется функция любви, производящая перемещение объекта из реального в символическое.
На первом этаже теоретической реконструкции (fiction), где фрустрация имеет простой смысл: ребёнку нужна грудь, потому что он голоден. Соответственно, его нужно покормить. У него есть аппетит к реальному удовлетворению, точно определённому и субстанциональному. Но на втором такте, который мы разбираем, то, чего он желает, не является реальной субстанцией, о которой идёт речь. Он желает, чтобы ему дали это, чтобы ему дали объект и чтобы ему подарили объект в знак любви, в знак того, что о нём заботятся. В этой теоретической реконструкции принципиальное значение имеет то, что возникающее на этом этаже удовлетворение по сути своей не является наслаждением от реального объекта, это удовлетворённость от любви. Символическое в его отличности от реального и воображаемого, это любовь. Это любовь, потому что любовь не желает ничего реального. Она желает объект как означающее любви.
Этот запрос Лакан выводит диалектически из теоретической реконструкции, это взыскание любви и знака любви может сохранить свою интенсивность на протяжении всей жизни. Фрейд также специально акцентировал функцию любви и знака любви в женской сексуальности вплоть до утверждения, что самый яркий опыт кастрации для женщины - это отказ в даре любви. Отсюда и взыскательные запросы, которыми обременяются представители мужской части человечества - запросы обеспечить... чем? Несомненно, рядом субстанциональных реальных объектов, но прежде всего обеспечить знаками любви. Обеспечение субстанциональным без обеспечения знаком любви непростительно. Можно даже сказать, что наиболее ценным является то символическое удовлетворение, которое Лакан называет любовью и которое не является наслаждением от какого бы то ни было реального объекта.
Это не предполагает отрицание реального удовлетворения, удовлетворения потребности. Лакан периодически упоминает сытого ребёнка, его очевидное удовлетворение, например, когда он умиротворённо засыпает после кормления. Лакан не заходит так далеко, чтобы отрицать очевидное. Но удовлетворение потребности, пусть даже и реальное, - Лакан делает это замечание мимоходом - всё равно имеет ценность только как замена символическому удовлетворению. Мы предаёмся наслаждению из-за нехватки любви. Иногда это проявляется в восполнении нехватки за счет поглощения, за счет того, что называется булимией, наблюдаемой в качестве реакции на фрустрацию в символическом удовлетворении. Таким образом, в этом семинаре наслаждение реальным объектом выступает в качестве замены любви. Нехватка любви компенсируется реальным удовлетворением, и в некотором смысле то, что мы называем реальным удовлетворением, всегда является лишь полумерой, уловкой.
Таким образом, значимость главы IV - и Лакан продолжает разрабатывать эту концепцию фрустрации на протяжении всего Семинара - заключается в том, что желание в символическом - желание, статус которого он ищет, - это не желание добиться признания своего желания, но что желание в символическом - это любовь.
материнской любви. Именно здесь впервые появляется функция любви, производящая перемещение объекта из реального в символическое.
На первом этаже теоретической реконструкции (fiction), где фрустрация имеет простой смысл: ребёнку нужна грудь, потому что он голоден. Соответственно, его нужно покормить. У него есть аппетит к реальному удовлетворению, точно определённому и субстанциональному. Но на втором такте, который мы разбираем, то, чего он желает, не является реальной субстанцией, о которой идёт речь. Он желает, чтобы ему дали это, чтобы ему дали объект и чтобы ему подарили объект в знак любви, в знак того, что о нём заботятся. В этой теоретической реконструкции принципиальное значение имеет то, что возникающее на этом этаже удовлетворение по сути своей не является наслаждением от реального объекта, это удовлетворённость от любви. Символическое в его отличности от реального и воображаемого, это любовь. Это любовь, потому что любовь не желает ничего реального. Она желает объект как означающее любви.
Этот запрос Лакан выводит диалектически из теоретической реконструкции, это взыскание любви и знака любви может сохранить свою интенсивность на протяжении всей жизни. Фрейд также специально акцентировал функцию любви и знака любви в женской сексуальности вплоть до утверждения, что самый яркий опыт кастрации для женщины - это отказ в даре любви. Отсюда и взыскательные запросы, которыми обременяются представители мужской части человечества - запросы обеспечить... чем? Несомненно, рядом субстанциональных реальных объектов, но прежде всего обеспечить знаками любви. Обеспечение субстанциональным без обеспечения знаком любви непростительно. Можно даже сказать, что наиболее ценным является то символическое удовлетворение, которое Лакан называет любовью и которое не является наслаждением от какого бы то ни было реального объекта.
Это не предполагает отрицание реального удовлетворения, удовлетворения потребности. Лакан периодически упоминает сытого ребёнка, его очевидное удовлетворение, например, когда он умиротворённо засыпает после кормления. Лакан не заходит так далеко, чтобы отрицать очевидное. Но удовлетворение потребности, пусть даже и реальное, - Лакан делает это замечание мимоходом - всё равно имеет ценность только как замена символическому удовлетворению. Мы предаёмся наслаждению из-за нехватки любви. Иногда это проявляется в восполнении нехватки за счет поглощения, за счет того, что называется булимией, наблюдаемой в качестве реакции на фрустрацию в символическом удовлетворении. Таким образом, в этом семинаре наслаждение реальным объектом выступает в качестве замены любви. Нехватка любви компенсируется реальным удовлетворением, и в некотором смысле то, что мы называем реальным удовлетворением, всегда является лишь полумерой, уловкой.
Таким образом, значимость главы IV - и Лакан продолжает разрабатывать эту концепцию фрустрации на протяжении всего Семинара - заключается в том, что желание в символическом - желание, статус которого он ищет, - это не желание добиться признания своего желания, но что желание в символическом - это любовь. Конечно, когда ему доведётся определить это в Вопросе, предваряющем... в Écrits, он сохранит в определении любви это удвоение желания, это возведение желания в степень, которое содержится в формуле желание добиться признания своего желания, и он скажет, что любовь - это желание желания. Но что, на мой взгляд, объясняет место, отведённое любви на этом Семинаре, так это то, что именно благодаря такой новой концепции любви Лакан смог придать желанию символический статус. Любовь в этом отношении подобна желанию не получить ничего реального и даже, скажем так, любовь подобна желанию ничего, желанию ничего. И вот почему в загадочном отрывке, который я процитировал из Инстанции буквы, он пишет, что желание направлено на нехватку, привнесённую означающим. Желание направлено на нехватку, которую вводит означающее под видом любви.
Лакан, таким образом, изменил общую концепцию фрустрации. Объект фрустрации - это не столько реальный объект, сколько сам дар. В этом случае реальность объекта исчезает. В любви мы переходим на другой план, нежели план чистого и простогоестественного желания. Фрустрация - это не фрустрация, связанная с реальным объектом, это фрустрация в любви. В этом суть фрустрации. Таким же образом, исходя из того же, Лакан придёт к необходимости различать два типа требования: прямое требование, то есть требование реального объекта, и требование любви, то есть требование символического объекта. И следовательно можно утверждать, что то, что проявляет себя как требование объекта, всегда имеет отношение к тому, кто его даёт. Об этом нельзя забывать. Субъект не находится один на один с объектом, которого ему не достаёт. Всегда есть другой, который даёт, так что требование всегда направлено за пределы объекта, в потустороннюю объекту область, которой в данной теоретической реконструкции является любовь матери.
Это также имеет последствия для того, что Лакан открыл или сформулировал для нас о связи любви и влечения. Общий тезис, который он развивает в этом Семинаре, заключается в том, что когда влечение проявляется в аналитическом лечении -булимия, анорексия, анальность и т.д., - оно всегда исполняет функцию развития символических отношений. Это всегда относится к булимии, она может иметь место только в связи с символическими отношениями и, скажем для краткости, только в связи с фрустрацией в любви. В логике лечения, в том виде, в каком Лакан представляет её в этом Семинаре, и даже когда он представляет случаи реакционного эксгибиционизма, почерпнутые в литературе, - например, субъект поддаётся сиюминутному порыву продемонстрировать свой орган проходящему международному поезду, он оказывается в ситуации, когда не может не выставить себя напоказ, - выявленная причина заключается в том, что на самом деле у субъекта не получается кое-что сказать, он не располагает нужным означающим, не располагает символом, и именно этот сбой символического, этот сбой в символических отношениях открывает дорогу влечению.
В разных главах Семинара IV мы имеем одну и ту же задействованную структуру, которая объясняет то, что в определённые моменты кажется преобладанием влечений или преобладанием воображаемого, внутренними сбоями в символическом и даже
Конечно, когда ему доведётся определить это в Вопросе, предваряющем... в Écrits, он сохранит в определении любви это удвоение желания, это возведение желания в степень, которое содержится в формуле желание добиться признания своего желания, и он скажет, что любовь - это желание желания. Но что, на мой взгляд, объясняет место, отведённое любви на этом Семинаре, так это то, что именно благодаря такой новой концепции любви Лакан смог придать желанию символический статус. Любовь в этом отношении подобна желанию не получить ничего реального и даже, скажем так, любовь подобна желанию ничего, желанию ничего. И вот почему в загадочном отрывке, который я процитировал из Инстанции буквы, он пишет, что желание направлено на нехватку, привнесённую означающим. Желание направлено на нехватку, которую вводит означающее под видом любви.
Лакан, таким образом, изменил общую концепцию фрустрации. Объект фрустрации - это не столько реальный объект, сколько сам дар. В этом случае реальность объекта исчезает. В любви мы переходим на другой план, нежели план чистого и простогоестественного желания. Фрустрация - это не фрустрация, связанная с реальным объектом, это фрустрация в любви. В этом суть фрустрации. Таким же образом, исходя из того же, Лакан придёт к необходимости различать два типа требования: прямое требование, то есть требование реального объекта, и требование любви, то есть требование символического объекта. И следовательно можно утверждать, что то, что проявляет себя как требование объекта, всегда имеет отношение к тому, кто его даёт. Об этом нельзя забывать. Субъект не находится один на один с объектом, которого ему не достаёт. Всегда есть другой, который даёт, так что требование всегда направлено за пределы объекта, в потустороннюю объекту область, которой в данной теоретической реконструкции является любовь матери.
Это также имеет последствия для того, что Лакан открыл или сформулировал для нас о связи любви и влечения. Общий тезис, который он развивает в этом Семинаре, заключается в том, что когда влечение проявляется в аналитическом лечении -булимия, анорексия, анальность и т.д., - оно всегда исполняет функцию развития символических отношений. Это всегда относится к булимии, она может иметь место только в связи с символическими отношениями и, скажем для краткости, только в связи с фрустрацией в любви. В логике лечения, в том виде, в каком Лакан представляет её в этом Семинаре, и даже когда он представляет случаи реакционного эксгибиционизма, почерпнутые в литературе, - например, субъект поддаётся сиюминутному порыву продемонстрировать свой орган проходящему международному поезду, он оказывается в ситуации, когда не может не выставить себя напоказ, - выявленная причина заключается в том, что на самом деле у субъекта не получается кое-что сказать, он не располагает нужным означающим, не располагает символом, и именно этот сбой символического, этот сбой в символических отношениях открывает дорогу влечению.
В разных главах Семинара IV мы имеем одну и ту же задействованную структуру, которая объясняет то, что в определённые моменты кажется преобладанием влечений или преобладанием воображаемого, внутренними сбоями в символическом и даже крахом символического. Весь анализ перверсии, предпринятый Лаканом, опирается на эту структуру.
Например, весь его анализ фантазма ребёнка бьют основан на представлении о том, что в конечном итоге существует феномен символической редукции, который позволяет появиться десубъективированному остатку, которым является так называемый мазохистский фантазм. По сути, эта структура является общей для фетиша и покрывающего воспоминания (souvenir-écran). В ходе развития цельной символической истории случается остановка, символическое терпит крах, и остаётся образ, кусочек чего-то. Поэтому Лакан говорит, что воображаемое преобладает в перверсии. Но воображаемое может преобладать только в том случае, если происходит крах уже выстроенной целой символической организации. Образ, несомненно, является литейной формой перверсии, но образ, который является остатком краха символического, и именно поэтому такой образ, по-видимому, имеет статус реального как того, что противостоит символическому.
Лакан делает подробный анализ случая юной гомосексуальной пациентки, перекручивая свою схему L, основанную на пересечении воображаемого и символического. Он перекручивает её, потому что очевидно, что он больше не может поместить в эту схему все отношения, которые он хотел бы рассмотреть. Он раскурочивает её на наших глазах. Очень забавно смотреть на то, как он использует её первоначальную форму, а затем воображаемое и символическое начинают блуждать по совершенно неположенным им местам. Можно подробно проследить механику происходящего, но Лакан хочет показать с помощью этой схематизации также и то, как конечное положение юной гомосексуальной пациентки, из которого она посвящает себя служению даме на глазах у отца, основана на проекции символического в воображаемые отношения. Все эти различные инверсии, все эти хиазмы, которые демонстрирует для нас Лакан, в конечном итоге приводят субъекта к поведению похожему на перверсию, приводят к целой символической организации, которая оказывается спроецированной на воображаемый уровень, символической организации, в некотором роде редуцированной, раздавленной и сдвинутой.
Конечно, в том году нужно было рассмотреть случай юной гомосексуальной пациентки именно потому, что в нём подчёркнута функция любви. Женская гомосексуальность ставит во главу угла функцию любви. И поскольку эта любовь связана с ничто, можно сказать, что Лакан, как ни странно, привносит в неё фетиш. Это парадокс. В некотором смысле фетиш - это то, что позволяет избежать интерсубъективной сложности романтических отношений. Мы никогда не видели, чтобы обувь жаловалась на отсутствие знаков любви. Таким образом, можно сказать, что нет ничего более далёкого от проблематики любви, чем фетишизм. Что ж, парадокс этого Семинара в том, что он, наоборот, показывает связь.
В конце концов, на заднем плане любого фетишизма присутствует любовь, иногда любовь к матери, и любовь в этом Семинаре - это функция, которая вводит нечто по ту сторону реального объекта. Вот почему, когда любовь вводит потустороннее в реальный объект, то есть вводит ничто, существует связь между фаллосом и любовью
крахом символического. Весь анализ перверсии, предпринятый Лаканом, опирается на эту структуру.
Например, весь его анализ фантазма ребёнка бьют основан на представлении о том, что в конечном итоге существует феномен символической редукции, который позволяет появиться десубъективированному остатку, которым является так называемый мазохистский фантазм. По сути, эта структура является общей для фетиша и покрывающего воспоминания (souvenir-écran). В ходе развития цельной символической истории случается остановка, символическое терпит крах, и остаётся образ, кусочек чего-то. Поэтому Лакан говорит, что воображаемое преобладает в перверсии. Но воображаемое может преобладать только в том случае, если происходит крах уже выстроенной целой символической организации. Образ, несомненно, является литейной формой перверсии, но образ, который является остатком краха символического, и именно поэтому такой образ, по-видимому, имеет статус реального как того, что противостоит символическому.
Лакан делает подробный анализ случая юной гомосексуальной пациентки, перекручивая свою схему L, основанную на пересечении воображаемого и символического. Он перекручивает её, потому что очевидно, что он больше не может поместить в эту схему все отношения, которые он хотел бы рассмотреть. Он раскурочивает её на наших глазах. Очень забавно смотреть на то, как он использует её первоначальную форму, а затем воображаемое и символическое начинают блуждать по совершенно неположенным им местам. Можно подробно проследить механику происходящего, но Лакан хочет показать с помощью этой схематизации также и то, как конечное положение юной гомосексуальной пациентки, из которого она посвящает себя служению даме на глазах у отца, основана на проекции символического в воображаемые отношения. Все эти различные инверсии, все эти хиазмы, которые демонстрирует для нас Лакан, в конечном итоге приводят субъекта к поведению похожему на перверсию, приводят к целой символической организации, которая оказывается спроецированной на воображаемый уровень, символической организации, в некотором роде редуцированной, раздавленной и сдвинутой.
Конечно, в том году нужно было рассмотреть случай юной гомосексуальной пациентки именно потому, что в нём подчёркнута функция любви. Женская гомосексуальность ставит во главу угла функцию любви. И поскольку эта любовь связана с ничто, можно сказать, что Лакан, как ни странно, привносит в неё фетиш. Это парадокс. В некотором смысле фетиш - это то, что позволяет избежать интерсубъективной сложности романтических отношений. Мы никогда не видели, чтобы обувь жаловалась на отсутствие знаков любви. Таким образом, можно сказать, что нет ничего более далёкого от проблематики любви, чем фетишизм. Что ж, парадокс этого Семинара в том, что он, наоборот, показывает связь.
В конце концов, на заднем плане любого фетишизма присутствует любовь, иногда любовь к матери, и любовь в этом Семинаре - это функция, которая вводит нечто по ту сторону реального объекта. Вот почему, когда любовь вводит потустороннее в реальный объект, то есть вводит ничто, существует связь между фаллосом и любовью в том измерении, где фаллос является минус фи - тем, чего недостаёт. Поэтому в главе VII Лакан указывает на сущностную связь, возникающую в результате любви между объектом и ничто.
Связь объекта и ничто обнаруживается благодаря простому механизму, называемому завесой (voile). Глава VII называется Функция завесы, и, в сущности, что такое завеса? Это приспособление для создания того, чего нет. Если вы пойдёте и рассмотрите что-нибудь, вы сможете сказать, есть это что-нибудь или его нет. Но если вы занавесите объект, возможно, за этим занавесом что-нибудь и есть. А может, и нет. Таким образом, занавес в том виде, в каком его представляет Лакан, принципиально важен для осмысления клиники мазохизма, - это то, что превращает ничто, на которое нацелена любовь, в нечто.
Это то, что Лакан предложит в качестве клинического определения фетиша. Так у нас появляются основы того, что позже станет концептом объекта а. Лакан назовёт объектом а объект плюс ничто - объект плюс ничто, представляющее собой минус фи. Вот почему нет ничего удивительного в том, что годы спустя, в Семинаре XX, Лакан возвращается к тому, что уже есть в главе VII, а именно к тому, что объект а по преимуществу является видимостью (semblant).
Так, хорошо, я продолжу на следующей неделе.
16 марта 1994
в том измерении, где фаллос является минус фи - тем, чего недостаёт. Поэтому в главе VII Лакан указывает на сущностную связь, возникающую в результате любви между объектом и ничто.
Связь объекта и ничто обнаруживается благодаря простому механизму, называемому завесой (voile). Глава VII называется Функция завесы, и, в сущности, что такое завеса? Это приспособление для создания того, чего нет. Если вы пойдёте и рассмотрите что-нибудь, вы сможете сказать, есть это что-нибудь или его нет. Но если вы занавесите объект, возможно, за этим занавесом что-нибудь и есть. А может, и нет. Таким образом, занавес в том виде, в каком его представляет Лакан, принципиально важен для осмысления клиники мазохизма, - это то, что превращает ничто, на которое нацелена любовь, в нечто.
Это то, что Лакан предложит в качестве клинического определения фетиша. Так у нас появляются основы того, что позже станет концептом объекта а. Лакан назовёт объектом а объект плюс ничто - объект плюс ничто, представляющее собой минус фи. Вот почему нет ничего удивительного в том, что годы спустя, в Семинаре XX, Лакан возвращается к тому, что уже есть в главе VII, а именно к тому, что объект а по преимуществу является видимостью (semblant).
Так, хорошо, я продолжу на следующей неделе.
16 марта 1994
 Нищий - какая интересная фигура! Сегодня, конечно, мы не можем их восхвалять. Эти нищие - безработные. Очень трудно восстановить особенную ценность, которую нищий имел в истории, до того, как труд стал важной ценностью, до того, как он, если можно так выразиться, вошёл в Сверх-Я. Тогда возникла целая культура попрошайничества, миф о нищем. Но каким образом можно было стать нищим в Средние века? У вас есть всё, вы бросаете всё это ради любви. Ради любви к Богу, ради любви к Христу, ради любви к женщине. А потом вы отправляетесь выгуливать свою нехватку по миру. И таким образом вы даёте другим повод для добрых дел - из-за любви к Богу. Какое замечательное решение - причём скорее для мужчин, чем для женщин - стать странствующей нехваткой, паломнической нехваткой. Конечно, вас могут критиковать, как бесполезного нахлебника, лишний рот. Сегодня к лишним ртам относятся очень плохо - бесполезные рты! А вообще, наоборот, бесполезные рты -очень даже полезные рты! Они посвящают себя тому, что представляют дыру, дыру, которая имеет на вас виды - на вас, имеющих, на вас, рты которых набиты. Это приглашение вам разукомплектоваться, подопустошиться.
По причине кажимости, которая вызывает сожаление, нищие были записаны в бездельников. Хотя слово бездельник (fainéant) датируется 1321 годом. Бездельник -это тот, кто творит ничто (qui fait néant). Здорово быть бездельником! В какой-то момент истории Запада мы начали думать лишь о том, чтобы заставить их, бездельников, работать, чтобы использовать их в качестве рабочей производственной силы. И именно это позволило превратить их в безработных! - превратить их в безработных, из-за которых другие работают ещё больше, а получают ещё меньше. Это обыкновение безработного. Мы должны отдать бездельнику должное! Действительно, творить ничто тревожно. Иногда мы замечаем: чтобы освободиться от тревоги, нужно чем-то заняться и не важно чем. Давайте, давайте, шевелимся!
И всё-таки одна современная форма бездельника сохранилась. Это психоаналитик. Следует признать, что слушать, ничего не делая, - это-таки основа позиции, результат обучения. И порой то, что может тревожить аналитика, - это вопрос: может быть, всё-таки, учитывая то, что ему говорят, ему всё-таки стоило бы что-то делать? А не стоило бы ему случайно что-нибудь сказать? Может быть, задать вопрос? Или сказать «нет»? Или, может быть, выдать пощечину? Или изменить позу? Нужно прямо сказать, что тот, кого называют аналитиком, представляет собой субъекта, который не тревожится, субъекта, которого не тревожит его делание ничто. Откуда идея, что он может вынести всё, что ни услышит. Понятно, почему Лакан приходит к тому, что сравнивает его позицию с положением святого (saint), совершенно отличному от положения груди (sein). Позиция груди - это, прежде всего, её наличие. Это так называемая в анализе обладающая мать, тогда как святой - это скорее нищий. В эпоху, когда было много святых, приличное их количество нищенствовало. Существует близость между святостью и нищенством. Здесь же аналитик, не лишённый сходства с нищим.
Пожалуй, я могу поделиться, что поразило меня больше всего, когда я перешёл из статуса преподавателя в статус аналитика. Одно из поразивших меня отличий,
Нищий - какая интересная фигура! Сегодня, конечно, мы не можем их восхвалять. Эти нищие - безработные. Очень трудно восстановить особенную ценность, которую нищий имел в истории, до того, как труд стал важной ценностью, до того, как он, если можно так выразиться, вошёл в Сверх-Я. Тогда возникла целая культура попрошайничества, миф о нищем. Но каким образом можно было стать нищим в Средние века? У вас есть всё, вы бросаете всё это ради любви. Ради любви к Богу, ради любви к Христу, ради любви к женщине. А потом вы отправляетесь выгуливать свою нехватку по миру. И таким образом вы даёте другим повод для добрых дел - из-за любви к Богу. Какое замечательное решение - причём скорее для мужчин, чем для женщин - стать странствующей нехваткой, паломнической нехваткой. Конечно, вас могут критиковать, как бесполезного нахлебника, лишний рот. Сегодня к лишним ртам относятся очень плохо - бесполезные рты! А вообще, наоборот, бесполезные рты -очень даже полезные рты! Они посвящают себя тому, что представляют дыру, дыру, которая имеет на вас виды - на вас, имеющих, на вас, рты которых набиты. Это приглашение вам разукомплектоваться, подопустошиться.
По причине кажимости, которая вызывает сожаление, нищие были записаны в бездельников. Хотя слово бездельник (fainéant) датируется 1321 годом. Бездельник -это тот, кто творит ничто (qui fait néant). Здорово быть бездельником! В какой-то момент истории Запада мы начали думать лишь о том, чтобы заставить их, бездельников, работать, чтобы использовать их в качестве рабочей производственной силы. И именно это позволило превратить их в безработных! - превратить их в безработных, из-за которых другие работают ещё больше, а получают ещё меньше. Это обыкновение безработного. Мы должны отдать бездельнику должное! Действительно, творить ничто тревожно. Иногда мы замечаем: чтобы освободиться от тревоги, нужно чем-то заняться и не важно чем. Давайте, давайте, шевелимся!
И всё-таки одна современная форма бездельника сохранилась. Это психоаналитик. Следует признать, что слушать, ничего не делая, - это-таки основа позиции, результат обучения. И порой то, что может тревожить аналитика, - это вопрос: может быть, всё-таки, учитывая то, что ему говорят, ему всё-таки стоило бы что-то делать? А не стоило бы ему случайно что-нибудь сказать? Может быть, задать вопрос? Или сказать «нет»? Или, может быть, выдать пощечину? Или изменить позу? Нужно прямо сказать, что тот, кого называют аналитиком, представляет собой субъекта, который не тревожится, субъекта, которого не тревожит его делание ничто. Откуда идея, что он может вынести всё, что ни услышит. Понятно, почему Лакан приходит к тому, что сравнивает его позицию с положением святого (saint), совершенно отличному от положения груди (sein). Позиция груди - это, прежде всего, её наличие. Это так называемая в анализе обладающая мать, тогда как святой - это скорее нищий. В эпоху, когда было много святых, приличное их количество нищенствовало. Существует близость между святостью и нищенством. Здесь же аналитик, не лишённый сходства с нищим.
Пожалуй, я могу поделиться, что поразило меня больше всего, когда я перешёл из статуса преподавателя в статус аналитика. Одно из поразивших меня отличий, касалось того, чтобы протянуть руку, - протянуть руку, чтобы в неё положили деньги. Потом это уже не замечается, но я храню воспоминание о том, как возникла эта маленькая выемка, в которую в итоге жертвуют подаяние как нищему, бездельнику. Есть практикующие, которые в течение длительного времени испытывают чувство вины за то, что им платят за делание ничто. Это не мой случай.
Я иду окольными путями, чтобы превознести то, в чём преуспели женщины на Западе, когда заставляли мужчин уважать ничто. Они не были настолько же успешными в Японии, но, возможно, им это и не было нужно, поскольку там все и так уважают ничто. На Западе им удалось заставить мужчин уважать ничто в ходе долгой разработки любви. Подумайте о куртуазной любви, на которую ссылается Лакан. Это изобретение мы находим сегодня в нашей собственной клинике. Там, где не затрагивается этот момент куртуазной любви, возникают большие трудности с психоанализом. В культурах, которые не прошли через такую разработку любви, мы видим, что психоанализу приходится нелегко.
Разработка любви - это то, что прокладывает дорогу, если опять-таки прибегнуть к выражению Лакана по другому поводу, - в глубины вкуса. Это великое образовательное начинание, каковой была изысканность, является производной куртуазной любви. Это расцвело в XVIII-ом веке и особенно во Франции, где мы увидели всё соцветие этого неимоверного обучения мужчин женщинами. Кстати, именно в XVIII-ом веке сам вкус стал теоретической проблемой. Появился вопрос, как могло случиться, что нравы стали более утончёнными и вместо того, чтобы идти на всё ради удовлетворения потребности, мы начали манерничать и расшаркиваться, как могли бы это назвать некоторые грубияны. Это большая теоретическая проблема, которой Юм очень интересовался. Я полагаю, не случайно философ, который первым выдвинул парадокс индукции, показывающий, что между индуктивным выводом и означающей цепочкой всегда есть разрыв, был также тем, кто таким запоминающимся образом поставил проблему вкуса. Именно потому, что как раз в этой дыре, в этой дыре индукции, закладываются хорошие манеры. Нет хороших манер, кроме тех, что обрамляют дыру, что обрамляют нехватку, обрамляют то, чего нет.
Хорошие манеры - это видимость (semblant), необходимая вокруг нехватки, при условии, что мы уважаем и нехватку, и видимости. Уважать видимость - это всегда уважать кастрацию. В этом деле хороших манер фаллос всегда в ходу, в том числе и в той форме, которую он принимает в жаргонном выражении «иметь хорошие манеры». Мужчина может обходится с женщиной по-хорошему, а женщина по-хорошему с мужчиной. Здесь, исходя из видимости, появляется способ обозначения вещи во плоти. Итак: хвала кастрации! Всё дело в манерах!
Человека хорошего круга, того человека хорошего круга, который производился в широком масштабе, начиная с эпохи Возрождения, - и это опять-таки один из этапов долгой разработки любви, недостойными наследниками которой мы являемся, -человека хорошего круга всегда отягощает быть грубияном. Человек хорошего круга, придворный - это форма вежливого рыцаря. На самом деле это идёт рука об руку с конституцией и ростом кодексов, начиная с кодекса любви. И затем это тесно связано
касалось того, чтобы протянуть руку, - протянуть руку, чтобы в неё положили деньги. Потом это уже не замечается, но я храню воспоминание о том, как возникла эта маленькая выемка, в которую в итоге жертвуют подаяние как нищему, бездельнику. Есть практикующие, которые в течение длительного времени испытывают чувство вины за то, что им платят за делание ничто. Это не мой случай.
Я иду окольными путями, чтобы превознести то, в чём преуспели женщины на Западе, когда заставляли мужчин уважать ничто. Они не были настолько же успешными в Японии, но, возможно, им это и не было нужно, поскольку там все и так уважают ничто. На Западе им удалось заставить мужчин уважать ничто в ходе долгой разработки любви. Подумайте о куртуазной любви, на которую ссылается Лакан. Это изобретение мы находим сегодня в нашей собственной клинике. Там, где не затрагивается этот момент куртуазной любви, возникают большие трудности с психоанализом. В культурах, которые не прошли через такую разработку любви, мы видим, что психоанализу приходится нелегко.
Разработка любви - это то, что прокладывает дорогу, если опять-таки прибегнуть к выражению Лакана по другому поводу, - в глубины вкуса. Это великое образовательное начинание, каковой была изысканность, является производной куртуазной любви. Это расцвело в XVIII-ом веке и особенно во Франции, где мы увидели всё соцветие этого неимоверного обучения мужчин женщинами. Кстати, именно в XVIII-ом веке сам вкус стал теоретической проблемой. Появился вопрос, как могло случиться, что нравы стали более утончёнными и вместо того, чтобы идти на всё ради удовлетворения потребности, мы начали манерничать и расшаркиваться, как могли бы это назвать некоторые грубияны. Это большая теоретическая проблема, которой Юм очень интересовался. Я полагаю, не случайно философ, который первым выдвинул парадокс индукции, показывающий, что между индуктивным выводом и означающей цепочкой всегда есть разрыв, был также тем, кто таким запоминающимся образом поставил проблему вкуса. Именно потому, что как раз в этой дыре, в этой дыре индукции, закладываются хорошие манеры. Нет хороших манер, кроме тех, что обрамляют дыру, что обрамляют нехватку, обрамляют то, чего нет.
Хорошие манеры - это видимость (semblant), необходимая вокруг нехватки, при условии, что мы уважаем и нехватку, и видимости. Уважать видимость - это всегда уважать кастрацию. В этом деле хороших манер фаллос всегда в ходу, в том числе и в той форме, которую он принимает в жаргонном выражении «иметь хорошие манеры». Мужчина может обходится с женщиной по-хорошему, а женщина по-хорошему с мужчиной. Здесь, исходя из видимости, появляется способ обозначения вещи во плоти. Итак: хвала кастрации! Всё дело в манерах!
Человека хорошего круга, того человека хорошего круга, который производился в широком масштабе, начиная с эпохи Возрождения, - и это опять-таки один из этапов долгой разработки любви, недостойными наследниками которой мы являемся, -человека хорошего круга всегда отягощает быть грубияном. Человек хорошего круга, придворный - это форма вежливого рыцаря. На самом деле это идёт рука об руку с конституцией и ростом кодексов, начиная с кодекса любви. И затем это тесно связано с развитием государства, которое требует, чтобы мужланы оставляли у дверей - как в вестернах, когда ковбои расстаются с пистолетами перед тем, как войти в салун, -копьё, меч, доспехи, чтобы преклониться и стать, если не рабами, то по крайней мере поставить себя на службу, на службу любви. Сегодня, как ни странно, в некоторых культурах по ту сторону Атлантики, похоже, наблюдается определённое женское отречение. Возможно, что феминизм в его резких формах, в которых он проявляется иногда в Соединённых Штатах Америки и которые, возможно, придут к нам оттуда, доблестный, воинственный феминизм - вот где вооружаются всеми этими копьями, мечами и доспехами - возможно, основан на разочаровании в мужчине, на разочаровании, что он остаётся болваном, что он совершенно не поддается обучению и что, возможно, для того, чтобы он хоть как-то держался, необходимо постоянно угрожать ему гневом закона. Таким образом, в первых рядах этого нового феминизма, возрождающегося из того, что казалось пеплом, мы видим на переднем плане женщин-юристов.
Здесь у нас во Франции, в Европе, в Латинской Америке всё по-другому; и вот почему, если мне говорят, что я бесцеремонно упомянул знак любви, это что-то для меня значит. Действительно, для женщины знак любви очень важен. Она ищет знак любви в другом, она его выслеживает. Возможно, стоит зайти так далеко, что сказать, что иногда она его выдумывает. Потому знак любви настолько хрупок, настолько мимолётен, что о нём следует говорить со всей необходимой учтивостью. Знак любви - это и гораздо меньше, и гораздо больше, чем доказательство любви. Доказательство любви всегда происходит через принесение в жертву того, что у нас есть. Доказательство любви - это жертва того, что у нас есть, ради ничто. В то время как знак любви - это почти ничто, почти ничто, которое исчезает, увядает, стирается, если мы не проявим к нему внимания, если мы не примем его со всей заботой.
В конце концов, ошеломлённый, я дошел до того, что подумал, не хам (goujat) ли я, и посмотрел значение слова хам в словаре, чтобы успокоить себя. Хам, как ни странно, обозначен как устаревший термин. Возможно, это действительно так. Возможно, мои литературные изыскания вот так, спонтанно, навели меня на него. Возможно, он устарел, потому что хорошие манеры деградируют. На самом деле, это я сам задался вопросом, мне не сказали: «Месье, вы ужасный хам!» Но забавно, что это слово относится именно к XVIII веку, то есть к тому времени, когда воспитание мужчин женщинами было в самом разгаре, было главной темой цивилизации. Действительно, именно в 1720 году хам получил значение невоспитанного, неучтивого, несдержанного, оскорбляющего своими высказываниями человека. Слово происходит от слуги, слуги-оруженосца. Это ведь прекрасно! Это даже не тот вооружённый рыцарь, который собирается стать придворным. Это чуть ниже рыцаря. Он тот, кто служит мужлану или бывшему мужлану, ставшему придворным.
Самое смешное - это предлагаемая нам этимология. Их предлагается несколько, и, как часто бывает с этимологиями, они выглядят довольно фантастично. Возможно, по достижении определённого возраста мы перестаем читать детские сказки, но с пользой их заменяем - я бы советовал вам делать это - чтением этимологий. Вот
с развитием государства, которое требует, чтобы мужланы оставляли у дверей - как в вестернах, когда ковбои расстаются с пистолетами перед тем, как войти в салун, -копьё, меч, доспехи, чтобы преклониться и стать, если не рабами, то по крайней мере поставить себя на службу, на службу любви. Сегодня, как ни странно, в некоторых культурах по ту сторону Атлантики, похоже, наблюдается определённое женское отречение. Возможно, что феминизм в его резких формах, в которых он проявляется иногда в Соединённых Штатах Америки и которые, возможно, придут к нам оттуда, доблестный, воинственный феминизм - вот где вооружаются всеми этими копьями, мечами и доспехами - возможно, основан на разочаровании в мужчине, на разочаровании, что он остаётся болваном, что он совершенно не поддается обучению и что, возможно, для того, чтобы он хоть как-то держался, необходимо постоянно угрожать ему гневом закона. Таким образом, в первых рядах этого нового феминизма, возрождающегося из того, что казалось пеплом, мы видим на переднем плане женщин-юристов.
Здесь у нас во Франции, в Европе, в Латинской Америке всё по-другому; и вот почему, если мне говорят, что я бесцеремонно упомянул знак любви, это что-то для меня значит. Действительно, для женщины знак любви очень важен. Она ищет знак любви в другом, она его выслеживает. Возможно, стоит зайти так далеко, что сказать, что иногда она его выдумывает. Потому знак любви настолько хрупок, настолько мимолётен, что о нём следует говорить со всей необходимой учтивостью. Знак любви - это и гораздо меньше, и гораздо больше, чем доказательство любви. Доказательство любви всегда происходит через принесение в жертву того, что у нас есть. Доказательство любви - это жертва того, что у нас есть, ради ничто. В то время как знак любви - это почти ничто, почти ничто, которое исчезает, увядает, стирается, если мы не проявим к нему внимания, если мы не примем его со всей заботой.
В конце концов, ошеломлённый, я дошел до того, что подумал, не хам (goujat) ли я, и посмотрел значение слова хам в словаре, чтобы успокоить себя. Хам, как ни странно, обозначен как устаревший термин. Возможно, это действительно так. Возможно, мои литературные изыскания вот так, спонтанно, навели меня на него. Возможно, он устарел, потому что хорошие манеры деградируют. На самом деле, это я сам задался вопросом, мне не сказали: «Месье, вы ужасный хам!» Но забавно, что это слово относится именно к XVIII веку, то есть к тому времени, когда воспитание мужчин женщинами было в самом разгаре, было главной темой цивилизации. Действительно, именно в 1720 году хам получил значение невоспитанного, неучтивого, несдержанного, оскорбляющего своими высказываниями человека. Слово происходит от слуги, слуги-оруженосца. Это ведь прекрасно! Это даже не тот вооружённый рыцарь, который собирается стать придворным. Это чуть ниже рыцаря. Он тот, кто служит мужлану или бывшему мужлану, ставшему придворным.
Самое смешное - это предлагаемая нам этимология. Их предлагается несколько, и, как часто бывает с этимологиями, они выглядят довольно фантастично. Возможно, по достижении определённого возраста мы перестаем читать детские сказки, но с пользой их заменяем - я бы советовал вам делать это - чтением этимологий. Вот почему мне так нравятся этимологии Хайдеггера, которые представляют собой сказки. В случае с хамом-оруженосцем это действительно бесценно. Есть две версии. Согласно одной из них, слово приходит из Лангедока, где в еврейских семьях в Лангедоке христианских слуг называют гои. То есть за хамом угадывается гой. Это очень красиво, потому что можно представить - и это действительно традиция, которая сохранялась в гетто и, возможно, создаёт некоторые затруднения в Израиле, - что было необходимо, учитывая количество запретов, которым подчиняются бедные набожные евреи в определённый день недели или в определённое время года, иметь под рукой нескольких гоев, чтобы попросить их сделать то, что запрещено законом, - отсюда необходимость в слуге-христианине, которого, я полагаю, можно было попросить позаботиться о нуждах семьи, которая в шаббат обречена на священное безделье. Было бы здорово, если бы хам происходил оттуда! В сущности, это подтверждало бы, что хам вне закона. Хам - это тот, кто не соблюдает предписания закона. Это могло бы перейти в значение человека необразованного, особенно в отношении женщин, потому что он был бы тем, кто не соблюдает важнейшую заповедь почитания ничто во всех отношениях, которые ему причитаются.
Есть и другая версия этимологии. От латинского gaudium, что означает радость или наслаждение. Вообще, это нам тоже подходит. И даже, по словам одного эрудита, ребёнка можно было бы назвать goujat (хамом), поскольку он приносит радость семье. Таким образом, хам (goujat), как с одной, так и с другой стороны, причастен к наслаждению. Возможно, причастен к тому, что может быть слишком прямым, недостаточно обходительным в отношении наслаждения - к чему-то, что было бы слишком без обиняков. Посмотрите, как здесь всё удачно складывается: маленький Ганс - любимчик своей семьи! Это, безусловно, так; одна из его проблем заключается в том, что он явно доставляет много радости своей семейке. В то же время он не такой уж и хам, у него есть воспитание, как отмечает Лакан. В определённых условиях он очень деликатен с девочками, но, надо признать, немного хамоват со служанками. В истории маленького Ганса действительно есть служанки, и можно даже вообразить, что это служанки-христианки еврейской семьи в Вене.
Не знаю, достаточно ли я сделал, чтобы загладить свою вину с помощью этого экскурса, который я с удовольствием для вас устроил? Вообще, это полностью относится к теме Семинара IV, где мы наблюдаем, как объект в психоанализе становится символическим. Без сомнения, этот объект вполне реален. Без сомнения, этот объект воображаемый. Но тем не менее он становится символическим. Как реальный или воображаемый объект он переделывается, обрабатывается означающим и каким-то образом улетучивается из плана своей реальности.
В этом Семинаре мы видим означающие объекты и две разные модальности. С одной стороны, мы видим означающее на месте другого означающего - к этому приводит предпринимаемый Лаканом анализ фобического объекта, последним словом которого в этой книге становится то, что этот объект имеет значение означающего на месте Имени-Отца. С другой стороны, мы видим означающее как означающее другой вещи, и это то, что показывает анализ объекта-фетиша, - анализ,
почему мне так нравятся этимологии Хайдеггера, которые представляют собой сказки. В случае с хамом-оруженосцем это действительно бесценно. Есть две версии. Согласно одной из них, слово приходит из Лангедока, где в еврейских семьях в Лангедоке христианских слуг называют гои. То есть за хамом угадывается гой. Это очень красиво, потому что можно представить - и это действительно традиция, которая сохранялась в гетто и, возможно, создаёт некоторые затруднения в Израиле, - что было необходимо, учитывая количество запретов, которым подчиняются бедные набожные евреи в определённый день недели или в определённое время года, иметь под рукой нескольких гоев, чтобы попросить их сделать то, что запрещено законом, - отсюда необходимость в слуге-христианине, которого, я полагаю, можно было попросить позаботиться о нуждах семьи, которая в шаббат обречена на священное безделье. Было бы здорово, если бы хам происходил оттуда! В сущности, это подтверждало бы, что хам вне закона. Хам - это тот, кто не соблюдает предписания закона. Это могло бы перейти в значение человека необразованного, особенно в отношении женщин, потому что он был бы тем, кто не соблюдает важнейшую заповедь почитания ничто во всех отношениях, которые ему причитаются.
Есть и другая версия этимологии. От латинского gaudium, что означает радость или наслаждение. Вообще, это нам тоже подходит. И даже, по словам одного эрудита, ребёнка можно было бы назвать goujat (хамом), поскольку он приносит радость семье. Таким образом, хам (goujat), как с одной, так и с другой стороны, причастен к наслаждению. Возможно, причастен к тому, что может быть слишком прямым, недостаточно обходительным в отношении наслаждения - к чему-то, что было бы слишком без обиняков. Посмотрите, как здесь всё удачно складывается: маленький Ганс - любимчик своей семьи! Это, безусловно, так; одна из его проблем заключается в том, что он явно доставляет много радости своей семейке. В то же время он не такой уж и хам, у него есть воспитание, как отмечает Лакан. В определённых условиях он очень деликатен с девочками, но, надо признать, немного хамоват со служанками. В истории маленького Ганса действительно есть служанки, и можно даже вообразить, что это служанки-христианки еврейской семьи в Вене.
Не знаю, достаточно ли я сделал, чтобы загладить свою вину с помощью этого экскурса, который я с удовольствием для вас устроил? Вообще, это полностью относится к теме Семинара IV, где мы наблюдаем, как объект в психоанализе становится символическим. Без сомнения, этот объект вполне реален. Без сомнения, этот объект воображаемый. Но тем не менее он становится символическим. Как реальный или воображаемый объект он переделывается, обрабатывается означающим и каким-то образом улетучивается из плана своей реальности.
В этом Семинаре мы видим означающие объекты и две разные модальности. С одной стороны, мы видим означающее на месте другого означающего - к этому приводит предпринимаемый Лаканом анализ фобического объекта, последним словом которого в этой книге становится то, что этот объект имеет значение означающего на месте Имени-Отца. С другой стороны, мы видим означающее как означающее другой вещи, и это то, что показывает анализ объекта-фетиша, - анализ, который повторяет саму вводную, сделанную Фрейдом по поводу фетишизма, - а именно то, что это объект, означающий фаллос.
Таким образом, под одним или под другим углом, будь то означающее на месте другого означающего или же это означающее другой вещи, представляющей собой фаллос, объект показан здесь именно как означающее. Когда это фетиш, это означает фаллос ввиду отсутствующего у матери пениса, если мы хотим расположить этот факт в регистре лишения - реальной нехватки символического объекта - или отсутствующего у матери фаллоса, к которому она устремлена и по которому она ностальгирует, если мы хотим говорить об этом в регистре фрустрации. Лакан постоянно переключается между двумя этими регистрами, переходя с одного на другой. Таким образом, фобический объект и его анализ упорядочиваются в структуре метафоры - одного означающего на месте другого - и приводят к разработке отцовской метафоры, в то время как фетиш - в менее очевидной и явной форме в этом Семинаре - упорядочивается в структуре метонимии, то есть в структуре, которая основана не на замещении, а на присоединении одного означающего к другому. Это символическое становление объекта происходит через его артикуляцию в нехватке. Лакан выдвигает на первый план свою теорию нехватки объекта - я назвал так первую часть этого Семинара, - потому что это обязательный участок пути символического становления объекта. Именно отсюда происходит гравитация трёх основных терминов этого семинара: фаллос, женщина и мать. Если есть фаллос, то в силу того, что эта символическая нехватка по преимуществу является нехваткой фаллической.
Чтобы просто зафиксировать эти мысли, можно записать, что объект в этом Семинаре постоянно представлен в различных формах в его артикуляции с нехваткой. У нас есть объект - я рисую черный круг - и этот Семинар постоянно демонстрирует, что он мыслим только в связи с нехваткой - и вот я рисую маленький белый круг, чтобы обозначить её. Этот Семинар всячески демонстрирует эту элементарную артикуляцию:
О •
Женщина появляется в этом Семинаре в силу того, что для неё образцом и стержнем является как раз эта артикуляция объекта и нехватки. До такой степени, что все её собственные объекты вращаются вокруг фаллической нехватки и обретают своё значение в свете этой нехватки, в особенности это касается ребёнка. Когда мы рассматриваем объект фобии и объект фетиша, мы фактически рассматриваем ребёнка как объект, который обретает своё значение в свете нехватки, испытываемой, пусть и бессознательно, матерью как женщиной. В этом отношении Лакан напоминает и подчёркивает символическое уравнение Фрейда: ребёнок = фаллос. Вот почему Лакан обратился непосредственно к наиболее показательному в этом отношении фрейдовскому случаю, а именно к случаю юной гомосексуальной пациентки.
Но именно для того, чтобы показать артикуляцию объекта и нехватки, Лакан прорабатывает в этом Семинаре функцию любви. Что это за продвижение в понимании любви в клинике? - поскольку в дальнейшем, если даже этот термин и остаётся
который повторяет саму вводную, сделанную Фрейдом по поводу фетишизма, - а именно то, что это объект, означающий фаллос.
Таким образом, под одним или под другим углом, будь то означающее на месте другого означающего или же это означающее другой вещи, представляющей собой фаллос, объект показан здесь именно как означающее. Когда это фетиш, это означает фаллос ввиду отсутствующего у матери пениса, если мы хотим расположить этот факт в регистре лишения - реальной нехватки символического объекта - или отсутствующего у матери фаллоса, к которому она устремлена и по которому она ностальгирует, если мы хотим говорить об этом в регистре фрустрации. Лакан постоянно переключается между двумя этими регистрами, переходя с одного на другой. Таким образом, фобический объект и его анализ упорядочиваются в структуре метафоры - одного означающего на месте другого - и приводят к разработке отцовской метафоры, в то время как фетиш - в менее очевидной и явной форме в этом Семинаре - упорядочивается в структуре метонимии, то есть в структуре, которая основана не на замещении, а на присоединении одного означающего к другому. Это символическое становление объекта происходит через его артикуляцию в нехватке. Лакан выдвигает на первый план свою теорию нехватки объекта - я назвал так первую часть этого Семинара, - потому что это обязательный участок пути символического становления объекта. Именно отсюда происходит гравитация трёх основных терминов этого семинара: фаллос, женщина и мать. Если есть фаллос, то в силу того, что эта символическая нехватка по преимуществу является нехваткой фаллической.
Чтобы просто зафиксировать эти мысли, можно записать, что объект в этом Семинаре постоянно представлен в различных формах в его артикуляции с нехваткой. У нас есть объект - я рисую черный круг - и этот Семинар постоянно демонстрирует, что он мыслим только в связи с нехваткой - и вот я рисую маленький белый круг, чтобы обозначить её. Этот Семинар всячески демонстрирует эту элементарную артикуляцию:
О •
Женщина появляется в этом Семинаре в силу того, что для неё образцом и стержнем является как раз эта артикуляция объекта и нехватки. До такой степени, что все её собственные объекты вращаются вокруг фаллической нехватки и обретают своё значение в свете этой нехватки, в особенности это касается ребёнка. Когда мы рассматриваем объект фобии и объект фетиша, мы фактически рассматриваем ребёнка как объект, который обретает своё значение в свете нехватки, испытываемой, пусть и бессознательно, матерью как женщиной. В этом отношении Лакан напоминает и подчёркивает символическое уравнение Фрейда: ребёнок = фаллос. Вот почему Лакан обратился непосредственно к наиболее показательному в этом отношении фрейдовскому случаю, а именно к случаю юной гомосексуальной пациентки.
Но именно для того, чтобы показать артикуляцию объекта и нехватки, Лакан прорабатывает в этом Семинаре функцию любви. Что это за продвижение в понимании любви в клинике? - поскольку в дальнейшем, если даже этот термин и остаётся навсегда в учении Лакана, он уже не будет играть такой же ключевой роли, которая отведена ему в этом Семинаре. Если в этом Семинаре любовь имеет клиническое значение, если она представлена основой развития, то потому, что ссылка на любовь демонстрирует, что важна не субстанция или реальность объекта. Функция любви заключается в том, чтобы показать изменчивость объективной субстанции. Любовь обязательно встречается на пути символического становления объекта. Любовь нужна для того, чтобы продемонстрировать, что главное - это манеры, что главное заключается в отношении объекта с ничто. То, что Лакан называет любовью, - это отношение объекта с ничто.
Можно сказать, что любовь в этом смысле в данном Семинаре представляет собой способ, посредством которого в объект вводится кастрация, то есть ничто как минус ф. Есть сходство между любовью и кастрацией. Вот почему необходимо немного подтолкнуть к ней мужчин, которые не так сразу настроены идти в этом направлении. Всё-таки нужна любовь, чтобы устроить их кастрацию, если можно так выразиться. Эта связь любви и кастрации отчётливо подчёркнута Лаканом в статье Значение фаллоса, где он намекает на то, что мужчине, может быть, и не так сподручно воплощать Другого любви, то есть того, кто лишён, и что для женщины актуальна игра, состоящая в том, чтобы подменить мужское существо, чьи мужские качества она лелеет, этим Другим любви, который кастрирован. Это не сразу бросается в глаза, эта игра в подмены, в которой женщина изменяет мужчине в первую очередь с ним самим, если можно так выразиться. Все неверные!
То, что Лакан развивает под видом диалектики фрустрации, на самом деле представляет собой то, как любовь входит в клинику. На долгое время это станет стержнем его клиники. Даже если на этом Семинаре ещё не ясно, что именно является лабораторией для этой разработки, мы видим, что на следующем этапе Лакан придёт к различению двух требований: требования объекта, когда субъект испытывает нужду и требует объект удовлетворения потребности, и другого требования, которое он назовёт - в Семинаре IV это ещё не проясняется - требованием любви, которое не является требованием объекта, но требованием ничто и, прежде всего, требованием знаков другого.
Конечно, мы можем прокомментировать - и это обоснованно - схему, которую Лакан представляет в отношении лишения, фрустрации и кастрации в намеченном им русле, - со всей этой перестановочной механикой определённых мест, которая работает немного хуже, но которая тем не менее является примером означающего перестановочного механизма в теоретическом построении, точно так же, как фобия маленького Ганса рассмотрена как перестановочный миф, который он иллюстрирует самим способом, которым о нём говорит. Но более интересно, нежели комментировать это шаг за шагом во втором чтении, было бы понять, что на самом деле речь идёт о тройке, которая породит классическую лакановскую тройку: лишение соответствует потребности, фрустрация - требованию, в частности требованию любви, и кастрация - желанию. Лакановская тройка «потребность-требование-желание» уже намечена в тройке «лишение-фрустрация-кастрация» этого Семинара.
навсегда в учении Лакана, он уже не будет играть такой же ключевой роли, которая отведена ему в этом Семинаре. Если в этом Семинаре любовь имеет клиническое значение, если она представлена основой развития, то потому, что ссылка на любовь демонстрирует, что важна не субстанция или реальность объекта. Функция любви заключается в том, чтобы показать изменчивость объективной субстанции. Любовь обязательно встречается на пути символического становления объекта. Любовь нужна для того, чтобы продемонстрировать, что главное - это манеры, что главное заключается в отношении объекта с ничто. То, что Лакан называет любовью, - это отношение объекта с ничто.
Можно сказать, что любовь в этом смысле в данном Семинаре представляет собой способ, посредством которого в объект вводится кастрация, то есть ничто как минус ф. Есть сходство между любовью и кастрацией. Вот почему необходимо немного подтолкнуть к ней мужчин, которые не так сразу настроены идти в этом направлении. Всё-таки нужна любовь, чтобы устроить их кастрацию, если можно так выразиться. Эта связь любви и кастрации отчётливо подчёркнута Лаканом в статье Значение фаллоса, где он намекает на то, что мужчине, может быть, и не так сподручно воплощать Другого любви, то есть того, кто лишён, и что для женщины актуальна игра, состоящая в том, чтобы подменить мужское существо, чьи мужские качества она лелеет, этим Другим любви, который кастрирован. Это не сразу бросается в глаза, эта игра в подмены, в которой женщина изменяет мужчине в первую очередь с ним самим, если можно так выразиться. Все неверные!
То, что Лакан развивает под видом диалектики фрустрации, на самом деле представляет собой то, как любовь входит в клинику. На долгое время это станет стержнем его клиники. Даже если на этом Семинаре ещё не ясно, что именно является лабораторией для этой разработки, мы видим, что на следующем этапе Лакан придёт к различению двух требований: требования объекта, когда субъект испытывает нужду и требует объект удовлетворения потребности, и другого требования, которое он назовёт - в Семинаре IV это ещё не проясняется - требованием любви, которое не является требованием объекта, но требованием ничто и, прежде всего, требованием знаков другого.
Конечно, мы можем прокомментировать - и это обоснованно - схему, которую Лакан представляет в отношении лишения, фрустрации и кастрации в намеченном им русле, - со всей этой перестановочной механикой определённых мест, которая работает немного хуже, но которая тем не менее является примером означающего перестановочного механизма в теоретическом построении, точно так же, как фобия маленького Ганса рассмотрена как перестановочный миф, который он иллюстрирует самим способом, которым о нём говорит. Но более интересно, нежели комментировать это шаг за шагом во втором чтении, было бы понять, что на самом деле речь идёт о тройке, которая породит классическую лакановскую тройку: лишение соответствует потребности, фрустрация - требованию, в частности требованию любви, и кастрация - желанию. Лакановская тройка «потребность-требование-желание» уже намечена в тройке «лишение-фрустрация-кастрация» этого Семинара. Поучительный принцип, который Лакан извлечёт из диалектики фрустрации, заключается в том, что нужно всегда оставлять место для ничто. Необходимо, чтобы тот, кто воплощает большого Другого для ребёнка, умел давать ему ничто. Что мешает этому, так это предвзятые представления Другого о потребностях ребёнка. Я цитирую стр. 628 Ecrits, статью Направление лечения, написанную Лаканом после этого Семинара, и я немного дополняю предложение, чтобы вы могли его проследить: если Другой вместо того, чтобы дать ничто, пичкает субъект жирным варевом того, что у него есть, выдавая свои заботы за дар любви, тогда ребёнок другими способами восстанавливает место ничто. Примером, который приводит Лакан, является психическая анорексия, но есть ещё много других способов вернуть всё на круги своя, вернуть место ничто - например, убежать, то есть, наконец, ввести нехватку туда, где потчуют жирным варевом.
Если и существует лакановская педагогика, то состоит она в напоминании, что нет ничего полезнее, чем ничто. Там Лакан указывает - я цитирую эту статью, потому что в ней исправлены некоторые вещи, которые мы находим в Семинаре IV, - что необходимо, чтобы у матери было желание помимо ребёнка, чтобы этот ребёнок не был для неё всем, и что если он таков, если он дополняет её, если она упивается им, поглощая его, то фаллический образ неизбежно накладывается на него.
Урок, который сам Лакан извлечёт из объектных отношений, из диалектики фрустрации, которая в этом Семинаре постоянно перерабатывается, - это пока только намеченное различие между потребностью, требованием и желанием. Регистр требования устанавливается в силу того, что для удовлетворения потребности ребёнок обращается к Другому, чтобы сказать ему о том, чего ему не хватает, чтобы попросить у него что-то. Одно только это обстоятельство предполагает означивание потребности, обтёсывание (émondage) - это термин Лакана - реальности объекта потребности. И кроме этого, есть потребность любви.
Всё это в Семинаре IV пока ещё перемешано. Только впоследствии Лакан упростит эту конструкцию, проведя различие между простым требованием и требованием любви. Простое требование уже несёт эффект означивания потребности. Требование, расположенное по другую сторону, является требованием любви, то есть это требование ничто или, как выразился Лакан в Направлении лечения, безусловное требование присутствия и отсутствия. Именно здесь, в этой формуле, мы можем сказать, что Лакан перерабатывает фрейдовское Fort-Da. Он перечитывает это фрейдовское наблюдение, осмысляя его на основе требования любви. Как если бы Fort-Da было бы демонстрацией функционирования требования любви. И мы видим, насколько по-разному Лакан мог комментировать материал наблюдения. Он смог извлечь из этого функцию повторения Фрейда, он смог извлечь из этого требование любви, а затем и наслаждение, и отношение субъекта с этим наслаждением.
Эта история о безусловном требовании присутствия и отсутствия является не такой уж само собой разумеющейся. Почему речь идёт об отсутствии? Ведь это присутствие, по сути, связано с чистым призванием к Другому, чтобы тот оказался рядом и дал знак своего присутствия, чтобы Другой хотя бы сказал, что он здесь, дал
Поучительный принцип, который Лакан извлечёт из диалектики фрустрации, заключается в том, что нужно всегда оставлять место для ничто. Необходимо, чтобы тот, кто воплощает большого Другого для ребёнка, умел давать ему ничто. Что мешает этому, так это предвзятые представления Другого о потребностях ребёнка. Я цитирую стр. 628 Ecrits, статью Направление лечения, написанную Лаканом после этого Семинара, и я немного дополняю предложение, чтобы вы могли его проследить: если Другой вместо того, чтобы дать ничто, пичкает субъект жирным варевом того, что у него есть, выдавая свои заботы за дар любви, тогда ребёнок другими способами восстанавливает место ничто. Примером, который приводит Лакан, является психическая анорексия, но есть ещё много других способов вернуть всё на круги своя, вернуть место ничто - например, убежать, то есть, наконец, ввести нехватку туда, где потчуют жирным варевом.
Если и существует лакановская педагогика, то состоит она в напоминании, что нет ничего полезнее, чем ничто. Там Лакан указывает - я цитирую эту статью, потому что в ней исправлены некоторые вещи, которые мы находим в Семинаре IV, - что необходимо, чтобы у матери было желание помимо ребёнка, чтобы этот ребёнок не был для неё всем, и что если он таков, если он дополняет её, если она упивается им, поглощая его, то фаллический образ неизбежно накладывается на него.
Урок, который сам Лакан извлечёт из объектных отношений, из диалектики фрустрации, которая в этом Семинаре постоянно перерабатывается, - это пока только намеченное различие между потребностью, требованием и желанием. Регистр требования устанавливается в силу того, что для удовлетворения потребности ребёнок обращается к Другому, чтобы сказать ему о том, чего ему не хватает, чтобы попросить у него что-то. Одно только это обстоятельство предполагает означивание потребности, обтёсывание (émondage) - это термин Лакана - реальности объекта потребности. И кроме этого, есть потребность любви.
Всё это в Семинаре IV пока ещё перемешано. Только впоследствии Лакан упростит эту конструкцию, проведя различие между простым требованием и требованием любви. Простое требование уже несёт эффект означивания потребности. Требование, расположенное по другую сторону, является требованием любви, то есть это требование ничто или, как выразился Лакан в Направлении лечения, безусловное требование присутствия и отсутствия. Именно здесь, в этой формуле, мы можем сказать, что Лакан перерабатывает фрейдовское Fort-Da. Он перечитывает это фрейдовское наблюдение, осмысляя его на основе требования любви. Как если бы Fort-Da было бы демонстрацией функционирования требования любви. И мы видим, насколько по-разному Лакан мог комментировать материал наблюдения. Он смог извлечь из этого функцию повторения Фрейда, он смог извлечь из этого требование любви, а затем и наслаждение, и отношение субъекта с этим наслаждением.
Эта история о безусловном требовании присутствия и отсутствия является не такой уж само собой разумеющейся. Почему речь идёт об отсутствии? Ведь это присутствие, по сути, связано с чистым призванием к Другому, чтобы тот оказался рядом и дал знак своего присутствия, чтобы Другой хотя бы сказал, что он здесь, дал знак своего существования: «Дай мне знак!» То есть отвечает ли он на призыв или откликается, просто говоря: «Я здесь». Поэтому, конечно, когда Другой говорит: «Я здесь», - это приобретает крайнюю, жизненно важную ценность, только в том случае, если его рядом нет. Именно в этом случае это действительно чего-то стоит. Только если вы по-настоящему искушённый человек, тогда ещё вы можете спросить держащего вас за руку Другого, действительно ли он здесь. Особенно если месье, который держит вас за руку, - навязчивый невротик, который как раз-таки думает о чём-то другом. То есть даже у присутствующего Другого можно спрашивать: «Ты здесь?» Но, в конце концов, тем не менее именно когда он отсутствует, произнесённое им Я здесь приобретает жизненно важное значение.
Вот почему Лакан в Семинаре XX мог сказать, что любовное письмо играет важнейшую роль в любви. Обычно письмо отправляется тому, кого точно рядом нет. В любом случае это свидетельство момента, когда Другой был не здесь до того времени, когда будет написано письмо. Отсутствие другого - это тоже моё, и в любом любовном письме говорится: «Тебя нет рядом, но в твоём отсутствии для меня и в моём отсутствии для тебя мы - вместе, ты со мной». Вот почему Лакан мог сказать, что любовное письмо имеет важнейшее значение. Сегодня есть телефон.
Сегодня есть телефон. Что ж, воспользуемся телефоном! Но не всё так просто. Иногда говорят, что это очень плохо. Но иногда телефонный звонок становится строго эквивалентным дару любви. Иногда человек испытывает непреодолимую потребность позвонить своему аналитику по телефону, чтобы услышать его голос. Или, в более чрезмерных формах, делается просто вызов, чтобы побеспокоить его - побеспокоить, чтобы в то же время убедиться, что безусловное требование присутствия и отсутствия обеспечено, выполнено.
Итак, таковы два основных направления, намеченные в Семинаре IV. Это, с одной стороны, требование, просьба, а с другой стороны, - требование любви. Есть требование, направленное на что-то, то есть требование объекта удовлетворения потребности: я голоден, я хочу пить и т. д. Здесь объект, хотя и проходит через требование, в котором он означен, действительно является чем-то. Затем есть требование любви, которое исконно ориентировано на ничто - на простой знак, на почти ничто. Тогда можно сказать, что в сопряжении этих двух направлений требования возникает то, что Лакан разовьёт впоследствии и что ещё не раскрыто в этом Семинаре, а именно желание - желание, расположенное между требованием и требованием любви. Вплоть до того, что Лакан будет играть, не раскрывая своих карт, говоря по одному поводу, что желание находится по ту сторону требования, а по другому поводу, что оно находится по эту сторону требования, чтобы сказать, по сути, что желание расположено между требованием и требованием любви.
Тогда возникнет необходимость в том, чтобы, исходя из желания, был разработан объект. Если, с одной стороны, объект требования - это действительно что-то, а с другой стороны, объект требования любви - это ничто, Лакан рассматривает объект желания как смесь чего-то и ничто. И то, что он назовёт снискавшим известность объектом а, скажем, является означающим чего-то, связанного с ничто. Вот почему,
знак своего существования: «Дай мне знак!» То есть отвечает ли он на призыв или откликается, просто говоря: «Я здесь». Поэтому, конечно, когда Другой говорит: «Я здесь», - это приобретает крайнюю, жизненно важную ценность, только в том случае, если его рядом нет. Именно в этом случае это действительно чего-то стоит. Только если вы по-настоящему искушённый человек, тогда ещё вы можете спросить держащего вас за руку Другого, действительно ли он здесь. Особенно если месье, который держит вас за руку, - навязчивый невротик, который как раз-таки думает о чём-то другом. То есть даже у присутствующего Другого можно спрашивать: «Ты здесь?» Но, в конце концов, тем не менее именно когда он отсутствует, произнесённое им Я здесь приобретает жизненно важное значение.
Вот почему Лакан в Семинаре XX мог сказать, что любовное письмо играет важнейшую роль в любви. Обычно письмо отправляется тому, кого точно рядом нет. В любом случае это свидетельство момента, когда Другой был не здесь до того времени, когда будет написано письмо. Отсутствие другого - это тоже моё, и в любом любовном письме говорится: «Тебя нет рядом, но в твоём отсутствии для меня и в моём отсутствии для тебя мы - вместе, ты со мной». Вот почему Лакан мог сказать, что любовное письмо имеет важнейшее значение. Сегодня есть телефон.
Сегодня есть телефон. Что ж, воспользуемся телефоном! Но не всё так просто. Иногда говорят, что это очень плохо. Но иногда телефонный звонок становится строго эквивалентным дару любви. Иногда человек испытывает непреодолимую потребность позвонить своему аналитику по телефону, чтобы услышать его голос. Или, в более чрезмерных формах, делается просто вызов, чтобы побеспокоить его - побеспокоить, чтобы в то же время убедиться, что безусловное требование присутствия и отсутствия обеспечено, выполнено.
Итак, таковы два основных направления, намеченные в Семинаре IV. Это, с одной стороны, требование, просьба, а с другой стороны, - требование любви. Есть требование, направленное на что-то, то есть требование объекта удовлетворения потребности: я голоден, я хочу пить и т. д. Здесь объект, хотя и проходит через требование, в котором он означен, действительно является чем-то. Затем есть требование любви, которое исконно ориентировано на ничто - на простой знак, на почти ничто. Тогда можно сказать, что в сопряжении этих двух направлений требования возникает то, что Лакан разовьёт впоследствии и что ещё не раскрыто в этом Семинаре, а именно желание - желание, расположенное между требованием и требованием любви. Вплоть до того, что Лакан будет играть, не раскрывая своих карт, говоря по одному поводу, что желание находится по ту сторону требования, а по другому поводу, что оно находится по эту сторону требования, чтобы сказать, по сути, что желание расположено между требованием и требованием любви.
Тогда возникнет необходимость в том, чтобы, исходя из желания, был разработан объект. Если, с одной стороны, объект требования - это действительно что-то, а с другой стороны, объект требования любви - это ничто, Лакан рассматривает объект желания как смесь чего-то и ничто. И то, что он назовёт снискавшим известность объектом а, скажем, является означающим чего-то, связанного с ничто. Вот почему, если бы мы захотели перечитать весь этот Семинар, введя в него объект а, возникли бы большие расхождения, пришлось бы провести водоразделы для течений, которые там смешаны. То, что он разработает как объект а, - это связь чего-то и ничто. Нечто, связанное с ничто, в точности переводится - Лакан представит это в следующем году - как метонимический объект. Лакан разработает объект желания как объект в метонимических отношениях с нехваткой.
Все это не прояснено в Семинаре IV, потому что можно сказать, что любовь -любовь как стремление к ничто, требование ничто - появляется в нём в неразрывной связи с желанием. Кстати, когда Лакан коснётся этого в Вопросе, предваряющем..., он скажет, что любовь - это желание желания. И наоборот, через некоторое время после этого Семинара он противопоставит любовь и желание. Он противопоставит их друг другу после того, как в этом Семинаре они неразрывно переплетены - оба слова используются для обозначения одним другого. Он их противопоставит, поскольку любовь является именно царством ничто, тогда как если говорить о желании, то нельзя пренебрегать настойчивостью чего-то - какой-то совершенно особенной вещи.
Есть ещё одно противопоставление, связанное с тем, что для любви сущностно важным является отношение к большому Другому - Другому, который подаёт свои знаки любви и от которого знак любви ожидается, - тогда как желание, напротив, высвобождается от этого отношения к Другому. Желание, скорее, связано с какой-то вещью в Другом. Именно поэтому оно может вызывать тревогу. Желание, согласно формуле, которую Лакан предложит гораздо позже в Семинаре XI, направлено в тебе на нечто большее, чем ты сам, то есть оно направлено в другом на точку, на некий элемент, неизвестный самому Другому, принадлежащий самой интимной области Другого, о которой сам Другой не имеет представления. Вот почему я предложил использовать для обозначения этой области лакановский термин extimité. Тогда как любовь находится в зависимости от знаков другого, желание подцеплено, стимулируется чем-то, что от Другого отделено.
Вот почему Лакан, после того как сконструировал их в неразрывной связи, приходит к тому, чтобы противопоставить друг другу. Он сделает это в диалектической форме, отметив, что в некотором смысле любовь и желание имеют одинаковую структуру, то есть в желании обнаруживается безусловность требования. Чтобы соединить их, Лакан предполагает своего рода переворот, когда то, что требуется в любви, в любви безусловной, превращается в «абсолютное» условие желания. Он заключает «абсолютное» в кавычки, не давая более подробных объяснений, на странице 691 Ecrits. Но объяснение этих кавычек можно найти на странице 814 в Ниспровержении субъекта, где он ещё раз делает этот анализ, отправной точкой которого стал Семинар IV.
По сути, то, что он начал с фрустрации, через диалектику приводит его к противопоставлению требования и требования любви, и третьим термином, который он разработает, исходя из этого, станет желание: «Благодаря особой симметрии оно [желание] оборачивает безусловность требования любви, в котором субъект остаётся
если бы мы захотели перечитать весь этот Семинар, введя в него объект а, возникли бы большие расхождения, пришлось бы провести водоразделы для течений, которые там смешаны. То, что он разработает как объект а, - это связь чего-то и ничто. Нечто, связанное с ничто, в точности переводится - Лакан представит это в следующем году - как метонимический объект. Лакан разработает объект желания как объект в метонимических отношениях с нехваткой.
Все это не прояснено в Семинаре IV, потому что можно сказать, что любовь -любовь как стремление к ничто, требование ничто - появляется в нём в неразрывной связи с желанием. Кстати, когда Лакан коснётся этого в Вопросе, предваряющем..., он скажет, что любовь - это желание желания. И наоборот, через некоторое время после этого Семинара он противопоставит любовь и желание. Он противопоставит их друг другу после того, как в этом Семинаре они неразрывно переплетены - оба слова используются для обозначения одним другого. Он их противопоставит, поскольку любовь является именно царством ничто, тогда как если говорить о желании, то нельзя пренебрегать настойчивостью чего-то - какой-то совершенно особенной вещи.
Есть ещё одно противопоставление, связанное с тем, что для любви сущностно важным является отношение к большому Другому - Другому, который подаёт свои знаки любви и от которого знак любви ожидается, - тогда как желание, напротив, высвобождается от этого отношения к Другому. Желание, скорее, связано с какой-то вещью в Другом. Именно поэтому оно может вызывать тревогу. Желание, согласно формуле, которую Лакан предложит гораздо позже в Семинаре XI, направлено в тебе на нечто большее, чем ты сам, то есть оно направлено в другом на точку, на некий элемент, неизвестный самому Другому, принадлежащий самой интимной области Другого, о которой сам Другой не имеет представления. Вот почему я предложил использовать для обозначения этой области лакановский термин extimité. Тогда как любовь находится в зависимости от знаков другого, желание подцеплено, стимулируется чем-то, что от Другого отделено.
Вот почему Лакан, после того как сконструировал их в неразрывной связи, приходит к тому, чтобы противопоставить друг другу. Он сделает это в диалектической форме, отметив, что в некотором смысле любовь и желание имеют одинаковую структуру, то есть в желании обнаруживается безусловность требования. Чтобы соединить их, Лакан предполагает своего рода переворот, когда то, что требуется в любви, в любви безусловной, превращается в «абсолютное» условие желания. Он заключает «абсолютное» в кавычки, не давая более подробных объяснений, на странице 691 Ecrits. Но объяснение этих кавычек можно найти на странице 814 в Ниспровержении субъекта, где он ещё раз делает этот анализ, отправной точкой которого стал Семинар IV.
По сути, то, что он начал с фрустрации, через диалектику приводит его к противопоставлению требования и требования любви, и третьим термином, который он разработает, исходя из этого, станет желание: «Благодаря особой симметрии оно [желание] оборачивает безусловность требования любви, в котором субъект остаётся подчинённым Другому, в его противоположность, облекая этот субъект могуществом абсолютного (в смысле также и отрешённого) условия».
Подчинение - это зависимость; субъект подчиняется большому Другому в любви. Но в желании безусловность переворачивается и переходит в могущество абсолютного условия, и здесь Лакан объясняет эту абсолютность, говоря, что он также имеет в виду отрешённость [непривязанность]. По сути, абсолютизировать - значит отделять. Здесь важно сохранить эту оппозицию между любовью и желанием: любовь связана с заглавной буквой Другого (Autre), желание связано с тем, что отделено от этого Другого и тем, что Лакан назовёт причиной желания. С причиной желания субъект больше не остаётся в подчинении Другого. В этом смысле желание - это определённого рода эмансипация в сопоставлении со знаками любви. Решительное желание - вот в чём его можно упрекнуть - не всегда сопровождается знаками любви. Ну это нехорошо! Нужно понимать, что решительное желание не оправдывает всего. Чем более решительно желание, тем более обходительна любовь.
Я уже говорил, что это противопоставление, лежащее в основе самой лакановской концепции желания, которая станет столь известной, подчёркивает освобождение желания от любви. Пример, который приводит Лакан, красноречив, поскольку он говорит, что мы видим это уже на уровне переходного объекта. Переходный объект означает, что мы берём один маленький кусочек и - чао, Другой! Это пример того самого отделённого объекта. Кроме того, иногда аналитик обслуживает нечто подобное, то есть поддаётся, если можно так выразиться, на форму аутизма субъекта, которая приводит к тому, что ряд бедствий, которые могут произойти в жизни субъекта, постепенно становятся для него безразличными - становятся безразличными с того момента, как только он собрался рассказать о них своему аналитику, который, если он чересчур предаётся своему «слушать, ничего не делая», то, надо сказать, становится соучастником растущего беспорядка. Но, вообще, существует, если можно так выразиться, переходное использование самого психоаналитика, которое оправдывает эту конструкцию.
Лакан, ссылаясь на пример переходного объекта Винникотта как на возможность субъекта указывать Другому на его недостатки или его нехватку и таким образом держать удар, отмечает, что это всего лишь эмблема того, чем является объект а, лишь образное, воображаемое представление об объекте а, который, как он уточняет, расположен в бессознательном. Объект а не является переходным объектом. Наблюдение за последним служит только опорой. Объект а находится в бессознательном.
И вы понимаете, почему этот объект а в бессознательном, то есть в бессознательном фантазме, позволяет нам сказать, что, согласно формуле Лакана, бессознательный фантазм всегда одной ногой находится в Другом. Одна нога бессознательного фантазма - в Другом, но не обе. Не обе ноги в той же степени, как и малое а, отделены от большого Другого. Вы можете обратиться к конструкции, которую Лакан заимствует у Фрейда в его комментарии фантазма ребёнка бьют. Вы знаете, что
подчинённым Другому, в его противоположность, облекая этот субъект могуществом абсолютного (в смысле также и отрешённого) условия».
Подчинение - это зависимость; субъект подчиняется большому Другому в любви. Но в желании безусловность переворачивается и переходит в могущество абсолютного условия, и здесь Лакан объясняет эту абсолютность, говоря, что он также имеет в виду отрешённость [непривязанность]. По сути, абсолютизировать - значит отделять. Здесь важно сохранить эту оппозицию между любовью и желанием: любовь связана с заглавной буквой Другого (Autre), желание связано с тем, что отделено от этого Другого и тем, что Лакан назовёт причиной желания. С причиной желания субъект больше не остаётся в подчинении Другого. В этом смысле желание - это определённого рода эмансипация в сопоставлении со знаками любви. Решительное желание - вот в чём его можно упрекнуть - не всегда сопровождается знаками любви. Ну это нехорошо! Нужно понимать, что решительное желание не оправдывает всего. Чем более решительно желание, тем более обходительна любовь.
Я уже говорил, что это противопоставление, лежащее в основе самой лакановской концепции желания, которая станет столь известной, подчёркивает освобождение желания от любви. Пример, который приводит Лакан, красноречив, поскольку он говорит, что мы видим это уже на уровне переходного объекта. Переходный объект означает, что мы берём один маленький кусочек и - чао, Другой! Это пример того самого отделённого объекта. Кроме того, иногда аналитик обслуживает нечто подобное, то есть поддаётся, если можно так выразиться, на форму аутизма субъекта, которая приводит к тому, что ряд бедствий, которые могут произойти в жизни субъекта, постепенно становятся для него безразличными - становятся безразличными с того момента, как только он собрался рассказать о них своему аналитику, который, если он чересчур предаётся своему «слушать, ничего не делая», то, надо сказать, становится соучастником растущего беспорядка. Но, вообще, существует, если можно так выразиться, переходное использование самого психоаналитика, которое оправдывает эту конструкцию.
Лакан, ссылаясь на пример переходного объекта Винникотта как на возможность субъекта указывать Другому на его недостатки или его нехватку и таким образом держать удар, отмечает, что это всего лишь эмблема того, чем является объект а, лишь образное, воображаемое представление об объекте а, который, как он уточняет, расположен в бессознательном. Объект а не является переходным объектом. Наблюдение за последним служит только опорой. Объект а находится в бессознательном.
И вы понимаете, почему этот объект а в бессознательном, то есть в бессознательном фантазме, позволяет нам сказать, что, согласно формуле Лакана, бессознательный фантазм всегда одной ногой находится в Другом. Одна нога бессознательного фантазма - в Другом, но не обе. Не обе ноги в той же степени, как и малое а, отделены от большого Другого. Вы можете обратиться к конструкции, которую Лакан заимствует у Фрейда в его комментарии фантазма ребёнка бьют. Вы знаете, что Фрейд выделяет три такта разработки, последний из которых - ребёнка бьют. Он показывает, как происходит преобразование формул.
Он отмечает, что вторая формула требует реконструкции, потому что субъект никогда не вспоминает её. Что это за реконструированный второй такт? Дело в том, что формула меня бьёт отец приобретает своё значение в результате преобразования первой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу. Лакан разъясняет эту формулу, и она звучит так: он бьет моего брата или сестру, чтобы я не подумал, что он любит его больше, чем меня. Он уточняет, что здесь мы имеем развитую интерсубъективную форму, очень чётко сформулированную. Отметим, что в этой первой форме фантазма, которая после трансформации приведет к ребёнка бьют, речь идёт о любви. Речь идёт о том, чтобы знать, что на самом деле является знакомлюбви. И там избиение другого ребёнка считается знаком любви, который отец даёт субъекту. Другими словами, в самом основании фантазма заложена любовная позиция. Только после преобразований остаётся лишь ребёнка бьют, в котором мы больше не распознаём любовное прошлое фантазма. Но когда мы восстанавливаем генеалогию фантазма, мы обнаруживаем, что изначально это вопрос любви. Есть семьи, в которых отец действительно бьёт.
Например, может найтись семья, где отец бьёт мальчиков и не бьёт девочек -наоборот, он их обнимает. Тогда их особенно радует, что мальчиков бьют. В результате они вполне могут прийти к тому, чтобы вообразить наслаждение от того, что их бьют, как мальчишек, и задаться вопросом, не являются ли на самом деле побои гораздо большим доказательством отцовской любви, чем объятия. В любом случае в этой генеалогии нам показан трёхногий фантазм, но первая очень точно опирается на любовь. Первая нога фантазма находится в отношениях с большим Другим.
Как я уже сказал, доказательство Лакана состоит в том, что фантазм ребёнка бьют поддерживается сложной артикуляцией и что сцена, которая возникает в окончательной форме фантазма, поддерживается целой историей перестановок таким образом, что этот фантазм является одновременно и сценой - потому он принадлежит воображаемому, — и результатом символической трансформации, которая делает её означенной, застывшей, иератической, священной сценой. Но в то же время фантазм имеет функцию реального, по крайней мере, в той степени, в какой он отделён. Начиная от сцены, которая включает в себя любовь и вопрос о любви, мы приходим к сцене отделённой. И в этой отделённости от неистираемого образа мы уже имеем набросок функции объекта а.
Таким же образом, как отделённое, представлено покрывающее воспоминание. Именно в этом самом отрыве от неистираемого образа заключается ценность малого а. Здесь мы ясно видим, что необходимо установить борромеевскую перспективу в отношении этих неистираемых образов. Они, конечно, принадлежат воображаемому, но выполняют свою функцию только в символическом - функцию, которую Лакан в этом Семинаре демонстрирует или в виде фантазматической перестановки, или в виде истории, от которой отделено покрывающее воспоминание. В любом случае они представляют для субъекта преткновение. Они у него как кость в горле. Они сохраняют
Фрейд выделяет три такта разработки, последний из которых - ребёнка бьют. Он показывает, как происходит преобразование формул.
Он отмечает, что вторая формула требует реконструкции, потому что субъект никогда не вспоминает её. Что это за реконструированный второй такт? Дело в том, что формула меня бьёт отец приобретает своё значение в результате преобразования первой отец бьёт ребёнка, которого я ненавижу. Лакан разъясняет эту формулу, и она звучит так: он бьет моего брата или сестру, чтобы я не подумал, что он любит его больше, чем меня. Он уточняет, что здесь мы имеем развитую интерсубъективную форму, очень чётко сформулированную. Отметим, что в этой первой форме фантазма, которая после трансформации приведет к ребёнка бьют, речь идёт о любви. Речь идёт о том, чтобы знать, что на самом деле является знакомлюбви. И там избиение другого ребёнка считается знаком любви, который отец даёт субъекту. Другими словами, в самом основании фантазма заложена любовная позиция. Только после преобразований остаётся лишь ребёнка бьют, в котором мы больше не распознаём любовное прошлое фантазма. Но когда мы восстанавливаем генеалогию фантазма, мы обнаруживаем, что изначально это вопрос любви. Есть семьи, в которых отец действительно бьёт.
Например, может найтись семья, где отец бьёт мальчиков и не бьёт девочек -наоборот, он их обнимает. Тогда их особенно радует, что мальчиков бьют. В результате они вполне могут прийти к тому, чтобы вообразить наслаждение от того, что их бьют, как мальчишек, и задаться вопросом, не являются ли на самом деле побои гораздо большим доказательством отцовской любви, чем объятия. В любом случае в этой генеалогии нам показан трёхногий фантазм, но первая очень точно опирается на любовь. Первая нога фантазма находится в отношениях с большим Другим.
Как я уже сказал, доказательство Лакана состоит в том, что фантазм ребёнка бьют поддерживается сложной артикуляцией и что сцена, которая возникает в окончательной форме фантазма, поддерживается целой историей перестановок таким образом, что этот фантазм является одновременно и сценой - потому он принадлежит воображаемому, — и результатом символической трансформации, которая делает её означенной, застывшей, иератической, священной сценой. Но в то же время фантазм имеет функцию реального, по крайней мере, в той степени, в какой он отделён. Начиная от сцены, которая включает в себя любовь и вопрос о любви, мы приходим к сцене отделённой. И в этой отделённости от неистираемого образа мы уже имеем набросок функции объекта а.
Таким же образом, как отделённое, представлено покрывающее воспоминание. Именно в этом самом отрыве от неистираемого образа заключается ценность малого а. Здесь мы ясно видим, что необходимо установить борромеевскую перспективу в отношении этих неистираемых образов. Они, конечно, принадлежат воображаемому, но выполняют свою функцию только в символическом - функцию, которую Лакан в этом Семинаре демонстрирует или в виде фантазматической перестановки, или в виде истории, от которой отделено покрывающее воспоминание. В любом случае они представляют для субъекта преткновение. Они у него как кость в горле. Они сохраняют парадоксальный, возмутительный и даже постыдный характер, и поэтому они сохраняются как реальное, реальное этой символической разработки.
Если вы вернетесь к размышлениям Лакана о ребёнка бьют, о перверсии, об образе в значении литейной формы для перверсии, вы можете переупорядочить эту конструкцию, увидев в ней части воображаемого, символического и реального с необходимостью замыкания этих трёх регистров посредством борромеевой артикуляции. Теперь мне следовало бы приступить к повторению той генеалогии перверсий, которую Лакан предлагает в своем Семинаре, но, поскольку уже половина четвёртого, я откладываю это до следующего раза.
23 марта 1994
парадоксальный, возмутительный и даже постыдный характер, и поэтому они сохраняются как реальное, реальное этой символической разработки.
Если вы вернетесь к размышлениям Лакана о ребёнка бьют, о перверсии, об образе в значении литейной формы для перверсии, вы можете переупорядочить эту конструкцию, увидев в ней части воображаемого, символического и реального с необходимостью замыкания этих трёх регистров посредством борромеевой артикуляции. Теперь мне следовало бы приступить к повторению той генеалогии перверсий, которую Лакан предлагает в своем Семинаре, но, поскольку уже половина четвёртого, я откладываю это до следующего раза.
23 марта 1994
 символическое и воображаемое. В первом вертикальном столбце лишение квалифицируется как реальная нехватка, фрустрация - как воображаемая нехватка, а кастрация - как символическая нехватка. Постепенно во время семинара, Лакан аргументирует положение о том, что объект лишения, фрустрации и кастрации отличается в зависимости от характера нехватки. Таким образом, он показывает, что объект реальной нехватки является символическим, объект воображаемой нехватки является реальным, а объект символической нехватки является воображаемым. Затем на следующем такте и в соответствии с изложенной таким образом логикой он определяет, что агент лишения является воображаемым, агент фрустрации -символическим, а агент кастрации - реальным.
Здесь задействована перестановочная механика, которая выглядит очень точной. Я оставляю вам в вашем втором чтении проследить по пунктам обоснование, которое в некоторых местах кажется немного натянутым, особенно в отношении столбца агента. То здесь, то там обнаруживают себя усилия, направленные на обоснование этой перестановочной схемы. На самом деле поразительно, что эта очень точная таблица ни разу не была воспроизведена Лаканом ни в одной из его письменных статей, хотя на первый взгляд она кажется совершенно приемлемой. Почему Лакан никогда не возвращался к ней в статьях? Несомненно, это объясняется различными натяжками, связанными с клиническим значением вертикального столбца агента. Но это также объясняется - во всяком случае именно об этом я говорил в прошлый раз - тем фактом, что таблица эта появляется как набросок тройки, которую Лакан неоднократно предлагал и излагал в своих статьях. Действительно, поразмыслив, он предлагает вместо схемы этой таблицы другую, тоже тройственную схему потребности, требования и желания, и в Семинаре IV мы имеем нечто вроде фундамента тройки потребность / требование / желание.
То, что, по сути, является стержнем этой таблицы и стержнем тройки потребность/требование/желание, - это новое определение любви, любви лакановской, которая не является любовью Фрейда, в которой выглядит так, что преобладает нарциссизм. Семинар IV посвящён тому, чтобы показать, что существует не только потребность и её удовлетворение, что объект в психоанализе нельзя объяснить только потребностью и её удовлетворением, что изначально для удовлетворения потребности посредством получения дара необходимо обратиться с запросом к Другому. Несомненно, этот объект, определяемый потребностью, абсолютно специфичен - потребность всегда является потребностью в определённом объекте, - но вмешивается элемент запроса (appel), обращённого к Другому, и сам по себе этот запрос имеет последствия. Это не простая вербализация, это образование означающей формы, что в первую очередь требует, чтобы один говорил на языке другого.
Во-вторых, есть дар как таковой. Подносимый объект не затмевает дар. Есть сам факт подношения. И подношение не удовлетворяет потребность. Чему же оно отвечает? Подношение удовлетворяет любовь. Это то, что Лакан старается продемонстрировать на этом Семинаре: есть другое требование, отличное от того, что
символическое и воображаемое. В первом вертикальном столбце лишение квалифицируется как реальная нехватка, фрустрация - как воображаемая нехватка, а кастрация - как символическая нехватка. Постепенно во время семинара, Лакан аргументирует положение о том, что объект лишения, фрустрации и кастрации отличается в зависимости от характера нехватки. Таким образом, он показывает, что объект реальной нехватки является символическим, объект воображаемой нехватки является реальным, а объект символической нехватки является воображаемым. Затем на следующем такте и в соответствии с изложенной таким образом логикой он определяет, что агент лишения является воображаемым, агент фрустрации -символическим, а агент кастрации - реальным.
Здесь задействована перестановочная механика, которая выглядит очень точной. Я оставляю вам в вашем втором чтении проследить по пунктам обоснование, которое в некоторых местах кажется немного натянутым, особенно в отношении столбца агента. То здесь, то там обнаруживают себя усилия, направленные на обоснование этой перестановочной схемы. На самом деле поразительно, что эта очень точная таблица ни разу не была воспроизведена Лаканом ни в одной из его письменных статей, хотя на первый взгляд она кажется совершенно приемлемой. Почему Лакан никогда не возвращался к ней в статьях? Несомненно, это объясняется различными натяжками, связанными с клиническим значением вертикального столбца агента. Но это также объясняется - во всяком случае именно об этом я говорил в прошлый раз - тем фактом, что таблица эта появляется как набросок тройки, которую Лакан неоднократно предлагал и излагал в своих статьях. Действительно, поразмыслив, он предлагает вместо схемы этой таблицы другую, тоже тройственную схему потребности, требования и желания, и в Семинаре IV мы имеем нечто вроде фундамента тройки потребность / требование / желание.
То, что, по сути, является стержнем этой таблицы и стержнем тройки потребность/требование/желание, - это новое определение любви, любви лакановской, которая не является любовью Фрейда, в которой выглядит так, что преобладает нарциссизм. Семинар IV посвящён тому, чтобы показать, что существует не только потребность и её удовлетворение, что объект в психоанализе нельзя объяснить только потребностью и её удовлетворением, что изначально для удовлетворения потребности посредством получения дара необходимо обратиться с запросом к Другому. Несомненно, этот объект, определяемый потребностью, абсолютно специфичен - потребность всегда является потребностью в определённом объекте, - но вмешивается элемент запроса (appel), обращённого к Другому, и сам по себе этот запрос имеет последствия. Это не простая вербализация, это образование означающей формы, что в первую очередь требует, чтобы один говорил на языке другого.
Во-вторых, есть дар как таковой. Подносимый объект не затмевает дар. Есть сам факт подношения. И подношение не удовлетворяет потребность. Чему же оно отвечает? Подношение удовлетворяет любовь. Это то, что Лакан старается продемонстрировать на этом Семинаре: есть другое требование, отличное от того, что исходит из потребности, требование, которое не распознаётся в измерении потребности, требование, которое происходит из любви. Очертания различия между двумя требованиями проступает в этом Семинаре IV, но ещё точно не задано как таковое. Только через некоторое время Лакан выдвинет эту теорию. Этот Семинар как лаборатория, в которой разрабатывается различие двух требований в рамках продвижения такого клинического представления о любви.
Требование любви, термин, который в этом Семинаре так и не введён, требует -это тезис Лакана - не объект, а ничто. В каком смысле? В каком смысле можно сказать, что это требование ничто? В том смысле, что оно не требует того или этого. Оно не запрашивает какой-то особый объект. Оно требует чтобы то ни было и поэтому безразлично к особенностям объекта. Оно запрашивает что-то, имеющее значение доказательства любви. По сути, этот Семинар проводится для того, чтобы продемонстрировать негативирующую силу любви. Что свидетельствует о любви? Это что угодно, имеющее значение «мне тебя не хватает». В этом отношении дар любви, который обрамляет, который сопровождает дар объекта, имеет прямо противоположное значение. Дарить означает сначала заявить: «Я обладаю». Дарение подчёркивает то, что Другой обладает, но более прикровенным является то, что дар, сделанный Другому в качестве доказательства любви, означает, что у меня чего-то нет - я нуждаюсь в тебе. Таким образом, в обоих случаях есть Другой как адресат, и тем не менее происходит удвоение. Требование, происходящее из потребности, адресовано Другому как имеющему, в то время как требование любви адресовано другому как неимущему. Это даёт основание для определения любви как дара от того, кто не обладает, демонстрации его нехватки.
Это различие послужит мотивом для самой конструкции того, что Лакан позже назовёт Графом желания. Эта схема действительно представляет собой двойную форму. Субъект нехватки - обозначим это перечёркивающей его чертой - обращается к другому как к имеющему, но внутри самого этого требования действует другое требование, которое отправляется по ту сторону этого большого всемогущего и обладающего Другого. Оно адресовано Другому, поскольку он неимущий - и это первая причина, по которой Лакан в Графе желания различает две ступени.
Это двоение является прежде всего раздвоением требования на требование, обращённое к тому, у кого есть и кто может удовлетворить потребность, и требование, обращённое к тому, у кого нет. Таким образом, в ходе Семинара IV мы становимся свидетелями того, что определит совершенно фундаментальный для учения Лакана ориентир. Именно это и составляет ценность, задаёт особое место этого Семинара. Здесь, между этими двумя требованиями, мы имеем операцию, дающую основание для применения термина диалектика, который на этом Семинаре используется в отношении концепта фрустрации. Требование, происходящее из потребности, требует чего-то конкретного, но требование любви, заселяющее это требование, не требует ничего конкретного - оно, по сути, требует знака, можно даже сказать, означающего, которого у другого нет. Это то, что мы найдем в Графе желания, поскольку в конечном итоге у нас есть S( А ), означающее неимущего другого. Вот какой вывод из Семинара IV делает Лакан в статье Значение фаллоса (Écrits р.691), говоря: «Требование аннулирует
исходит из потребности, требование, которое не распознаётся в измерении потребности, требование, которое происходит из любви. Очертания различия между двумя требованиями проступает в этом Семинаре IV, но ещё точно не задано как таковое. Только через некоторое время Лакан выдвинет эту теорию. Этот Семинар как лаборатория, в которой разрабатывается различие двух требований в рамках продвижения такого клинического представления о любви.
Требование любви, термин, который в этом Семинаре так и не введён, требует -это тезис Лакана - не объект, а ничто. В каком смысле? В каком смысле можно сказать, что это требование ничто? В том смысле, что оно не требует того или этого. Оно не запрашивает какой-то особый объект. Оно требует чтобы то ни было и поэтому безразлично к особенностям объекта. Оно запрашивает что-то, имеющее значение доказательства любви. По сути, этот Семинар проводится для того, чтобы продемонстрировать негативирующую силу любви. Что свидетельствует о любви? Это что угодно, имеющее значение «мне тебя не хватает». В этом отношении дар любви, который обрамляет, который сопровождает дар объекта, имеет прямо противоположное значение. Дарить означает сначала заявить: «Я обладаю». Дарение подчёркивает то, что Другой обладает, но более прикровенным является то, что дар, сделанный Другому в качестве доказательства любви, означает, что у меня чего-то нет - я нуждаюсь в тебе. Таким образом, в обоих случаях есть Другой как адресат, и тем не менее происходит удвоение. Требование, происходящее из потребности, адресовано Другому как имеющему, в то время как требование любви адресовано другому как неимущему. Это даёт основание для определения любви как дара от того, кто не обладает, демонстрации его нехватки.
Это различие послужит мотивом для самой конструкции того, что Лакан позже назовёт Графом желания. Эта схема действительно представляет собой двойную форму. Субъект нехватки - обозначим это перечёркивающей его чертой - обращается к другому как к имеющему, но внутри самого этого требования действует другое требование, которое отправляется по ту сторону этого большого всемогущего и обладающего Другого. Оно адресовано Другому, поскольку он неимущий - и это первая причина, по которой Лакан в Графе желания различает две ступени.
Это двоение является прежде всего раздвоением требования на требование, обращённое к тому, у кого есть и кто может удовлетворить потребность, и требование, обращённое к тому, у кого нет. Таким образом, в ходе Семинара IV мы становимся свидетелями того, что определит совершенно фундаментальный для учения Лакана ориентир. Именно это и составляет ценность, задаёт особое место этого Семинара. Здесь, между этими двумя требованиями, мы имеем операцию, дающую основание для применения термина диалектика, который на этом Семинаре используется в отношении концепта фрустрации. Требование, происходящее из потребности, требует чего-то конкретного, но требование любви, заселяющее это требование, не требует ничего конкретного - оно, по сути, требует знака, можно даже сказать, означающего, которого у другого нет. Это то, что мы найдем в Графе желания, поскольку в конечном итоге у нас есть S( А ), означающее неимущего другого. Вот какой вывод из Семинара IV делает Лакан в статье Значение фаллоса (Écrits р.691), говоря: «Требование аннулирует (aufhebt) своеобразие всего, что может быть согласовано с превращением его в доказательство любви».
Он позаботился о том, чтобы после термина аннулирует сослаться в скобках на немецкий глагол aufhebt, представляющий собой глагольную форму гегельянского Aufhebung, которое предполагает одновременно как снятие, отмену, так и форму перехода или сублимации, которая здесь передаётся термином превращение (transmuer). В этом глаголе есть отзвук того, что, собственно, и является диалектикой Гегеля - диалектикой, присутствующей в этом Aufhebung (снятии) объекта. В требовании, которое по своей сути является требованием любви, осуществляется Aufhebung объекта, то есть его снятие, отмена и превращение в объект любви, то есть в ничто, в означающее того, что Другой - неимущий. Таким образом, любовь в своём клиническом изводе является своего рода требованием означающего вместо объекта, вместо реальности объекта. Ещё точнее можно сказать, что это требование означающего нехватки. Таким образом, можно сказать, что Семинар IV бесконечно разными способами на множестве примеров комментирует Aufhebung объекта под влиянием любви.
В этом Семинаре центральное противопоставление - это противопоставление между объектом удовлетворения и объектом дара как таковым - объектом удовлетворения, который является реальным или воображаемым, и объектом дара, который является чисто символическим. Это то, что относится к теории объектных отношений. Теория объектных отношений всегда принимала во внимание объекты удовлетворения, и усилие Лакана направлено на то, чтобы показать, что наиболее важными отношениями являются отношения, возникающие с символическим объектом как означающим нехватки другого, и что поэтому они всегда заданы, обусловлены отношениями с Другим.
Вывод, к которому Лакан в своём исследовании переходит довольно быстро, заключается в том, что ни один объект не ценен сам по себе, что он ценен только в связи с Другим и его недостатком. Если бы мы хотели сформулировать с помощью матемы то, что бесконечное количество раз было наглядно доказано, мы могли бы записать это следующим образом: $ <> А. Этой записью мы можем сказать, что все объекты сведены на нет. Это сущностный эффект любви - сводить объекты на нет, чтобы на их месте разместить означающее нехватки Другого.
Но в то же время Семинар IV не об этом! Отчасти это так, это так в какой-то части, но в то же время есть ещё кое-что, есть и тем не менее всё же. В этом ничто для всех объектов есть и тем не менее всё же. Существует этот сюрприз, который также бесконечно комментируется в Семинаре, - непотопляемый в этом всеобщем бедствии всех объектов объект, особенный объект, не абы какой объект, который является, как вы уже догадались, фаллосом.
Именно так это изложено в главе IV Диалектика фрустрации (р. 70). После того, как Лакан посвятил предыдущие страницы (р.р. 66-69) демонстрации этой пустыни любви, пустыни объектов под эгидой любви, демонстрации того, что ни один объект как таковой не имеет ценности. Но вторым движением, которое составило третью часть
(aufhebt) своеобразие всего, что может быть согласовано с превращением его в доказательство любви».
Он позаботился о том, чтобы после термина аннулирует сослаться в скобках на немецкий глагол aufhebt, представляющий собой глагольную форму гегельянского Aufhebung, которое предполагает одновременно как снятие, отмену, так и форму перехода или сублимации, которая здесь передаётся термином превращение (transmuer). В этом глаголе есть отзвук того, что, собственно, и является диалектикой Гегеля - диалектикой, присутствующей в этом Aufhebung (снятии) объекта. В требовании, которое по своей сути является требованием любви, осуществляется Aufhebung объекта, то есть его снятие, отмена и превращение в объект любви, то есть в ничто, в означающее того, что Другой - неимущий. Таким образом, любовь в своём клиническом изводе является своего рода требованием означающего вместо объекта, вместо реальности объекта. Ещё точнее можно сказать, что это требование означающего нехватки. Таким образом, можно сказать, что Семинар IV бесконечно разными способами на множестве примеров комментирует Aufhebung объекта под влиянием любви.
В этом Семинаре центральное противопоставление - это противопоставление между объектом удовлетворения и объектом дара как таковым - объектом удовлетворения, который является реальным или воображаемым, и объектом дара, который является чисто символическим. Это то, что относится к теории объектных отношений. Теория объектных отношений всегда принимала во внимание объекты удовлетворения, и усилие Лакана направлено на то, чтобы показать, что наиболее важными отношениями являются отношения, возникающие с символическим объектом как означающим нехватки другого, и что поэтому они всегда заданы, обусловлены отношениями с Другим.
Вывод, к которому Лакан в своём исследовании переходит довольно быстро, заключается в том, что ни один объект не ценен сам по себе, что он ценен только в связи с Другим и его недостатком. Если бы мы хотели сформулировать с помощью матемы то, что бесконечное количество раз было наглядно доказано, мы могли бы записать это следующим образом: $ <> А. Этой записью мы можем сказать, что все объекты сведены на нет. Это сущностный эффект любви - сводить объекты на нет, чтобы на их месте разместить означающее нехватки Другого.
Но в то же время Семинар IV не об этом! Отчасти это так, это так в какой-то части, но в то же время есть ещё кое-что, есть и тем не менее всё же. В этом ничто для всех объектов есть и тем не менее всё же. Существует этот сюрприз, который также бесконечно комментируется в Семинаре, - непотопляемый в этом всеобщем бедствии всех объектов объект, особенный объект, не абы какой объект, который является, как вы уже догадались, фаллосом.
Именно так это изложено в главе IV Диалектика фрустрации (р. 70). После того, как Лакан посвятил предыдущие страницы (р.р. 66-69) демонстрации этой пустыни любви, пустыни объектов под эгидой любви, демонстрации того, что ни один объект как таковой не имеет ценности. Но вторым движением, которое составило третью часть его лекции, он обращает внимание на и тем не менее всё же. «Фрейд нам говорит, -говорит нам Лакан и приводит текст Фрейда по поводу этой пустыни, - Фрейд говорит нам, что в мире объектов есть объект, функция которого парадоксальным образом является решающей, а именно есть фаллос».
Здесь, как обычно, ссылка на авторитет Фрейда используется как для обозначения, так и для маскировки разрыва. Поэтому Лакан выражается парадоксально. Почему он выражается парадоксально? Потому что доктрина любви как таковая подразумевает, что не существует объекта, который можно было бы выделить. Все ценные объекты одинаковы - незначительны по сравнению с означающим нехватки Другого. Парадокс заключается в том, что есть один, который тем не менее имеет своё отдельное место и который Лакан вводит, ссылаясь на Фрейда и данные клинического опыта. Термин данные встречается на этой странице 70, и в других своих работах Лакан будет приводить это как факт - факт клинического опыта.
Вопреки тому, что можно было бы подумать, объект выделяется. Здесь есть -рассмотрим это таким образом - теоретическая проблема, которая очень смущала тех, кто занимался Лаканом и усматривал в фаллоцентризме - термине, используемом Лаканом в его работах о психозах, - своего рода ограничение, привносимое в бесконечную подмену объектов друг другом. Вслед за Лаканом мы задаёмся вопросом: но зачем тогда этот фаллос? Почему ему отводится отдельное место? Почему бы просто не остановиться на этой сводящей на нет эквивалентности друг другу всех объектов? Ответ Лакана в Семинаре IV сводится к тому, что так говорит Фрейд и это подтверждает клиника. Только позже, после этого Семинара, появится точная теоретическая разработка, призванная ответить на этот вопрос - вопрос о том, как получается, что в сведении на нет всех объектов, создаваемом любовью, один объект среди других тем не менее обосабливается, выделяется или даже выделяется как означающее par excellence нехватки в Другом.
Теория, которую Лакан позже выдвинет для решения этой теоретической проблемы, состоит в том, что аннуляция не является полной. Аннуляция особенности объекта под воздействием требования любви не является полной. Превращение (transmutation) объекта потребности в доказательство любви происходит не без остатка. Лакан приводит эту конструкцию именно для того, чтобы разрешить этот парадокс - парадокс фаллоса. Как иначе объяснить факт того, что объект сохраняет эту довольно отчётливую функцию, как не предположив, что исчезновение, Aufhebung, объекта не является полным, что после него есть остаток и что особенность этого остатка заключается в том, что он несёт на себе отпечаток абсолютного требования любви.
Таким образом, теоретическое решение состоит в том, чтобы сказать, что особенность объекта [удовлетворения] потребности, однажды устранённая требованием, снова появляется по ту сторону требования. Облитерация объекта [удовлетворения] потребности сохраняет остаток. Таким образом, если требование отрицает потребность, оно не является отрицанием насухо, не является чистым отрицанием. По ту сторону своего воздействия оно сохраняет остаток, и в Значении
его лекции, он обращает внимание на и тем не менее всё же. «Фрейд нам говорит, -говорит нам Лакан и приводит текст Фрейда по поводу этой пустыни, - Фрейд говорит нам, что в мире объектов есть объект, функция которого парадоксальным образом является решающей, а именно есть фаллос».
Здесь, как обычно, ссылка на авторитет Фрейда используется как для обозначения, так и для маскировки разрыва. Поэтому Лакан выражается парадоксально. Почему он выражается парадоксально? Потому что доктрина любви как таковая подразумевает, что не существует объекта, который можно было бы выделить. Все ценные объекты одинаковы - незначительны по сравнению с означающим нехватки Другого. Парадокс заключается в том, что есть один, который тем не менее имеет своё отдельное место и который Лакан вводит, ссылаясь на Фрейда и данные клинического опыта. Термин данные встречается на этой странице 70, и в других своих работах Лакан будет приводить это как факт - факт клинического опыта.
Вопреки тому, что можно было бы подумать, объект выделяется. Здесь есть -рассмотрим это таким образом - теоретическая проблема, которая очень смущала тех, кто занимался Лаканом и усматривал в фаллоцентризме - термине, используемом Лаканом в его работах о психозах, - своего рода ограничение, привносимое в бесконечную подмену объектов друг другом. Вслед за Лаканом мы задаёмся вопросом: но зачем тогда этот фаллос? Почему ему отводится отдельное место? Почему бы просто не остановиться на этой сводящей на нет эквивалентности друг другу всех объектов? Ответ Лакана в Семинаре IV сводится к тому, что так говорит Фрейд и это подтверждает клиника. Только позже, после этого Семинара, появится точная теоретическая разработка, призванная ответить на этот вопрос - вопрос о том, как получается, что в сведении на нет всех объектов, создаваемом любовью, один объект среди других тем не менее обосабливается, выделяется или даже выделяется как означающее par excellence нехватки в Другом.
Теория, которую Лакан позже выдвинет для решения этой теоретической проблемы, состоит в том, что аннуляция не является полной. Аннуляция особенности объекта под воздействием требования любви не является полной. Превращение (transmutation) объекта потребности в доказательство любви происходит не без остатка. Лакан приводит эту конструкцию именно для того, чтобы разрешить этот парадокс - парадокс фаллоса. Как иначе объяснить факт того, что объект сохраняет эту довольно отчётливую функцию, как не предположив, что исчезновение, Aufhebung, объекта не является полным, что после него есть остаток и что особенность этого остатка заключается в том, что он несёт на себе отпечаток абсолютного требования любви.
Таким образом, теоретическое решение состоит в том, чтобы сказать, что особенность объекта [удовлетворения] потребности, однажды устранённая требованием, снова появляется по ту сторону требования. Облитерация объекта [удовлетворения] потребности сохраняет остаток. Таким образом, если требование отрицает потребность, оно не является отрицанием насухо, не является чистым отрицанием. По ту сторону своего воздействия оно сохраняет остаток, и в Значении фаллоса Лакан уточняет, что это не простое отрицание отрицания. Это не отвечает прямо и непосредственно диалектическому механизму, поскольку оно основано на нераспознанной Гегелем функции остатка. И это снова даёт о себе знать по ту сторону, поскольку остаток привносит характер абсолюта, которым он отмечен.
В этом изложении Лакан не говорит, что требование попросту устраняет потребность. Он не говорит, что потребность затмевает требование, но что между потребностью и требованием существует Spaltung - здесь он использует термин, который Фрейд выделяет в статье о Расщеплении объекта. Есть Spaltung, есть раскол, есть расщепление, то есть не просто отрицание и отрицание отрицания, но производство остатка, остатка операции, и именно исходя из этого Лакан сможет вывести желание и фаллос как означающее желания.
Мы можем представить этот вывод сам по себе - потребность, требование, желание, - но благодаря Семинару IV мы действительно восстанавливаем его клиническую основу, а также основания скандала, который необходимо учитывать, возникающий вследствие того, что аннуляция объектов потребности любовью не мешает верховодству фаллоса. Затем Лакан пытается использовать эту модифицированную диалектическую конструкцию, чтобы объяснить тот факт, что аннулирование не является полным, что после него сохраняется остаток и что этот остаток сохраняет что-то от абсолютного требования любви, поскольку он исполняет в психике свою верховную функцию.
В статье Значение фаллоса, которая является своего рода теоретическим решением парадокса Семинара IV, мы имеем в очень элегантной, но в то же время рискованной форме следующую формулу, которая очень точно отражает взаимосвязь между Aufhebung объекта и фаллосом. Согласно этой формуле, фаллос является означающим Aufhebung объекта. Это формула более-менее отчётливо проступает в этой статье. Означающее Aufhebung я записываю как Sa, что является лингвистической аббревиатурой означающего, а объект я записываю под чертой. И вот запись означающего Aufhebung объекта:
ISa
(.....) = <р
obj
Теоретическое решение, представленное в Семинаре IV, состоит в том, что фаллосом называется означающее самой этой операции. Фаллос является означающим аннуляции объекта означающим, и именно поэтому фаллос остаётся на плаву (surnage), именно поэтому верховодство (primauté) фаллоса как раз и является следствием Aufhebung объекта.
В этом отношении, по тексту Значение фаллоса, фаллос воплощает аннулирующую силу означающего. Изложение в этой статье разворачивается через артикуляцию противоречия между требованием любви и желанием - требованием любви, направленным на ничто, и желанием, которое поддерживается фаллосом. Вы найдёте это на странице 693 Écrits. Это то, что Лакан представляет как диалектику требования любви и испытания желанием.
фаллоса Лакан уточняет, что это не простое отрицание отрицания. Это не отвечает прямо и непосредственно диалектическому механизму, поскольку оно основано на нераспознанной Гегелем функции остатка. И это снова даёт о себе знать по ту сторону, поскольку остаток привносит характер абсолюта, которым он отмечен.
В этом изложении Лакан не говорит, что требование попросту устраняет потребность. Он не говорит, что потребность затмевает требование, но что между потребностью и требованием существует Spaltung - здесь он использует термин, который Фрейд выделяет в статье о Расщеплении объекта. Есть Spaltung, есть раскол, есть расщепление, то есть не просто отрицание и отрицание отрицания, но производство остатка, остатка операции, и именно исходя из этого Лакан сможет вывести желание и фаллос как означающее желания.
Мы можем представить этот вывод сам по себе - потребность, требование, желание, - но благодаря Семинару IV мы действительно восстанавливаем его клиническую основу, а также основания скандала, который необходимо учитывать, возникающий вследствие того, что аннуляция объектов потребности любовью не мешает верховодству фаллоса. Затем Лакан пытается использовать эту модифицированную диалектическую конструкцию, чтобы объяснить тот факт, что аннулирование не является полным, что после него сохраняется остаток и что этот остаток сохраняет что-то от абсолютного требования любви, поскольку он исполняет в психике свою верховную функцию.
В статье Значение фаллоса, которая является своего рода теоретическим решением парадокса Семинара IV, мы имеем в очень элегантной, но в то же время рискованной форме следующую формулу, которая очень точно отражает взаимосвязь между Aufhebung объекта и фаллосом. Согласно этой формуле, фаллос является означающим Aufhebung объекта. Это формула более-менее отчётливо проступает в этой статье. Означающее Aufhebung я записываю как Sa, что является лингвистической аббревиатурой означающего, а объект я записываю под чертой. И вот запись означающего Aufhebung объекта:
ISa
(.....) = <р
obj
Теоретическое решение, представленное в Семинаре IV, состоит в том, что фаллосом называется означающее самой этой операции. Фаллос является означающим аннуляции объекта означающим, и именно поэтому фаллос остаётся на плаву (surnage), именно поэтому верховодство (primauté) фаллоса как раз и является следствием Aufhebung объекта.
В этом отношении, по тексту Значение фаллоса, фаллос воплощает аннулирующую силу означающего. Изложение в этой статье разворачивается через артикуляцию противоречия между требованием любви и желанием - требованием любви, направленным на ничто, и желанием, которое поддерживается фаллосом. Вы найдёте это на странице 693 Écrits. Это то, что Лакан представляет как диалектику требования любви и испытания желанием. Но вся эта диалектическая артикуляция, которая впоследствии будет разработана Лаканом, отсутствует в Семинаре IV. Вы можете в разных местах обнаружить эту недостачу. В Семинаре есть ряд моментов, запутанность которых связана именно с тем, что это теоретическое решение ещё не разработано. Таким образом, иногда возникают специфические затруднения, решение для которых будет найдено позже. Вне тех чётких положений, которые уже в безупречной форме обнаруживаются в Écrits, по поводу каждой формулы этого Семинара можно поставить совершенно конкретный вопрос, например, как я сделал это сейчас.
В Семинаре IV у нас нет диалектического примирения, скорее, мы имеем парадоксальное противостояние. Перед нами парадоксальное противостояние между тем фактом, что любовь направлена на ничто, и приматом фаллоса в клинике. На этом семинаре поднимается вопрос отношений перечёркнутого А - нехватки в другом - и фаллоса: А <> ф. И у нас есть клиническая данность того факта, что желание матери как женщины - это фаллос. Это значит, что у матери есть фундаментальная нехватка обладания, что эта нехватка проецируется, если можно так выразиться, как желание фаллоса и что у ребёнка есть своего рода want to be (желание быть) - этот перевод на английский Лакан гораздо позже предложит для своей нехватки бытия (manque-à-être), поскольку слово want на английском языке может одновременно означать как недостаток или нехватку, так и желание, волю. Таким образом, у ребёнка есть want to be фаллосом, желание быть фаллосом. Таким образом, трудность согласования Aufhebung объекта и примата фаллоса позволяет выявить в этом Семинаре неявно присутствующую диалектику бытия и обладания - диалектику между нехваткой обладания и желанием быть.
Здесь мы можем найти ресурс, к использованию которого в этом Семинаре Лакан ещё мало прибегал, речь идёт о том, что он называет попутным замечанием. Вы найдёте его на странице 82. В качестве своего рода экскурса он вводит ссылку на Фрейда, касающуюся анаклитических и нарциссических отношений, и представляет эти формулировки как парадоксальные. Давайте рассмотрим это в данной отсылке.
Различие между анаклитическими отношениями - то есть по тому как это переведено, отношениями с Другим - и нарциссическими отношениями проведено Фрейдом в конце второй части статьи о нарциссизме 1914 года. Фрейд выделяет в ней два типа выбора объекта. Это хорошо известно, но нужно уловить, каким образом выворачивается Лакан для того, чтобы пробудить интерес. Итак, два типа выбора объекта в зависимости от того, делает ли субъект этот выбор полагаясь на большого Другого, или же полагается на себя. То, что переведено как анаклитический, по-немецки означает опираться на. Это было переведено как анаклитический по отношению к так называемым анаклитическим терминам, то есть терминам, которые в языке не могут занимать первое место в образовании слова, а являются лишь последующими и должны стоять после основного термина.
Согласно Фрейду, первый тип выбора объекта - это когда субъект привязывается к людям, которые заботятся о нём, которые его кормят и защищают. Это первоисток выбора объекта. Таким образом, в основном речь идёт о матери или, как говорит
Но вся эта диалектическая артикуляция, которая впоследствии будет разработана Лаканом, отсутствует в Семинаре IV. Вы можете в разных местах обнаружить эту недостачу. В Семинаре есть ряд моментов, запутанность которых связана именно с тем, что это теоретическое решение ещё не разработано. Таким образом, иногда возникают специфические затруднения, решение для которых будет найдено позже. Вне тех чётких положений, которые уже в безупречной форме обнаруживаются в Écrits, по поводу каждой формулы этого Семинара можно поставить совершенно конкретный вопрос, например, как я сделал это сейчас.
В Семинаре IV у нас нет диалектического примирения, скорее, мы имеем парадоксальное противостояние. Перед нами парадоксальное противостояние между тем фактом, что любовь направлена на ничто, и приматом фаллоса в клинике. На этом семинаре поднимается вопрос отношений перечёркнутого А - нехватки в другом - и фаллоса: А <> ф. И у нас есть клиническая данность того факта, что желание матери как женщины - это фаллос. Это значит, что у матери есть фундаментальная нехватка обладания, что эта нехватка проецируется, если можно так выразиться, как желание фаллоса и что у ребёнка есть своего рода want to be (желание быть) - этот перевод на английский Лакан гораздо позже предложит для своей нехватки бытия (manque-à-être), поскольку слово want на английском языке может одновременно означать как недостаток или нехватку, так и желание, волю. Таким образом, у ребёнка есть want to be фаллосом, желание быть фаллосом. Таким образом, трудность согласования Aufhebung объекта и примата фаллоса позволяет выявить в этом Семинаре неявно присутствующую диалектику бытия и обладания - диалектику между нехваткой обладания и желанием быть.
Здесь мы можем найти ресурс, к использованию которого в этом Семинаре Лакан ещё мало прибегал, речь идёт о том, что он называет попутным замечанием. Вы найдёте его на странице 82. В качестве своего рода экскурса он вводит ссылку на Фрейда, касающуюся анаклитических и нарциссических отношений, и представляет эти формулировки как парадоксальные. Давайте рассмотрим это в данной отсылке.
Различие между анаклитическими отношениями - то есть по тому как это переведено, отношениями с Другим - и нарциссическими отношениями проведено Фрейдом в конце второй части статьи о нарциссизме 1914 года. Фрейд выделяет в ней два типа выбора объекта. Это хорошо известно, но нужно уловить, каким образом выворачивается Лакан для того, чтобы пробудить интерес. Итак, два типа выбора объекта в зависимости от того, делает ли субъект этот выбор полагаясь на большого Другого, или же полагается на себя. То, что переведено как анаклитический, по-немецки означает опираться на. Это было переведено как анаклитический по отношению к так называемым анаклитическим терминам, то есть терминам, которые в языке не могут занимать первое место в образовании слова, а являются лишь последующими и должны стоять после основного термина.
Согласно Фрейду, первый тип выбора объекта - это когда субъект привязывается к людям, которые заботятся о нём, которые его кормят и защищают. Это первоисток выбора объекта. Таким образом, в основном речь идёт о матери или, как говорит Фрейд, о том, кто её замещает. Я подчёркиваю это, поскольку Фрейд не настолько привязывается к персонажам семейного театра, чтобы не предполагать возможности их замены. Он уже, по сути, является структуралистом в том смысле, что принимает во внимание место, которое отвечает какой-либо функции, и различные элементы, которые могут прийти на это место, чтобы поддержать эту функцию. Итак, первый тип выбора объекта состоит в следующем: мы выбираем объект, от которого зависим и который любим.
Второй тип выбора объекта - это тот, в котором моделью является не мать, а сам субъект. В некотором смысле мы любим двойника или же другого, в котором мы узнаём себя. Фрейд смягчает различение, отмечая, что у каждого субъекта обычно имеет место сочетание этих двух типов выбора объекта. Выбора объекта не однозначен, но в целом у каждого можно выявить предпочтение, отдаваемое тому или иному типу. В то же время Фрейд накладывает различие между двумя типами выбора объекта на различие полов. Он утверждает, что первый тип выбора, называемый анаклитическим, более характерен для мужчин, в то время как второй более характерен для женщин. Перенос своего нарциссизма на объект, в результате чего происходит переоценка этого объекта и, соответственно, истощение собственного Я субъекта, он представляет как сущностно мужской эффект. Фрейдовская мужская любовь как раз это самое и есть. Это означает встретить в представителе другого пола объект - объект, переоценка которого субъектом приводит к тому, что сам этот субъект оценивает себя ниже.
Гораздо позже, в главе VIII Массовой психологии, Фрейд проводит анализ состояния влюблённости и любви с первого взгляда, который строго соответствует данной линии размышления. Это похоже на внезапный перенос либидо на объект, который в соответствии с этой гидравлической моделью либидо, приводит к понижению либидо собственного Я. В этом отношении мужчина опустошает свой нарциссизм, за счёт которого превозносит свой объект, и затем оказывается в положении зависимости - он начинает прислушиваться к своему объекту как к голосу Сверх-Я и подчиняется его заповедям. Можно сказать, что он помещает в Другого свой Я-Идеал. Кстати, то, что нам известно о жизни Фрейда, о его встрече с будущей женой, по-видимому, очень точно соответствует этому анализу.
Нарциссический выбор, по мнению Фрейда 1914 года, характерен для женщины. Как он об этом говорит, она любит себя гораздо больше, чем другого. Именно здесь он, отвергая все кривотолки и предубеждения в отношении женщин, восхваляет роль нарциссических женщин в культуре. Но, по сути, для Фрейда именно первый тип выбора объекта является истинным. Кстати, он использует как раз это выражение. Истинный выбор объекта - это анаклитический выбор, при котором мы действительно любим другого, тогда как при нарциссическом выборе в конечном итоге остаются лишь модальности любви к себе.
Лакан ссылается на эту фрейдовскую конструкцию, которая впоследствии используется в других текстах Фрейда, но впервые появилась в 1914 году, и он позиционирует анаклитическую позицию как наиболее открытую, хотя её можно
Фрейд, о том, кто её замещает. Я подчёркиваю это, поскольку Фрейд не настолько привязывается к персонажам семейного театра, чтобы не предполагать возможности их замены. Он уже, по сути, является структуралистом в том смысле, что принимает во внимание место, которое отвечает какой-либо функции, и различные элементы, которые могут прийти на это место, чтобы поддержать эту функцию. Итак, первый тип выбора объекта состоит в следующем: мы выбираем объект, от которого зависим и который любим.
Второй тип выбора объекта - это тот, в котором моделью является не мать, а сам субъект. В некотором смысле мы любим двойника или же другого, в котором мы узнаём себя. Фрейд смягчает различение, отмечая, что у каждого субъекта обычно имеет место сочетание этих двух типов выбора объекта. Выбора объекта не однозначен, но в целом у каждого можно выявить предпочтение, отдаваемое тому или иному типу. В то же время Фрейд накладывает различие между двумя типами выбора объекта на различие полов. Он утверждает, что первый тип выбора, называемый анаклитическим, более характерен для мужчин, в то время как второй более характерен для женщин. Перенос своего нарциссизма на объект, в результате чего происходит переоценка этого объекта и, соответственно, истощение собственного Я субъекта, он представляет как сущностно мужской эффект. Фрейдовская мужская любовь как раз это самое и есть. Это означает встретить в представителе другого пола объект - объект, переоценка которого субъектом приводит к тому, что сам этот субъект оценивает себя ниже.
Гораздо позже, в главе VIII Массовой психологии, Фрейд проводит анализ состояния влюблённости и любви с первого взгляда, который строго соответствует данной линии размышления. Это похоже на внезапный перенос либидо на объект, который в соответствии с этой гидравлической моделью либидо, приводит к понижению либидо собственного Я. В этом отношении мужчина опустошает свой нарциссизм, за счёт которого превозносит свой объект, и затем оказывается в положении зависимости - он начинает прислушиваться к своему объекту как к голосу Сверх-Я и подчиняется его заповедям. Можно сказать, что он помещает в Другого свой Я-Идеал. Кстати, то, что нам известно о жизни Фрейда, о его встрече с будущей женой, по-видимому, очень точно соответствует этому анализу.
Нарциссический выбор, по мнению Фрейда 1914 года, характерен для женщины. Как он об этом говорит, она любит себя гораздо больше, чем другого. Именно здесь он, отвергая все кривотолки и предубеждения в отношении женщин, восхваляет роль нарциссических женщин в культуре. Но, по сути, для Фрейда именно первый тип выбора объекта является истинным. Кстати, он использует как раз это выражение. Истинный выбор объекта - это анаклитический выбор, при котором мы действительно любим другого, тогда как при нарциссическом выборе в конечном итоге остаются лишь модальности любви к себе.
Лакан ссылается на эту фрейдовскую конструкцию, которая впоследствии используется в других текстах Фрейда, но впервые появилась в 1914 году, и он позиционирует анаклитическую позицию как наиболее открытую, хотя её можно представить как наиболее инфантильную, наиболее пассивную, в то время как именно нарциссическая позиция ведёт к активности. Лакан основывается на том, что называет примечательным противоречием в построении Фрейда, которое предполагает потребность быть любимым в анаклитических отношениях и потребность любить в нарциссических отношениях. В Семинаре IV он использует эту отсылку, чтобы определить мужскую сексуальность, и заменяет здесь ребёнка на взрослого мужчину.
Почему анаклитическая позиция могла бы быть более открытой? Почему у Фрейда различие анаклитического и нарциссического перекликается с различием полов? Вот какое построение накладывает на конструкцию Фрейда Лакан: если для мужчины анаклитические отношения наиболее благоприятны, наиболее адекватны, то происходит так потому, что мужчина есть тот, кто обладает, то есть наделён фаллосом как объектом желания. Вот что делает нормальным его положение быть любимым. И даже будучи ребёнком, он знает - Лакан говорит об этом на странице 84, - что незаменим для матери как единственный обладатель объекта её желания. Эта формула довольно ненормальна, потому что с очевидностью противоречит Эдипу -Эдипу, который полагает, что, напротив, именно отец является хранителем этого объекта, а мать желает нечто помимо ребёнка. Но если Лакан формулирует вещи таким образом с помощью этой фрейдовской ссылки на анаклитические отношения, то именно для того, чтобы показать, что если эти анаклитические отношения являются единственно заданным типом выбора объекта, то это вводит субъекта в перверсию.
Если проследить эту накладываемую Лаканом конструкцию чуть дальше, окажется, что она подразумевает нормальным такое положение мужчины, в котором он принимает факт обладания, то есть он в некотором роде естественным образом находится в положении быть любимым - быть любимым женщинами. Ну да, скандал!... Но это так, и как раз поэтому он подчиняется диалектическому требованию - счастливая диалектика... - подавать знаки любви, показывающие именно его необладание, и если он их не подает, что ж, тогда он хам и грубиян, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот почему в этом отношении нет ничего лучше, чем его недостатки с точки зрения обладания чем-либо - его недостатки, которые являются знаками предела его могущества. По сути, то, что наиболее ценно в этом отношении, так это, очевидно, признаки его беспомощности, которые свидетельствуют о том, что он предлагает свою кастрацию и что он соглашается поставить её на службу Другому. Можно даже сказать, что мужчина может быть объектом любви только при том условии, что в основе его обладания тем не менее лежит ничто.
Здесь можно сказать, что этот экскурс Лакана подготавливает к тому, что позже станет его чтением Пира Платона и мифа, в котором мужчина - это порос, то есть тот, кто обладает, а женщина исконно апория - та, кто не обладает. Чтобы сориентироваться в делах любви, нужно обратиться к этому основному положению. Это обладание является для Лакана сущностью анаклитических отношений. Это обнаружит себя в статье Значении фаллоса, когда он попытается расположить мужчину и женщину друг относительно друга в их отношении к любви и желанию, когда он скажет, что женщина находит означающее своего желания в теле мужчины и что орган,
представить как наиболее инфантильную, наиболее пассивную, в то время как именно нарциссическая позиция ведёт к активности. Лакан основывается на том, что называет примечательным противоречием в построении Фрейда, которое предполагает потребность быть любимым в анаклитических отношениях и потребность любить в нарциссических отношениях. В Семинаре IV он использует эту отсылку, чтобы определить мужскую сексуальность, и заменяет здесь ребёнка на взрослого мужчину.
Почему анаклитическая позиция могла бы быть более открытой? Почему у Фрейда различие анаклитического и нарциссического перекликается с различием полов? Вот какое построение накладывает на конструкцию Фрейда Лакан: если для мужчины анаклитические отношения наиболее благоприятны, наиболее адекватны, то происходит так потому, что мужчина есть тот, кто обладает, то есть наделён фаллосом как объектом желания. Вот что делает нормальным его положение быть любимым. И даже будучи ребёнком, он знает - Лакан говорит об этом на странице 84, - что незаменим для матери как единственный обладатель объекта её желания. Эта формула довольно ненормальна, потому что с очевидностью противоречит Эдипу -Эдипу, который полагает, что, напротив, именно отец является хранителем этого объекта, а мать желает нечто помимо ребёнка. Но если Лакан формулирует вещи таким образом с помощью этой фрейдовской ссылки на анаклитические отношения, то именно для того, чтобы показать, что если эти анаклитические отношения являются единственно заданным типом выбора объекта, то это вводит субъекта в перверсию.
Если проследить эту накладываемую Лаканом конструкцию чуть дальше, окажется, что она подразумевает нормальным такое положение мужчины, в котором он принимает факт обладания, то есть он в некотором роде естественным образом находится в положении быть любимым - быть любимым женщинами. Ну да, скандал!... Но это так, и как раз поэтому он подчиняется диалектическому требованию - счастливая диалектика... - подавать знаки любви, показывающие именно его необладание, и если он их не подает, что ж, тогда он хам и грубиян, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот почему в этом отношении нет ничего лучше, чем его недостатки с точки зрения обладания чем-либо - его недостатки, которые являются знаками предела его могущества. По сути, то, что наиболее ценно в этом отношении, так это, очевидно, признаки его беспомощности, которые свидетельствуют о том, что он предлагает свою кастрацию и что он соглашается поставить её на службу Другому. Можно даже сказать, что мужчина может быть объектом любви только при том условии, что в основе его обладания тем не менее лежит ничто.
Здесь можно сказать, что этот экскурс Лакана подготавливает к тому, что позже станет его чтением Пира Платона и мифа, в котором мужчина - это порос, то есть тот, кто обладает, а женщина исконно апория - та, кто не обладает. Чтобы сориентироваться в делах любви, нужно обратиться к этому основному положению. Это обладание является для Лакана сущностью анаклитических отношений. Это обнаружит себя в статье Значении фаллоса, когда он попытается расположить мужчину и женщину друг относительно друга в их отношении к любви и желанию, когда он скажет, что женщина находит означающее своего желания в теле мужчины и что орган, облачённый таким образом в свою означающую функцию, приобретает значение фетиша.
В Семинаре IV этот экскурс в анаклитические отношения даёт Лакану материал для генеалогии перверсии - генеалогии перверсии, основа которой кроется в самих этих анаклитических отношениях, если они - используем это слово - не преобразованы (transmuée) символическим. Что было бы, если бы они прошли через символическое преобразование? Получилось бы так, что ребёнок заметил бы, что у матери есть желание помимо него. Если она по какому-то недоразумению остаётся чисто воображаемой, что тогда происходит с ребёнком, имеющим дело с парой мать-фаллос? - поскольку к этому, по сути, и сводится дающая о себе здесь знать фундаментальная диспозиция: ребёнок сталкивается не только с матерью, но с парой матери и фаллоса, то есть с парой матери как её нехваткой и тем, чего ей не хватает, что символизирует эту нехватку.
Два решения! Или идентифицироваться с ней, или идентифицироваться с фаллосом. Или с места матери сделать фаллический выбор, то есть идентифицироваться с ней в её стремлении к фаллосу, воспринять её томление (nostalgie) по фаллосу и, следовательно, идентифицироваться с той, у кого его нет - что в действительности обнаруживается у гомосексуального субъекта в виде одержимости фаллосом, заимствованной у матери, в виде восхваления притягательного объекта, который был объектом матери, или - в другом случае - идентифицироваться с фаллосом не из положения иметь, а из положении быть. В этом и заключается то, что мы порой разыскиваем в речи гомосексуалиста: узнать, куда ушла любовь, поскольку гомосексуальные отношениях, как кажется, могут полностью обойтись без неё. В таких отношениях любовь приобретает своего рода невидимость, как будто присутствует каким-то образом подспудно. И эта любовь - это любовь матери, которую иногда может представлять партнёр, выбранный среди прочих. В дополнение к этому в Семинаре IV Лакан подробно останавливается на описанных в ряде клинических работ других аналитиков очень быстрых переходах перверта из одного положения в другое -переходов от идентификации с матерью к идентификации с фаллосом.
Здесь, безусловно, предпочтение отдается мужской позиции. Когда Лакан подробно описывает генеалогию объекта фетиша, он делает это, рассматривая мужчину и желание. То, что противоречит этой генеалогии фетишизма, так это, собственно, структура женской гомосексуальности, которая, как показывает анализ юной гомосексуальной пациентки, формируется в измерении любви и разочарования в любви, что приобретает для неё кастрирующее значение. Но то, что тем не менее проходит красной нитью, так это вопрос фетиша у женщины.
У женщин есть дети. У мужчин они есть только во вторую очередь. В чём заключается значение детей для женщины? Несомненно, когда этот объект приписывается мужчине, - это объект любви. Но когда он не так уж и соотносится с мужчиной, разве нельзя сказать, что ребёнок становится объектом фетиша для женщины? Лакан прямо ставит этот вопрос, ссылаясь на Фрейда, который сам и во многих случаях - здесь я приведу только этот, но, возможно, в следующий раз я
облачённый таким образом в свою означающую функцию, приобретает значение фетиша.
В Семинаре IV этот экскурс в анаклитические отношения даёт Лакану материал для генеалогии перверсии - генеалогии перверсии, основа которой кроется в самих этих анаклитических отношениях, если они - используем это слово - не преобразованы (transmuée) символическим. Что было бы, если бы они прошли через символическое преобразование? Получилось бы так, что ребёнок заметил бы, что у матери есть желание помимо него. Если она по какому-то недоразумению остаётся чисто воображаемой, что тогда происходит с ребёнком, имеющим дело с парой мать-фаллос? - поскольку к этому, по сути, и сводится дающая о себе здесь знать фундаментальная диспозиция: ребёнок сталкивается не только с матерью, но с парой матери и фаллоса, то есть с парой матери как её нехваткой и тем, чего ей не хватает, что символизирует эту нехватку.
Два решения! Или идентифицироваться с ней, или идентифицироваться с фаллосом. Или с места матери сделать фаллический выбор, то есть идентифицироваться с ней в её стремлении к фаллосу, воспринять её томление (nostalgie) по фаллосу и, следовательно, идентифицироваться с той, у кого его нет - что в действительности обнаруживается у гомосексуального субъекта в виде одержимости фаллосом, заимствованной у матери, в виде восхваления притягательного объекта, который был объектом матери, или - в другом случае - идентифицироваться с фаллосом не из положения иметь, а из положении быть. В этом и заключается то, что мы порой разыскиваем в речи гомосексуалиста: узнать, куда ушла любовь, поскольку гомосексуальные отношениях, как кажется, могут полностью обойтись без неё. В таких отношениях любовь приобретает своего рода невидимость, как будто присутствует каким-то образом подспудно. И эта любовь - это любовь матери, которую иногда может представлять партнёр, выбранный среди прочих. В дополнение к этому в Семинаре IV Лакан подробно останавливается на описанных в ряде клинических работ других аналитиков очень быстрых переходах перверта из одного положения в другое -переходов от идентификации с матерью к идентификации с фаллосом.
Здесь, безусловно, предпочтение отдается мужской позиции. Когда Лакан подробно описывает генеалогию объекта фетиша, он делает это, рассматривая мужчину и желание. То, что противоречит этой генеалогии фетишизма, так это, собственно, структура женской гомосексуальности, которая, как показывает анализ юной гомосексуальной пациентки, формируется в измерении любви и разочарования в любви, что приобретает для неё кастрирующее значение. Но то, что тем не менее проходит красной нитью, так это вопрос фетиша у женщины.
У женщин есть дети. У мужчин они есть только во вторую очередь. В чём заключается значение детей для женщины? Несомненно, когда этот объект приписывается мужчине, - это объект любви. Но когда он не так уж и соотносится с мужчиной, разве нельзя сказать, что ребёнок становится объектом фетиша для женщины? Лакан прямо ставит этот вопрос, ссылаясь на Фрейда, который сам и во многих случаях - здесь я приведу только этот, но, возможно, в следующий раз я обращусь к другим, - искал эквиваленты фаллоса. Например, в том, что касается изменений в субъективном положении девочки, он в тексте 1925 года Некоторые психические последствия анатомического различия полов прямо говорит об уравнении пенис = ребёнок. «Либидо девушки - говорит он, - занимает новую позицию (можно лишь сказать: путем предначертанного символического сравнения пенис-ребенок). Она отказывается от желания иметь пенис, чтобы заменить его желанием иметь ребёнка».
Фрейд много раз возвращался к этой замене - замене желания пениса на желание ребёнка, - испытывая к тому же определённые трудности в установлении подлинности желания по отношению к мужчине. Что действительно хорошо простроено у Фрейда, так это желание пениса и желание ребёнка: желание пениса, которое считается первоначальным, и желание ребёнка, являющееся обоснованной заменой. Затем между ними возникает желание мужчины - мужчины, о котором он однажды сказал, что тот в конечном итоге является своего рода придатком пениса. Именно это вводит в повестку Семинара IV вопрос о субъективной подлинности материнства, поскольку, в конце концов, ребёнок, если следовать самому Фрейду, является заменителем пениса, и между ним и фетишем есть нечто общее. Вот почему Лакан считал клиническим фактом, что обычно женщины имеют желание, как он говорил, отелиться. Они хотят заполучить его. Таким образом, мы часто видим такой исход, но это ещё ничего не говорит о его подлинности.
Вопрос в том, в какой степени материнство является достойным решением проблемы женственности. Достоинство в этом есть. Но в какой степени с аналитической точки зрения оно подлинно? Здесь необходимо чётко различать мать и жену. Мать - это та инстанция, которую зовут. Вот как мы видим её в Семинаре IV. Она та, кого зовут на помощь, и та, кто благодетельствует. Или та, кто отказывает, кто не отвечает, кого здесь нет. Мать - это по преимуществу Другой требования, то есть Другой, от которого мы зависим, Другой анаклитических отношений, если говорить словами Фрейда, Другой, от которого мы ждём ответа и который иногда держит в напряжении. Мать - это Другой, которого нужно спрашивать на его языке, Другой, с языком которого заведомо нужно согласиться, чтобы говорить с ним. Сказать, что это Другой требования, значит признать, что первичной речью является речь требования и что любая речь имеет примесь этого требования. За исключением, как мы надеемся, речи осуществляющего свою деятельность аналитика.
Аналитиком мог бы считаться тот, чья речь не содержала бы примеси требования, в чьей речи не была бы замешана мать. В конце концов, это то, что религия хорошо усвоила и использует, а именно то, что речь по своей сути является молитвой, но при этом в религии она обращается к отцу - тому отцу, который, в конце концов, является заменой первого материнского божества. Действительно, Другим требования, как Лакан представляет его в Семинаре IV, является могущество - могущество, усиливающее требование. Происхождение всемогущества не следует искать на стороне отца. Мы должны искать его происхождение на стороне матери, Великой Матери, первой среди богов, белой богини, той, которая, как нам говорят,
обращусь к другим, - искал эквиваленты фаллоса. Например, в том, что касается изменений в субъективном положении девочки, он в тексте 1925 года Некоторые психические последствия анатомического различия полов прямо говорит об уравнении пенис = ребёнок. «Либидо девушки - говорит он, - занимает новую позицию (можно лишь сказать: путем предначертанного символического сравнения пенис-ребенок). Она отказывается от желания иметь пенис, чтобы заменить его желанием иметь ребёнка».
Фрейд много раз возвращался к этой замене - замене желания пениса на желание ребёнка, - испытывая к тому же определённые трудности в установлении подлинности желания по отношению к мужчине. Что действительно хорошо простроено у Фрейда, так это желание пениса и желание ребёнка: желание пениса, которое считается первоначальным, и желание ребёнка, являющееся обоснованной заменой. Затем между ними возникает желание мужчины - мужчины, о котором он однажды сказал, что тот в конечном итоге является своего рода придатком пениса. Именно это вводит в повестку Семинара IV вопрос о субъективной подлинности материнства, поскольку, в конце концов, ребёнок, если следовать самому Фрейду, является заменителем пениса, и между ним и фетишем есть нечто общее. Вот почему Лакан считал клиническим фактом, что обычно женщины имеют желание, как он говорил, отелиться. Они хотят заполучить его. Таким образом, мы часто видим такой исход, но это ещё ничего не говорит о его подлинности.
Вопрос в том, в какой степени материнство является достойным решением проблемы женственности. Достоинство в этом есть. Но в какой степени с аналитической точки зрения оно подлинно? Здесь необходимо чётко различать мать и жену. Мать - это та инстанция, которую зовут. Вот как мы видим её в Семинаре IV. Она та, кого зовут на помощь, и та, кто благодетельствует. Или та, кто отказывает, кто не отвечает, кого здесь нет. Мать - это по преимуществу Другой требования, то есть Другой, от которого мы зависим, Другой анаклитических отношений, если говорить словами Фрейда, Другой, от которого мы ждём ответа и который иногда держит в напряжении. Мать - это Другой, которого нужно спрашивать на его языке, Другой, с языком которого заведомо нужно согласиться, чтобы говорить с ним. Сказать, что это Другой требования, значит признать, что первичной речью является речь требования и что любая речь имеет примесь этого требования. За исключением, как мы надеемся, речи осуществляющего свою деятельность аналитика.
Аналитиком мог бы считаться тот, чья речь не содержала бы примеси требования, в чьей речи не была бы замешана мать. В конце концов, это то, что религия хорошо усвоила и использует, а именно то, что речь по своей сути является молитвой, но при этом в религии она обращается к отцу - тому отцу, который, в конце концов, является заменой первого материнского божества. Действительно, Другим требования, как Лакан представляет его в Семинаре IV, является могущество - могущество, усиливающее требование. Происхождение всемогущества не следует искать на стороне отца. Мы должны искать его происхождение на стороне матери, Великой Матери, первой среди богов, белой богини, той, которая, как нам говорят, предшествовала религиям отца. Итак, этот Другой требования является матерью, в общем, это тот Другой, который обладает, это богатство и изобилие, это то, что в мифе о Зевсе нам представлено как коза Амальтея, полный до краёв рог изобилия.
А женщина? Что такое женщина в бессознательном? Это полная противоположность матери. Женщина - это Другой, который не имеет, это Другой необладания, это Другой недостатка, нехватки, который воплощает рану кастрации, это Другой, поражённый в своём могуществе. Женщина - это униженный Другой, страдающий Другой, а значит и Другой, который подчиняется, Другой, который жалуется, Другой, который стенает, Другой бедности, лишения, нищеты, Другой, которого крадут, Другой, которого клеймят, Другой, которого продают, Другой, которого бьют, Другой, которого насилуют, Другой, которого убивают, Другой, который всегда страдает и которому нечего дать, кроме его нехватки и знаков его нехватки. Полная противоположность матери!
Но даже под гнётом всего того, что она испытывает и от чего страдает, женщина остаётся Другим желанным, Другим желания, но не Другим требования. Если мы хотим противопоставить мать и жену, давайте сначала скажем, что мать - это Другой требования, а женщина - Другой желания, Другой, от которого ничего не требуют, но которого подчиняют, эксплуатируют, заставляя работать, Другой, которого подвергают цензуре, Другой, которого затыкают, заставляя молчать, и о котором, кроме всего прочего, говорят плохо.
Конечно, бывает, что о ней говорят хорошее, её прославляют и выставляют нагишом, но разве так бывает не тогда, когда на неё падает тень матери? Ведь куртуазная любовь, в которой более всего превозносят женщину и её нехватку, предполагает именно то, что к женщине не прикасаются. Это наводит на мысль, что на женщину падает тень матери. Именно это приводит Фрейда к обвинению женщины в том, что она наслаждается страданиями. Не будем заходить так далеко, но следует учесть типичные фантазии, которым, как правило, предаются женщины, когда для достижения наслаждения они представляют себя объектом преследования со стороны мужчин - избитыми, доведёнными до изнеможения, - как если бы это было навязанным им условием для того, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной. Это подвергать себя страданию, впрочем, охотно идёт окольными путями, например, под прикрытием императива быть красивой, который часто является лишь маской эстетизированного мазохизма.
Получается комедия дель арте с хорошо контрастирующими персонажами. С одной стороны - мать, замкнутая на детей, с другой - женщина, закованная в цепи. Мать, осыпанная похвалами, и жена, покрытая плевками. Здесь власть и богатство, там рабство и нищета. С одной стороны - обладание, а с другой - нехватка. Из чего следует, что это не одно и то же. Факты, которые накапливает аналитический опыт, не позволяют установить не только идентичность между матерью и женой, но и даже существующую между ними неразрывную связь. Более того, есть факт - новый факт, современный факт - что там, где женщины стали гражданами, полноправными субъектами - что заняло много времени, - они с готовностью возражают против
предшествовала религиям отца. Итак, этот Другой требования является матерью, в общем, это тот Другой, который обладает, это богатство и изобилие, это то, что в мифе о Зевсе нам представлено как коза Амальтея, полный до краёв рог изобилия.
А женщина? Что такое женщина в бессознательном? Это полная противоположность матери. Женщина - это Другой, который не имеет, это Другой необладания, это Другой недостатка, нехватки, который воплощает рану кастрации, это Другой, поражённый в своём могуществе. Женщина - это униженный Другой, страдающий Другой, а значит и Другой, который подчиняется, Другой, который жалуется, Другой, который стенает, Другой бедности, лишения, нищеты, Другой, которого крадут, Другой, которого клеймят, Другой, которого продают, Другой, которого бьют, Другой, которого насилуют, Другой, которого убивают, Другой, который всегда страдает и которому нечего дать, кроме его нехватки и знаков его нехватки. Полная противоположность матери!
Но даже под гнётом всего того, что она испытывает и от чего страдает, женщина остаётся Другим желанным, Другим желания, но не Другим требования. Если мы хотим противопоставить мать и жену, давайте сначала скажем, что мать - это Другой требования, а женщина - Другой желания, Другой, от которого ничего не требуют, но которого подчиняют, эксплуатируют, заставляя работать, Другой, которого подвергают цензуре, Другой, которого затыкают, заставляя молчать, и о котором, кроме всего прочего, говорят плохо.
Конечно, бывает, что о ней говорят хорошее, её прославляют и выставляют нагишом, но разве так бывает не тогда, когда на неё падает тень матери? Ведь куртуазная любовь, в которой более всего превозносят женщину и её нехватку, предполагает именно то, что к женщине не прикасаются. Это наводит на мысль, что на женщину падает тень матери. Именно это приводит Фрейда к обвинению женщины в том, что она наслаждается страданиями. Не будем заходить так далеко, но следует учесть типичные фантазии, которым, как правило, предаются женщины, когда для достижения наслаждения они представляют себя объектом преследования со стороны мужчин - избитыми, доведёнными до изнеможения, - как если бы это было навязанным им условием для того, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной. Это подвергать себя страданию, впрочем, охотно идёт окольными путями, например, под прикрытием императива быть красивой, который часто является лишь маской эстетизированного мазохизма.
Получается комедия дель арте с хорошо контрастирующими персонажами. С одной стороны - мать, замкнутая на детей, с другой - женщина, закованная в цепи. Мать, осыпанная похвалами, и жена, покрытая плевками. Здесь власть и богатство, там рабство и нищета. С одной стороны - обладание, а с другой - нехватка. Из чего следует, что это не одно и то же. Факты, которые накапливает аналитический опыт, не позволяют установить не только идентичность между матерью и женой, но и даже существующую между ними неразрывную связь. Более того, есть факт - новый факт, современный факт - что там, где женщины стали гражданами, полноправными субъектами - что заняло много времени, - они с готовностью возражают против материнства, что привело к беспрецедентному падению рождаемости и является сейчас проблемой для правительств старой Европы и даже в некоторой степени для Соединённых Штатов.
По сути, это поднимает вопрос фрейдовского уравнения пенис = ребёнок. Чтобы быть женщиной, нужно ли отказываться быть матерью? Давайте признаем, что именно этот путь выбирают определённое количество женщин. Также как определённое количество соглашаются на материнство только в минимально возможной степени лишь для того, чтобы получить привилегированный статус, который по-прежнему остаётся за матерью, а не за женщиной. Но как только у них появляется право голоса, они говорят: «Не более того!» - отказываясь, в сущности, реализовать себя в изобилии потомства.
Итак, вопрос о том, нужно ли отказываться быть матерью, чтобы быть женщиной, заслуживает того, чтобы его задать. Я выскажу вам своё мнения в следующий раз, но до тех пор прошу вас воздержаться от каких-либо выводов!
30 марта 1994
материнства, что привело к беспрецедентному падению рождаемости и является сейчас проблемой для правительств старой Европы и даже в некоторой степени для Соединённых Штатов.
По сути, это поднимает вопрос фрейдовского уравнения пенис = ребёнок. Чтобы быть женщиной, нужно ли отказываться быть матерью? Давайте признаем, что именно этот путь выбирают определённое количество женщин. Также как определённое количество соглашаются на материнство только в минимально возможной степени лишь для того, чтобы получить привилегированный статус, который по-прежнему остаётся за матерью, а не за женщиной. Но как только у них появляется право голоса, они говорят: «Не более того!» - отказываясь, в сущности, реализовать себя в изобилии потомства.
Итак, вопрос о том, нужно ли отказываться быть матерью, чтобы быть женщиной, заслуживает того, чтобы его задать. Я выскажу вам своё мнения в следующий раз, но до тех пор прошу вас воздержаться от каких-либо выводов!
30 марта 1994
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 17 часов назад