Книга 776354 устарела и заменена на исправленную
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Энзель и Крете
Сказка из Замонии от
Хильдегунста фон Мифореза
Переведено с замонийского,иллюстрировано и
снабжено биографией первой половины жизни автора от
Вальтера Моэрса
С пояснениями из Лексикона требующих пояснения чудес,
форм существования и феноменов Замонии и окрестностей
профессора доктора Абдула Соловейчика
Часть I: Энзель и Крете
Едва я начал жизнь свою, Как очутился в сумрачном лесу, Лишь сбился с правого пути. Мучительно мне облик описать Высоких, диких, злых лесных чертогов, Что, лишь подумаю о них, вновь страх терзает. Когти смерти были слишком близки. За благо, что явилось мне, Поведаю я, что в лесу случилось. Хильдегунст фон Мифорез, "Большой Лес", Первая ПесньI. Бауминг
Разносчики предлагали на большинстве перекрестков горячие каштаны и прохладный лимонад из подмаренника душистого в качестве походного провианта. Большая Лес в своей туристически освоенной части был самым организованным местом во всей Замонии. Можно было посетить школу Цветных медведей (желательна предварительная запись, предпочтительны группы) и с задних парт послушать, как милые маленькие медвежата поют песни прославления леса или зубрят параграфы из "Лексикона нуждающихся в объяснении чудес, форм жизни и явлений Замонии и окрестностей" профессора доктора Соловейчика. Доброжелательные, но излучающие авторитет преподаватели объясняли законы фотосинтеза и круговорота хлорофилла.
Что ж, до этого места эта замонийская сказка казалась вам знакомой, не правда ли? Или, по крайней мере, одноимённая детская песенка: «Энзель и Крете пошли в лес»... Только слегка модернизированная версия, история с Лесом Цветных Медведей, заставила вас продолжать читать, верно? Что ж, это был небольшой профессиональный трюк, чтобы заставить вас дочитать до этого места — если вы читаете это предложение, значит, вы попались. Разрешите представиться? Меня зовут Хильдегунст фон Мифорез, и вы, вероятно, достаточно хорошо меня знаете. Вероятно, в Замонийской начальной школе вам приходилось заучивать наизусть мою «Личинку Мрачной Горы» до тех пор, пока у вас не воспалялись миндалины. Это недостаток того, что принадлежишь к форме существования, которая, если повезёт, может дожить до тысячи лет: самому приходится переживать, как становишься классиком. Это похоже на то, как если бы тебя заживо съедали черви. Но речь здесь идёт не о чувствах успешного писателя. Тогда о чём же? Речь идёт о великом, конечно: вам, читатель, позволено быть свидетелем звёздного часа замонийской литературы. Возможно, вы ещё не заметили, но вы уже находитесь в центре разработанной мной совершенно новой писательской техники, которую я хотел бы назвать мифорезовским отступлением. Эта техника позволяет автору вмешиваться в любом месте своего произведения, чтобы, в зависимости от настроения, комментировать, поучать, сетовать, короче говоря: отклоняться от темы. Я знаю, что вам это сейчас не нравится, но дело не в том, что нравится вам. Дело в том, что нравится мне. Знаете ли вы, как утомительно для писателя поддерживать равномерный поток своего повествования? Конечно, нет, откуда вам, простому потребителю, это знать? Для вас утомительная часть заканчивается походом в книжный магазин, теперь вы развалились в своём любимом кресле с чашкой горячего медового молока, погружаетесь в поток искусно сплетённых слов и предложений и позволяете ему нести вас от главы к главе. Но, может быть, вы хотя бы раз попытаетесь представить себе, как сильно автора иногда раздражают его персонажи, принуждение к событиям, рутина диалогов и обязанность описания? Как мучительно для него постоянно формулировать в изящных строфах или безупречной прозе? Как он тогда жаждет растянуть дугу напряжения, наплевать на повествовательную связность и художественное оформление и просто немного поболтать? О чём? Да о том, о чём ему в данный момент вздумается — какое вам дело? Разве я указываю вам, о чём болтать в свободное время? Мифорезовское отступление наконец-то даёт замонийскому писателю свободу, которая обычно считается само собой разумеющейся — говорить, как на душу ляжет. Не задумываясь о том, что какой-нибудь завистливый сопляк из литературной критики может об этом подумать. Не рассчитывая на то, что за это будет присуждён Гральзундский Слог. О чём? Как насчёт погоды, например? Или проблем, которые у меня иногда возникают с желчным пузырём? Или как насчёт того, чтобы я описал вам самое близкое мне место, моё рабочее место? Разве это не очень интересно: знаменитый поэт открывает своё святилище, свою многократно запертую писательскую келью, и приглашает читателя войти, чтобы тот мог вдоволь там порыться. Да, проходите, пожалуйста, вот мой рабочий стол: пять квадратных метров редчайшей древесины Нурненского леса, отполированной до блеска и окрашенной в голубой цвет, испятнанной брызгами чернил и спонтанными стихотворными строками, стоящий на четырёх прочных точёных ножках прямо под большим окном из трёх частей. Из него открывается вид на мой великолепный, дикий сад, в котором замонийская мелкая флора ведёт драматические битвы за существование, что немало способствует оплодотворению моего воображения. В данный момент я могу разглядеть лишь то немногое, что освещается мерцанием отдельных светлячков, потому что ночь почти безлунная. Горящие свечи погружают мой кабинет в тёплый, слегка колеблющийся свет, мой любимый вид освещения, создаваемый семью сальными огарками в серебряном подсвечнике Гральзундской металлургической мануфактуры, который я приобрёл на барахолке у торгующегося Мидгардского гнома. На семи ветвях подсвечника на древнезамонийском языке выгравированы семь основных добродетелей поэта: 1. Страх Страх, помимо силы тяжести, является самой мощной силой во Вселенной. Сила тяжести приводит в движение мёртвый предмет, страх — живое существо. Только трусливый способен на великие дела, бесстрашный не знает побуждений и погрязает в праздности. 2. Мужество Это кажется противоречием первой основной добродетели, но нужно иметь мужество, чтобы преодолеть страх. Нужно иметь мужество, чтобы выстоять перед опасностями литературного предприятия, такими как: писательский блок, бесчувственные редакторы, не желающие платить издатели, злобные критики, низкие объёмы продаж, отсутствие наград и т. д. 3. Воображение Существует достаточно замонийских писателей, которые прекрасно обходятся без этой добродетели, их можно узнать по тому, что их произведения в основном вращаются вокруг них самих или повествуют о текущих событиях. Эти писатели не пишут, они только записывают, скучные стенографисты самих себя и обыденности. 4. Орм Вообще-то это не настоящая добродетель, скорее таинственная сила, которая окружает каждого хорошего писателя, как аура. Никто не может её видеть, но поэт может её чувствовать. Орм — это сила, которая заставляет тебя писать всю ночь, как в лихорадке, оттачивать одно-единственное предложение целыми днями, пережить редактуру трёхтысячестраничного романа живым. Орм — это невидимые демоны, которые танцуют вокруг пишущего и приковывают его к работе. Орм — это экстаз и жар. (Безормных поэтов см. п. 3.) 5. Отчаяние Перегной, торф, компост литературы — это отчаяние. Сомнения в работе, в коллегах, в собственном разуме, в мире, в литературном бизнесе, во всём. Я взял за правило отчаиваться хоть в чём-нибудь не менее пяти минут в день, будь то даже кулинарные способности моей экономки. Сопутствующие причитания, заламывания рук и приливы крови, кстати, обеспечивают необходимую физическую активность, которой в писательской жизни хронически не хватает. 6. Лживость Да, давайте посмотрим правде в глаза: вся хорошая литература лжёт. Или, точнее: хорошая литература лжёт хорошо, плохая литература лжёт плохо — но неправду говорят обе. Уже само намерение выразить правду словами есть ложь. 7. Беззаконие Да, поэт не подчиняется никаким законам, даже законам природы. Его письмо должно быть свободным от всех оков, чтобы его поэзия могла летать. Общественные законы также презираются, особенно законы приличия и морали. И моральным законам поэт тоже не должен подчиняться, чтобы бессовестно грабить произведения своих предшественников — все мы падальщики. Боже мой, я отвлёкся! Но ничего страшного, в конце концов, это же мифорезовское отступление. Итак, продолжим описание моего рабочего места: слева и справа от письменного стола и окна стоят у побелённых стен два скромных чёрных деревянных книжных шкафа, которым тяжело нести первые издания моих собственных произведений. Во время работы мне нравится скользить взглядом по корешкам книг, уже одно их внушительное количество доказывает мне, что Орм всегда был со мной. Напротив меня, выстроившись вдоль длинного подоконника, стоит моя справочная библиотека. Поскольку я чувствителен к сквознякам и никогда не открываю окна (малейший порыв воздуха может вызвать отёк моих миндалин), я могу использовать подоконник как книжную полку. Таким образом, мои любимые словари и другие справочники всегда находятся на расстоянии вытянутой руки: прежде всего, конечно, «Замонийский словарь от А до Я», Гральзундское университетское издание в самой последней версии. Я никогда им не пользуюсь, потому что он слишком тяжёл для подъёма, но для писателя приятно осознавать, что его родной язык полностью собран и упорядочен между двумя обложками. Иногда я отчаиваюсь в замонийском, и тогда одного взгляда на словарь достаточно, чтобы успокоиться: что может группа чокнутых лингвистов втиснуть в корсет словаря, то уж я-то смогу подчинить себе! Некоторые книги действуют уже самим своим присутствием. Прямо рядом с ним — «Регистр замонийских имён». Два признания: да, я иногда заимствую из него имена для своих персонажей, и да, я украл его из публичной библиотеки, потому что его нет в продаже в книжных магазинах. Когда сам придумываешь имена, то склоняешься либо к излишествам, либо к банальности, и не стоит тягаться с коллективным творческим потенциалом всех поколений целого континента: Фотон фон Тортенгец, Энк Орр, Ёлеменн Цок, Ченкченк Хюнер, Пантиффель Волиандер, Юлег Пло, Оперт Унтермтиш, Блахак Блаха — я цитирую наугад из этого незаменимого справочника. Неоценимое значение имеет и «Книга внутренних состояний» доктора медицины Заламандра Регеншайна. Одного движения достаточно, и я могу сэкономить себе поход к врачу. Он ведь всё равно будет утверждать, что я совершенно здоров. Он также не особо верит в мою теорию гипотетической инфекции, которая гласит, что любую болезнь, которую можно себе вообразить, можно и подхватить. Он считает меня практикующим ипохондриком. По крайней мере, он признаёт, что я особенно одарённый ипохондрик. Я могу вообразить себе болезни, которых ещё даже не существует. Однажды я написал роман («Фантомная лихорадка»), в котором все главные герои умирают от воображаемых болезней. Вы когда-нибудь страдали от ревматизма мозга? Это такая тянущая боль между висками, как будто ваш мозг растягивают в ширину и одновременно скручивают — ужасно, скажу я вам. Или вам знакомо круговое бурление в желудке? Это как если бы маленькое животное с очень большим количеством ног бегало по стенкам желудка, всё время по кругу, часами. Миндальное удушье? Оно всегда возникает у меня, когда я исследую свой зев языком на предмет воспалений. Вам знакомы изжога? Насморк? Печёночная дрожь? Иногда мои мочки ушей горят как в огне, и мой язык приобретает вкус уксуса. Тогда я хватаюсь за «Книгу внутренних состояний» и выдумываю болезни такой изощрённости, что ни один врач не смог бы их диагностировать. Далее: «Большой Омпель» — незаменимый замонийский картографический труд Гехо ван Омпеля. Общие обзоры, большие карты, подробные карты, разрезы гор, карты предупреждения о демонах, пешеходные маршруты, подземные озёра, миникартография: в этой монументальной макулатуре Замония измерена до последнего квадратного миллиметра. Пятьсот картографов всех возможных масштабов, от горного великана до дюймового гнома, внесли в неё свой вклад. Великаны занимались большими обзорными картами, гномы — миникартографией, остальные — всем прочим. Ни один континент не был измерен лучше, чем Замония. Карты этого труда настолько детальны и любовно оформлены, что мне достаточно провести по ним пальцем, чтобы натереть мозоли на ногах, а затем погрузиться в тяжёлый сон, как будто я прошёл много миль пешком. Далее идёт одно из печатных изданий «Лексикона нуждающихся в пояснении чудес, форм существования и феноменов Замонии и окрестностей» профессора доктора Абдула Соловейчика. Должен признаться, что я отношусь к этому труду весьма неоднозначно. Позитивистское мировоззрение Соловейчика находится в прямом противоречии с моим поэтическим восприятием вещей, но это не повод для игнорирования. Заслуги Соловейчика неоспоримы, и чтение с образцовой надёжностью побуждает к противоречию — это сохраняет гибкость ума. Вы, конечно, удивитесь, что в моей справочной библиотеке нет словарей рифм или руководств по стилю, но я отвергаю такие костыли. Вместо этого я предпочитаю «Botanica Zamoniensis», отпечатанный вручную словарь растений Тулипа Кнофеля, великолепного ботаника и неутомимого странника, величайшего друга замонийской флоры. Настоящие растения, искусно сохранённые в 54 томах и переплетённые в высушенную и склеенную листву. Бесценно при описаниях природы. Рядом: «Собрание сочинений» Зольтеппа Заана, легендарного алхимика, философа и первооткрывателя замомина. Тяжёлое, неумолимое чтение, но незаменимое, когда поэт занимается глубокими, элементарными вопросами. Местами это почти нечитаемо, но если приручить архаичный, громоздкий древнезамонийский стиль Заана, он открывает глубочайшие прозрения. Нужен пример? Zu îsen du gewisen seyn: Beloren in dat smûzzeln. Ant fûrder henkt de pompenswîn: Bat firrlen in de pûzzeln.
Да, пожалуй, так оно и есть.
И наконец: «Кровавая Книга». Да, у меня есть один из редких экземпляров, переплетённых в кожу крыльев Летучей Крысы, мрачный и зловещий, этот монолитный печатный труд стоит на правом краю моего подоконника. Мне всегда приходится заставлять себя брать его в руки, и каждый раз я испытываю облегчение, когда могу поставить его обратно. Едва я его открываю, как уже чувствую, что за мной наблюдают. Но поэт время от времени должен заниматься и безднами бытия, и на пути в этот мрачный подвал мышления нет более глубокого проводника, чем это произведение, якобы напечатанное кровью демонов. Каждый раз мне приходится изо всех сил заставлять себя прочитать из него целое предложение, больше я не в силах. Каждое из этих предложений всегда было достаточно тёмным и загадочным, чтобы преследовать меня во сне и отравлять мои сновидения. Хотите провести эксперимент, готова ли моя читательская аудитория вынести одно, всего одно предложениеиз «Кровавой Книги»? Да будет так! Я беру в руки весомый труд… открываю случайное место… дрожащим пальцем слепо указываю на текст, напечатанный тёмно-красным цветом… и что же там написано: «Ведьмы всегда стоят между берёзами». Ведьмы всегда стоят между берёзами. Странно… что это мне напоминает? Не знаю. Знаю лишь, что смысл изречений из «Кровавой Книги» всегда открывался со временем, и каждый раз в тот момент, когда этого меньше всего ожидали… Гм! Хватит на сегодня. Живо обратно мрачную макулатуру! Перейдём к чему-нибудь более приятному, оставим подоконник и обратимся к моему письменному столу. На нём мы найдём: сто листов Гральзундской вержированной бумаги с шероховатой поверхностью. Далее, пять заточенных гусиных перьев и чернильницу с чернилами собственного производства, марки «Кровь динозавра». Зеркало для гримас, важное для отработки и описания выражений лица, часами я могу строить в него рожи. Оппенхаймерская таблица фаз луны, радужная таблица (для определения цвета), деревянный счётчик слогов, ручной встряхиватель букв из слоновой кости, промокашка, двое ножниц для бумаги, Гральзундский языковой метроном (для отсчёта такта при сочинении стихов), несколько камертонов (для настройки тона повествования), бутылка рыбьего жира (поставлена моей экономкой для укрепления здоровья, никогда не используется), мой миниатюрный театр. Ах, мой миниатюрный театр, один из моих любимых инструментов! Я заказал его изготовление в флоринтийской гномьей мастерской по собственным чертежам: уменьшенный в 2500 раз театр, с деревянной сценой, колосниками, опускающимися задниками и кулисами, искусственными деревьями, небесами, стенами, домами, мебелью, дворцами и так далее и тому подобное. Это чудо точной механики помогает мне при написании моих пьес, но и при написании романов оно приносит большую пользу. Я могу воссоздать в нём любую сцену, комнату с точно расставленной мебелью, участок леса, поле, пустыню, большой город, даже корабль в открытом море, потому что мой театр оснащён механически подвижными волнами. На тонких нитях я спускаю своих действующих лиц: йети, вольпертингеров, фернхахенов — почти каждая замонийская форма жизни представлена в моей коллекции маленьким картонным актёром. Таким образом, я могу репетировать сцены и оттачивать диалоги, произнося реплики разными голосами и дёргая за ниточки. С помощью маленького листа металла и кресала я могу изобразить грозу, с помощью спрятанных бенгальских огней и ладана — пожар на фабрике или извержение вулкана. Есть мехи для ветра и бурь, миниатюрная листва и крошечные искусственные снежинки, нитки, имитирующие дождь, рис вместо града, нарисованные торнадо, приливы и отливы и метеоритные дожди — я могу воссоздать любую природную катастрофу, какую только пожелаю. Многие писатели терпят неудачу в изображении таких масштабных событий, потому что не имеют о них визуального представления. Далее на столе: мой микроскоп, мой веер (для моих периодических приступов слабости), мои увеличительные и уменьшительные лупы, калейдоскоп (для развлечения), мой телескоп на штативе. О моих оптических приборах позже, а пока давайте заглянем под стол, потому что там находятся мои часто используемые ящики для вдохновения. Я не имею ни малейшего представления о том, откуда берутся мои идеи, но я знаю, что лучше всего их вызывать: с помощью ароматов. Другим нужен кофе или спиртные напитки, табачный дым или нюхательный порошок, мне достаточно запахов. С этой целью я установил под своим письменным столом старый аптекарский шкаф, в многочисленных ящиках которого находятся самые разнообразные источники запахов: один ящик наполнен палочками корицы (запах корицы вызывает у меня тягу к напряжённой и приключенческой литературе), другой — сушёным лавровым листом (пробуждает мою остроту ума), один — кориандром (хорош для глубокомысленных тем), один — мускатным орехом (восточные мотивы, сказки), один — морскими водорослями (естественно, морские ассоциации), один — зелёным чаем (заставляет меня внезапно рифмовать, не знаю почему), один — изюмом (способствует моему чувству авангардизма), один — серой (литература ужасов), один — сеном (пасторальная поэзия), один — пеплом (грустное, трагедия), один — листвой и лесной землёй (описания природы, в настоящее время выдвинут далеко) и ещё десятки других. Искусство заключается в создании правильной смеси, в открытии подходящих ящиков в нужное время и в нужной степени. Во время письма я постоянно вожусь с ящиками, как сумасшедший органист, который тянет регистры, потому что новая комбинация запахов может натолкнуть меня на сенсационную идею для рассказа. Но иногда я и перебарщиваю, неправильные запахи смешиваются, я пишу непригодную бессмыслицу, и всё пропадает. Тогда я иду в сад и вымещаю злость на овощах. Сейчас ночь, и я вижу только своё призрачное отражение в оконном стекле, но при дневном свете мне открывается колоссальная панорама. Я вижу не только свой маленький сад, но и значительную, прямо-таки образцовую часть мира. Мой дом стоит на возвышенности, я смотрю через садовую ограду вниз на очаровательную долину, по которой вьётся весёлый ручей. На его берегах стоит маленькая деревня, образцовая община с пятнадцатью крытыми тростником фахверковыми домами, за ними возвышаются виноградник и два лесистых холма, укрытые широким небом. Таким образом, я могу обозревать весь мир со своего письменного стола, я вижу природу и творения, деревья и кусты, дороги и дома, солнце, луну и судьбу. Если моего собственного зрения недостаточно, я использую свой телескоп, навожу его на интересующий меня в данный момент фрагмент, слежу за полётом птицы, наблюдаю за деревенскими мальчишками, ловящими рыбу, за крестьянином на винограднике или подглядываю в гостиную красивой булочницы. Ночью я наблюдаю за звёздами. Таким образом, в моём распоряжении находится почти каждый элемент замонийской природы, от звезды до пылинки. Если и этого мне недостаточно, я берусь за микроскоп и исследую микрокосмос. Могу вас заверить, мои микроскопические исследования совершенно ненаучны, да, они отрицают любое эмпирическое познание. Я исследую прекрасное и уродливое, снежный кристалл и глаз циклопа-паука, но не для того, чтобы найти в них какие-либо закономерности или законы природы, нет, меня интересует чистая форма, вдохновение через созерцание. Микроскопический мир содержит зрелища, которые скрыты от невооружённого глаза, как дикие, хаотичные структуры, так и оргии симметрии. Я написал стихи, основанные на структуре крыла стрекозы, на структуре поверхности волоска блохи, на событиях в одной из моих собственных слезинок. Знали ли вы, что на тысяче фасеток глаза подёнки запечатлены тысяча важнейших моментов её жизни? Я написал целый роман, анализируя глаз комнатной мухи, в тысяче маленьких главах: «Первый день — последний». К сожалению, это был довольно большой провал, люди не любят отождествлять себя с комнатными насекомыми. Если я хочу описать сцену битвы, мне достаточно поместить каплю собственной крови под окуляр: резня, которую устраивают в ней кровяные клетки, бактерии и антитела, превращает легендарную битву в Нурненском лесу в безобидную драку. Для изображения горной цепи мне достаточно крошки хлеба, если я хочу описать подводный мир, полный доисторических чудовищ, хватит пипетки воды. Моя коллекция микроскопических образцов больше, чем у университета Гральзунда, только не так систематизирована. Честно говоря, она вообще не упорядочена. Иногда я наугад беру препарат из своих ящиков и кладу его под микроскоп. Иногда из этого получается роман. Но чаще всего нет. На левой стене моего рабочего кабинета висит мой «Музей Осязаний», собственноручно сколоченный из наборных касс моей домашней типографии. Шестьсот шестьдесят шесть маленьких полочек, заполненных предметами с самой разнообразной поверхностью: камни, ракушки, песок, иглы, ржавые монеты, сушёный помёт чаек, листья, трава, стекло, куски руды, смола, дерево, волосы, пробка, шерсть тролля, осколки мрамора, крошечный метеорит, сушёные цветы, окаменевшая вошь-пилот, пуговицы, сушёные грибы, птичьи перья, ногти на ногах, зубы, когти, магнитный камень, крыло эльфийской осы, нога паука-многоножки, янтарь, сухой мох, туалетное мыло, разные бобы, осколок камня с Блоксберга, шлифованные стеклянные линзы, рог единорога, череп вороны, засохший огненный червь, шёлк, бархат, парча, обои, ковёр, обивочная ткань, лён, картон, кожа самого разного происхождения, кора друидовой берёзы, хвост саламандры, кристаллы Мрачной Горы, чешуя канального дракона, мумифицированный человечек бонсай, лист лесного волка… я мог бы продолжать бесконечно. В отличие от некоторых моих коллег, я считаю, что писатель должен не только проникать в суть вещей, но и точно описывать их поверхность. А это возможно только в том случае, если их внимательно ощупать. Что ещё? Большое зеркало для жестов, посреди комнаты. Глобус. Осколок из Крепости Линдвурм под стеклом на мраморном постаменте. Толстые ковры, которые заглушают любой шум. Несколько комнатных растений, преимущественно плотоядных, которые заботятся о немногих надоедливых комарах и мухах, заблудившихся в моей рабочей келье. Далее, большое кожаное кресло, для поздних ночных раздумий с обязательным бокалом красного вина в руке. Маленький столик с топографической моделью континента Ихолл, чья неизведанность уже давно будоражит моё любопытство. Забыл ли я что-нибудь? Конечно, мои читатели не обязаны знать обо мне всё. Боже мой — да меня действительно занесло! На чём мы, собственно, остановились? Ах да — Энсель и Крете. Итак, забудьте пока историю про Энселя и Крете. Позвольте мне лучше ещё кое-что сказать об общественной ситуации в Бауминге: я считаю, что там складывается всё более тоталитарная система. Вы заметили военные шлемы у Пожарной стражи? Чёткие распевы? Авторитарных учителей? Изоляцию от внешнего мира? Любовь к порядку, чистые улицы, униформу, духовую музыку? Всё это признаки политически сомнительных идей, робко прикрытых природоохранной демагогией. Для реакционной политики всегда было отличительной чертой выставлять своих представителей друзьями лесов и лугов. За такой истерически отполированной идиллией обычно скрывается ужас. Пожалуйста, в будущем немного подумайте об общественной ситуации, прежде чем снова позволите себе убаюкать себя далёкими от мира сего сказками. Конец первого мифорезовского отступления.
Крете плакала. — А если мы умрём от голода? — Не умрём. Мы в лесу, а не в море или в пустыне. Здесь повсюду растут ягоды и фрукты. — Но половина из них ядовитая. Так говорили в школе Цветных медведей. А ты знаешь, какие сорта ядовитые, а какие нет? Энсель, конечно, не знал. Когда на уроке ему сказали, что в Большом Лесу растёт примерно пятьсот ядовитых и пятьсот неядовитых сортов ягод, которые к тому же все как-то похожи друг на друга, он пропустил это мимо ушей. Такое всё равно никогда не запомнишь. Он запомнил только малину и решил держаться подальше от всех остальных ягод. Это казалось ему надёжной и удобной системой — до сих пор. Потому что на том месте, где они сейчас остановились передохнуть, росло с дюжину сортов ягод, но ни одной малины. А свои собственные припасы они почти полностью растеряли в лесу. Медленно стемнело. Энсель попытался определить, в какой стороне заходит солнце, но кроны деревьев в этой части леса были слишком густыми. — Мы заночуем здесь, — решил он. — Хватит реветь! Это нам не поможет. Завтра мы просто пойдём весь день в противоположном направлении. Тогда мы автоматически вернёмся туда, откуда пришли.
Крете задумалась, возможно ли, что растения днём спят, чтобы ночью проснуться для своей настоящей жизни. Деревья, поскрипывая, вытаскивали свои корни из земли и, шурша, бродили вокруг, меняясь местами с другими деревьями. Крапива и грибы-трубачи водили хороводы вокруг старых дубов. Лиственные призраки выли, проносясь по лесу. Во всяком случае, так всё это слышалось Энселю и Крете в темноте.
Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли
Это снова я, Мифорез. Вы, конечно, хотите знать, почему я пишу только «Бруммли», а не продолжаю повествование, верно? А я вам скажу почему: да потому что! Творческая свобода! Чистая случайность! Авангард! Может, я просто слишком далеко выдвинул ящик с изюмом, какое вам дело? Я могу написать сколько угодно этих «Бруммли», а вам придётся это читать, если хотите узнать, что будет дальше:
Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли
Итак, теперь вы, возможно, лучше понимаете, как функционирует тоталитарная система. Несмотря на то что большинство читателей желает следить за ходом истории, некая вышестоящая, нелегитимная в результате свободных выборов сила вмешивается и предписывает читать только «Бруммли».
Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли Бруммли
Столько о злоупотреблении властью. Конец текущему отступлению Мифореза.
Это была летучая крыса, запутавшаяся в её волосах, но у Крете было достаточно оснований полагать, что это острые пальцы ведьмы тянутся к ней из темноты. Энсель придерживался того же мнения, когда крылья кровопийцы коснулись его. Летучая крыса, в свою очередь, решила, что попала в сеть древесного паука-крысолова, и яростно дёргалась и царапалась, чтобы освободиться — обычное недоразумение в темноте, которое привело всех участников в неуместную истерию. Крете визжала, Энсель визжал, и летучая крыса тоже визжала. Затем она внезапно выпуталась из волос и, пронзительно воя, улетела. Прошло немало времени, прежде чем брат и сестра снова успокоились, если быть точным, до следующего утра. Только когда первые лучи солнца согрели лес, они разжали объятия.
— Да, этот лес полон тайн, — прохрипел вдруг голос, принадлежавший не Крете. — Стоит немного копнуть, и на поверхность вылезают самые удивительные вещи. Энзель вздрогнул от неожиданности и огляделся. На одном из узловатых надземных корней соседнего гигантского вяза, закинув ногу на ногу и жуя травинку, сидел маленький гном. Энзель мог поклясться, что, когда они усаживались, на дереве никого не было. Его сестра тоже была удивлена. — Пожалуйста, не извиняйтесь за то, что не заметили меня, — сказал гном. — Мне не привыкать, что меня игнорируют. Уголки его рта дрогнули, как будто он вот-вот разрыдается. Затем он проворно спрыгнул с корня на свои короткие ноги. У него была зеленая, неровная кожа и мутные желтые глаза. Его маленькое, коренастое тело было облачено в одежду, сшитую, казалось, из мешка. Крете подозрительно оглядела фигуру. — Ты лесной гном? — Что? Лесной гном? — Гном обиженно нахмурился. Он хотел что-то ответить, запнулся и, казалось, задумался. Затем он показал на себя обоими указательными пальцами и широко улыбнулся. — Точно. Лесной гном. Это я. Друг дерева. Вы тоже друзья дерева? Тогда вы мои друзья. Кто друг дерева, тот и мой друг. — Он по-приятельски похлопал по корню вяза. — Мы из Фернхахингена. Меня зовут Энзель. Это моя сестра Крете. — Приятно познакомиться. Меня зовут, э-э... это, э-э, неважно. Рад с вами познакомиться. — Мы здесь на каникулах в Большом Лесу, — сказала Крете. — Интересно. Могу я спросить, что вы делаете в стороне от официальных туристических троп? Не бойтесь, я не из Лесной Стражи Баумингена. Я спрашиваю из простого любопытства. — Мы заблудились. — Вы заблудились? — Лицо гнома просветлело. — Это просто пре... э-э... это ужасно! — Гном печально скривил уголки рта, растопырил пальцы левой руки и приложил их к груди, словно его сердце внезапно отяжелело. Глаза его наполнились водой, и голос начал дрожать. — Бедные вы дети! Заблудились! Заблудились в Большом Лесу! У меня сердце разрывается. — Гном заковылял по листве, словно его ударили стрелой в спину. Он прислонился к большому корню. — Могу я вам помочь? Я люблю помогать. Прямо-таки из профессиональной страсти. Я Гном-Помощник. — Ну, мы, конечно, хотели бы знать, в каком направлении... — начал Энзель. — Только это? Правильное направление? Это все, что я могу для вас сделать? — Это было бы очень любезно с вашей стороны. — Ну, в каком направлении вы хотите? В том направлении, где я еще несколько минут назад слышал пение Цветных Медведей? Или в противоположном направлении, вглубь леса, где, по слухам, свирепствует злобная ведьма и где и по другим причинам не совсем безопасно? — Что за глупые вопросы? Конечно, в направлении медведей. Крете раздражало это театральное кривляние. Гном ей не нравился, и тон ее голоса не оставлял в этом никаких сомнений. Гном опустил голову и понизил голос. — Хорошо. Относись ко мне как к куску грязи. Меня это не задевает. Мне не привыкать. Я всего лишь гриб между твоими пальцами, принцесса. — Не будь таким грубияном, — прошипел Энзель. — Он ведь просто хочет нам помочь. Лесной гном мгновенно изменил свое поведение. Глаза его сузились в щелочки, по лицу расползлась широкая ухмылка. Он заговорил теперь очень тихо, почти заговорщически: — Конечно, я могу вам помочь. Без проблем. Чего только не сделаешь для своих друзей? Вопрос лишь в том: что мои новоиспеченные друзья могут сделать для меня? Вы ведь знаете: рука руку моет. — Он потер ладони друг о друга. — Вот видишь, — сказала Крете. — Он хочет нас обобрать. — Какое некрасивое слово из уст принцессы, — воскликнул гном. — Я предлагаю честную сделку, а меня сразу обвиняют в грабеже. Ну, тогда и не надо. — Он скрестил руки на груди и принял оскорбленный вид. — Так мы никуда не продвинемся, — сказал Энзель. — Просто скажи нам, что ты хочешь. — А что вы можете предложить? — У нас еще пять малинок. — Это наши последние припасы! — воскликнула Крете. — Зачем нам припасы, если мы скоро будем дома? — Договорились, — сказал гном. — Я возьму малину. Он схватил ягоды, медленно вытянул руку и указал указательным пальцем на запад. — Туда. Там пели Цветные Медведи. Громко и фальшиво. — Большое спасибо! — сказал Энзель. — Пожалуйста! Могу я еще что-нибудь для вас сделать? — Нет, спасибо! — сказала Крете и потащила Энзеля за руку в указанном направлении. Гном остался на поляне. Он подождал, пока оба не скрылись в лесу. — Малина, — сказал он потом. — Ненавижу малину. Кхе-хе-хе! Он с отвращением бросил лесные ягоды за спину и исчез в подлеске в противоположном направлении. На восток, откуда он действительно слышал пение медведей.
Братья и сестра шли весь день, без долгих перерывов и не обнаружив ни единого признака того, что они приближаются к Баумингенской общине с ее туристическими тропами. Энзелю уже казалось, что он узнает некоторые места в лесу. Он запомнил несколько приметных дубов и теперь был почти уверен, что только что миновал один из них. Он не сказал Крете, что, по его мнению, они ходят кругами. Затем они вышли на поляну, и Крете тоже сразу узнала поваленное дерево. — Отлично! — быстро сказал Энзель, чтобы не дать волю нытью. — Теперь у нас есть решение! Мы только что шли в этом направлении — оно явно было неправильным. На этот раз мы пойдем в противоположном — и вернемся домой. Логика Энзеля не слишком убеждала Крете, но она не стала возражать, потому что сама пыталась подавить страх. Солнце снова садилось, дневной свет медленно исчезал в постоянно расширяющихся тенях деревьев. Если они не хотели провести еще одну ночь в темном лесу, нужно было что-то предпринять. Они быстро зашагали дальше, и через несколько километров Крете решила выбросить туфли, потому что волдыри на ее ногах становились все больше. Лесная почва была мягкой и теплой, босиком идти было гораздо приятнее. Тем не менее Крете внимательно смотрела под ноги, чтобы снова не наступить на скунса{5} или что-нибудь столь же неприятное. Черные, остроконечные грибы, которых Крете раньше никогда не видела, росли в этой части леса, и количество мха было поразительно велико. Вдруг Энзель остановился. — Тихо! — прошептал он. Крете испугалась. — Ведьма? — Тсс! Энзель услышал голоса. Он услышал пение. — Слышишь? — спросил он Крете. — Да. Кто-то поет. — Хм. — Это ведьма? — Нет. Ведьмы не поют. — Откуда ты это знаешь? Энзель напряженно прислушивался. Теплый ветерок пронесся по лесу, и вдруг он смог расслышать, что там поют, по крайней мере, отдельные слова:
"Треск [неразборчиво] не нравится, Ведь где [неразборчиво] огонь, [неразборчиво] нас равнодушными, [неразборчиво] горит лес. Да, [неразборчиво] это мы, Только для [неразборчиво] здесь, Огонь [неразборчиво] пивом..."
Это было явно пение Цветных Медведей! Энзель и Крете должны были снова находиться недалеко от опушки леса, или отряд пожарных стражей отправился на их поиски вглубь. — Помогите! — крикнула Крете. — Мы здесь! — закричал Энзель. Они побежали в направлении пения. Перепрыгнув через корни могучего дуба (который Энзель, несмотря на свое волнение, узнал как тот, на который он безуспешно пытался взобраться), они смогли различить на некотором расстоянии несколько разноцветных пятен, двигавшихся зигзагообразно — марширующих Цветных Медведей на патруле. Пение теперь было слышно громко и отчетливо:
"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."
Можно ли мне здесь немного высказаться о лирическом качестве Баумингенских песен? «И треск не оставляет нас равнодушными» — так обычно выражаются только слабоумные Йети, у которых непреодолимые проблемы с Замонийской грамматикой. «Только для тушения мы здесь, огонь — водой, жажду — пивом» — это, надеюсь, не только у профессионального словотворца вызывает сомнения в культурном развитии нашего континента. Здесь варварство, загнанное в рамки рифмы, торжествует над всяким лирическим чутьем, здесь тупая популярность братается с лепетом. Этот добродушный юмор, эта предписанная веселость в сочетании с воинственным пением — меня как художника это задевает. По-моему, это гораздо более угрожающе, чем, скажем, народные россказни о ведьмах. Вот что для меня настоящие угрозы: небрежная грамматика, скрипучие рифмы, плохой стиль в сочетании с лишь плохо завуалированными политическими целями. У меня появилось нестерпимое желание снова написать несколько страниц «Бруммли».
— Помогите! — снова закричала Крете. Энзель схватил ее за руку, и они вместе побежали в направлении марширующих Цветных Медведей. Лес стал редеть, и на небольшом расстоянии оба заметили один из дощатых настилов. Они бежали так быстро, как позволяли их короткие ножки. Медведи были всего в нескольких сотнях метров, теперь Крете уже могла различить колпаки, которые явно отличали их как пожарных стражей. Цветные Медведи быстро маршировали и скрылись за холмом. — Быстрее! — крикнула Крете и потащила своего неспортивного брата за собой. Они собирались пробежать между двумя тонкими соснами, когда перед ними начала вздыматься лесная почва. Листья и ветки образовали небольшой холмик, который продолжал расти, словно из земли поднимался муравейник. Энзель и Крете застыли. Холмик продолжал выгибаться и принимать очертания тела. Из кучи листвы высвободились руки и ноги, из массы выросла голова, открылись зеленые хищные глаза. Перед Энзелем и Крете стояло трехметровое существо, поверхность которого, казалось, состояла из увядших листьев и имело форму волка. В центре головы листья разошлись, и открылась внушительная пасть. Зубы в ней были из дерева, а из пасти свисал длинный зеленый лист-язык, с которого на лесную почву капала густая смола. Пасть открылась настолько широко, что можно было заглянуть в темную глотку, из нее донесся звук, который звучал довольно расслабленно. Это был прямоходящий Лиственный Волк{6}, и он, казалось, зевал.
Однажды я видел Лиственного Волка в Зоологическом институте для общественно опасных форм жизни Атлантиды. Это был очень старый, уставший экземпляр, но, тем не менее, я помню то уважение и инстинктивный страх, которые охватили меня, когда животное вдруг поднялось на две ноги и направилось к поилке. Он был не менее трех метров ростом, от него исходил дикий, неприятный запах, смесь запаха хищной кошки и гниющей листвы. Я — прямоходящий динозавр и ношу в себе задатки одного из самых опасных хищников нашего континента — и все же я был глубоко впечатлен. Спонтанно я написал стихотворение:
Стареющему Лиственному Волку
Листья твои совсем увяли, И взгляд блуждает без огня, И бедра жиром обрастают, Но все равно страшишь меня.
Зубов твоих клыки притуплены, И лапы дрожьюохвачены, И пасть зевает непрестанно, Но все равно ты заключен.
Ведь чудится мне мощь лесная, И хищность взора я ловлю, Что в глубине тебя пылает, И потому я отступлю.
Лиственный Волк еще не совсем пришел в себя. Он находился в фазе глубокого сна, когда топот Энзеля и Крете разбудил его. Лиственным Волкам всегда снятся сны об увядании, поэтому все их сны — кошмары, каждый сон полон мучений и предчувствия смерти. Тем сладостнее для них пробуждение, тем радостнее встречают они свет нового дня. Лиственный Волк шатался, словно пьяный. Что за идиотский сон ему приснился? Он — увядать! Смешно. Как мощно пульсировал в нем хлорофилл! Но что это за ужасное пение раздавалось ранним утром?
"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."
Волк протер глаза и мобилизовал свои хищные чувства. Откуда взялось это пение? Перед ним стояли двое парализованных от страха детей-гномов, которым явно было не до пения. Его пробковый нос дернулся и наполнился смолой, его листья-уши насторожились, он почуял и прислушался к лесу: шесть Цветных Медведей, поющих, удаляющихся в северном направлении. Гм. Шесть упитанных Цветных Медведей или двое тощих детей-гномов. Ему нужно было решить, что он предпочитает на завтрак. Волк злобно зарычал: Вечно эти решения! С Цветными Медведями он обычно справлялся, но шесть сразу — это могла быть утомительная битва с неопределенным исходом. К тому же он только что проснулся — на завтрак он предпочитал легкоусвояемую, нежирную пищу. Медведи, вероятно, тяжело лежали бы у него в желудке целыми днями, а кошмаров ему и так хватало, короче говоря: Лиственный Волк решил выбрать двух неаппетитных гномов.
Пение Цветных Медведей удалялось, крики Энзеля и Крете затерялись в музыкальном рвении лесных стражей. Помощи оттуда им ждать не приходилось. Об Лиственных Волках Энзель уже слышал или, точнее, читал в своих романах о Принце Хладнокровном. Они таились в больших лесах, вернее, в основном находились в глубоком сне, пока кто-нибудь не совершал ошибку, не вторгался в их владения и не будил их. Затем они разрывали и пожирали своих жертв — если, конечно, это случайно не оказывался Принц Хладнокровный, который, разумеется, давал им ужасный урок замонийского фехтования, в то время как его верный спутник и оруженосец, горбатый, трусливый и немного глуповатый гном по имени Рункельштиль, спасался бегством на дуб и подбадривал своего господина. Лиственный Волк тяжело размял конечности. — Дуб! — крикнул Энзель и хлопнул себя плоской ладонью по лбу. Он схватил Крете за запястье и потащил ее за собой. Если бы они успели добраться до дуба и взобраться на него, прежде чем Волк очнется от своего оцепенения, они были бы спасены. Волки не лазают по деревьям. Лиственный Волк озадаченно посмотрел им вслед, еще раз от души зевнул и затем тяжело поплелся следом. Энзель и Крете помчались через лес. Ветер еще раз донес до них издалека песню Цветных Медведей.
"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."
Крете первой добралась до дуба. Энзель с изумлением наблюдал, как она взбирается по гладкой коре, проворная и уверенная, словно белка, инстинктивно используя каждый крошечный выступ, каждую развилку своими пальцами и ногами. В мгновение ока она уселась на ветке в трех метрах над землей. — Давай! — крикнула она Энзелю. — Это очень просто. Энзель попытался вцепиться пальцами в кору. Два ногтя тут же сломались, третий так неприятно вывернулся назад, что он тут же прекратил попытки. — У меня не получится! — правильно оценил он ситуацию. Он в отчаянии посмотрел на Крете. Его сестра уже забралась на ветку повыше и возилась с лианой. Лиственный Волк вылез на вершину лесного холма, идущего вразвалку, по-другому его способ передвижения было не описать. Он почесал затылок и все еще зевал. Энзель был парализован одним видом Волка, его ноги стали ватными и еще менее пригодными для лазания. Крете была в безопасности. Может быть, ему просто бежать дальше? Растение-лиана обвилась вокруг головы и шеи Энзеля. Он посмотрел вверх и увидел, как Крете привязала лиану к толстой ветке. — Держись за нее и перебирай ногами по стволу. Это проще, чем лазать. Энзель схватился за вьющееся растение и потянул его на себя. Затем он ухватился за него обеими руками, поднял ноги и крепко прижался ступнями к дереву. Лиственный Волк издалека с удивлением наблюдал за этим зрелищем. Что это за неаппетитные гномы вытворяют на его любимом дереве? Пока Энзель подтягивался на руках по лиане, он перебирал ножками по дубу, как древесный жук. Крете помогала ему, подтягивая лиану сверху. В мгновение ока Энзель уселся рядом с ней на ветке, совершенно недоступной для волков. Его паника сменилась триумфом, он обнял Крете, глубоко вздохнул и издал крик облегчения. Примерно в пятидесяти метрах от них подкрадывался Лиственный Волк, он все еще выглядел усталым, а теперь даже почти жалким. Может быть, подумал Энзель, они могли бы немного подразнить его и побросать в него желудями. Тогда он рано или поздно уберется восвояси. Позади них находилось большое дупло, о содержимом которого Энзель уже давно строил догадки. Может быть, они могли бы заползти туда и переждать, пока Волк не уйдет. Энзель подполз по широкой ветке к отверстию и заглянул внутрь. Дуб казался совершенно полым внутри, но был заполнен всевозможными предметами. С одной стороны, совершенно бесполезный хлам, с другой — очень ценные вещи: золотые цепи, серебряные доспехи, жемчужные ожерелья, шлемы из мидгардской стали, мешки, полные монет. А между всем этим лежали бесчисленные кости и черепа. У Энзеля от увиденного закружилась голова. Ноги его подкосились, и он полетел вниз головой в дупло дерева.
"Треск нам не нравится, Ведь где трещит, часто дымит огонь, И треск не оставляет нас равнодушными, Ведь где трещит, горит лес. Да, пожарные стражи, это мы, Только для тушения мы здесь, Огонь — водой, жажду — пивом..."
В последний раз донесся до них песенный хор медведей, Крете едва могла его разобрать. Лиственный Волк уже подошел к дубу и с любопытством смотрел вверх. Крете внимательно следила за ним. — Волк стоит сейчас у дерева, — крикнула она брату. Энзель поднялся среди сокровищ и сверкающих костей. Череп медведя лежал перед ним на ложе из золотых монет и таращился на него пустыми глазницами. Из левого глаза выползла уховертка и неприятно защелкала клешнями.
— Два! — сосчитала Крете. Они во второй раз потерлись носами. Лиственный Волк схватился за большую ветку, на которой сидели оба. Он мощно подтянулся. — Три! — прошептала Крете и задумалась, не остановиться ли на этом и просто спрыгнуть. Но в фернхахской школе ей так сильно вбили в голову замонийскую исконную математику, что она не могла пересилить себя и остановиться на нечетном числе, пропустив Четыре. — Четыре! — собралась было выкрикнуть она и наклонилась для последнего трения носами, но тут Волк уже оказался над ними и схватил их обоих за горло. — Ургх! — издал Энзель. — Аргх! — издала Крете.
Неужели это не должно заставить нас задуматься о замонийской системе образования? Неужели это не должно заставить нас задуматься о том, что мы внушаем нашим детям в государственных учебных заведениях? Я тоже в начальной школе должен был зубрить замонийскую исконную математику, и этот бесполезный балласт я тащу с собой по сей день. Я невольно начинаю заикаться, когда хочу произнести числа Пять, Шесть или Семь, не говоря уже о куче других чисел. Кто-нибудь еще помнит замонийский скелетный алфавит? Поскольку тогдашний министр образования Ша Коккен был страстным рыболовом, он заменил замонийские буквы скелетами промысловых рыб, и тем, кому в то время не повезло быть обязанным посещать школу в Замонии, пришлось заучивать силуэты рыбьих скелетов. Даже сегодня я могу отличить позвоночник окуня (F) от позвоночника ручьевой форели (K) — и что мне с этого, кроме того, что важное пространство моего мозга занято этой ерундой? Лишь слабое утешение, что Ша Коккен был проглочен тираннокитом во время ныряния нагишом на Замонийской Ривьере. Во всяком случае, я еще помню, что заикание было обязательным предметом в замонийских гимназиях, потому что в то время в атлантическом парламенте заседала партия косноязычных наттифтов. Поскольку на то, чтобы что-то сказать, уходило гораздо больше времени, мучительные уроки длились вдвое дольше, чем обычно. Три года замонийские уроки физкультуры заменялись многочасовым холодным душем — из-за опечатки министерства культуры. И так далее, и тому подобное, история замонийской образовательной политики полна таких причудливых ошибок за счет нашей молодежи. Даже сегодня филофизика Соловейчика преподается как обязательный предмет во всех замонийских университетах — интеллектуальная дисциплина, которую не может понять ни одно живое существо с менее чем семью мозгами. К чему я клоню: я считаю, что определенные учебные материалы могут нанести детям длительную психологическую травму. Пример Крете: в опасной для жизни ситуации она не способна отказаться от оторванной от жизни арифметики, хотя и подозревает, что это только усугубит ее положение. Почему бы нам просто не позволить нашим детям учить то, что они хотят учить? Если они хотят изучать замонийскую исконную математику, они, возможно, станут замонийскими исконными математиками. Если они хотят научиться готовить, они станут поварами. Если они хотят научиться писать, в лучшем случае они станут писателями, а в худшем — авторами писем с угрозами. Если они вообще ничего не хотят учить, они просто останутся тупицами или станут литературными критиками.
Лиственный Волк крепко сжимал горла Энзеля и Крете, но не перекрывал им дыхание. Оба не осмеливались пошевелиться ни на миллиметр. Волк смотрел на них странно мутными и в то же время неподвижными глазами. Такого печального, безнадежного взгляда никто из братьев и сестер еще никогда не видел, он внушал им больше страха, чем острые когти на их шеях и деревянные клыки, с которых капала смола.
Прошу прощения — но слово «литературный критик» разбередило мои старые раны, я никак не могу продолжить повествование, не высказавшись на эту тему. Знаете, что критики могут мне сделать? Да пойти они могут в баню{7}! Да-да! Прошу прощения за мои резкие слова, но когда я думаю о литературных критиках, во мне просыпаются мои старые инстинкты ящера. Какая квалификация нужна, чтобы иметь право критиковать мою работу? Нужно прочитать мою книгу, вот и все — а большинство из них даже этого толком не сделали. Представьте себе соотношение сил между литератором и литературным критиком: я работаю над книгой год-два, критик бегло прочитывает ее за час-два, при этом пропуская лучшие места, чтобы лучше запомнить худшие. И после этого он считает себя вправе подвергнуть мою книгу публичной критике в «Гральсундском курьере культуры», разнести ее в пух и прах, отговорить людей от покупки и разрушить два года моей жизни. Мой пекарь печет вкусные булочки. Чаще всего они восхитительны, но иногда он кладет слишком много муки или слишком мало сахара, и они становятся клеклыми или невкусными. Разве я пойду после этого и опубликую в «Гральсундском курьере культуры» разгромную рецензию на его булочки, чтобы довести его пекарню до грани разорения? Нет, я думаю, что у него был плохой день, может быть, его дети больны, или он переутомился от выпечки. Я вспоминаю все те вкусные булочки, которыми он меня уже порадовал, я думаю о его тяжелой ночной работе у печи и на следующий день снова иду в его пекарню, чтобы дать ему новый шанс. Не то что критики. Это в основном неудавшиеся писатели, у которых в ящике стола лежит провалившийся роман или стопка отвергнутых стихов, и они хотят отомстить за это своим успешным коллегам. Озлобленные, сварливые субъекты, которые не могут насладиться едой, потому что постоянно ищут в тарелке волос. Слизееды, воняющие секретом скунса, обитатели канализации. Да, Лаптантидель Латуда{8} — это я о тебе! (Если вы не высокомерный критик Лаптантидель Латуда, пожалуйста, пропустите следующие 50 строк, потому что они вас не касаются. Это личное. Большое спасибо.) Я ведь знаю, Латуда, что ты здесь ошиваешься, что ты дочитал до этого места, чтобы выискать какие-нибудь стилистические недостатки, чтобы пригвоздить меня к позорному столбу замонийской литературной критики. Но я также знаю, что ты до сих пор ничего не нашел, безупречно и неприступно стоит моя проза перед твоим изумленным взором, как мерцающие доспехи, покрытые искусной чеканкой, многослойно покрытые золотом и серебром и отполированные ангелами. Я понимаю твое задыхающееся изумление, это тупость жалкого и отчаявшегося существа, которое живет в мире страданий и ненависти и впервые в жизни видит что-то совершенное. Я отдаю себе отчет в том, Латуда, что ты попытаешься облить это совершенство грязью, но на этот раз я готов и сам наношу первый удар. Этого ты не ожидал, да, ты, высасывающая слоги пиявка? Мифорезовское отступление — это художественный прием, которого ты не ожидал даже в своих худших кошмарах (которые, вероятно, заполнены моими литературными премиями). Отныне я могу в любой момент лично на тебя наброситься, ты больше никогда не сможешь прочитать мою книгу без постоянного страха, что на следующей странице я наброшусь на тебя, как ангел мщения. И поверь мне, я буду делать это с той же несоразмерностью и произволом, с которыми ты в своих разгромных рецензиях набрасывался на мои беззащитные произведения. Берегитесь, литературные паразиты: отныне мы вооружены и опасны. С помощью мифорезовского отступления я даю писателям Замонии выкованную из слов сталь, с помощью которой они наконец-то смогут защитить себя от таких графоманов, как ты, Латуда! Я вижу, как ты извиваешься от этой книги, как червь, в пыли своей жалкой критиканской конуры, где известка сыплется со стен, как в твоем сморщенном мозгу. Я ведь точно знаю, это ты стоишь за тем, что мне не присудили Золотой Гутценхаймерский молот рифмоплетов! Я знаю, что ты был в жюри, даже несмотря на то, что приклеил себе фальшивые бакенбарды, бездарный завистник! Продажи моего романа «Монокль Циклопа» полностью остановились после твоей продиктованной недоброжелательством разгромной рецензии в «Гральсундском курьере культуры», паразитический пещерный тритон! Но теперь ты наконец-то знаешь, каково это — быть публично облитым грязью. Как тебе, например, если я расскажу здесь, что твой отец был кровожадным точильщиком ножниц, который кормил свою семью из мусорного бака? Что ты провалил атлантический выпускной экзамен из-за «Неисправимо» по замонийскому? Что твои соседи видели, как ты посреди ночи блевал в свой почтовый ящик, распевая замонийский национальный гимн? Но мы не будем переходить на личности. Нет, будем переходить на личности! Я плюну тебе в глотку, Латуда, я буду преследовать тебя своей ненавистью до самой могилы и танцевать на твоем гробу, я напишу о тебе некролог, который покроет твою семью позором на целые поколения, я буду преследовать тебя в самой глубокой критиканской преисподней, где тебя наверняка будут варить на медленном огне в твоей собственной желчи, пока… Ай! Ой! Черт! Вот до чего мы докатились: мой желчный пузырь. Ой! Это всегда одно и то же: когда я слышу слово «литературный критик», мои органы выходят из строя. Мой мозг вращается, а желчь пузырится. Ой! Ну ладно, продолжим текст, это успокаивает.
Через некоторое время — должно быть, прошли уже минуты — чудовище все еще не двигалось. Его глаза тоже были неподвижны, никаких подергиваний, никакого моргания, никакого движения зрачка. Только этот ужасающий взгляд в пустоту. Энзель впервые осмелился качнуть головой. Животное (Растение? Растение-животное?) не отреагировало. Крете подняла руку и коснулась лапы волка. Он не подал никаких признаков жизни. — Он уснул, — прошептал Энзель. — С открытыми глазами? — прошипела в ответ Крете. Энзель знал только, что у Лиственных Волков были очень необычные привычки сна — они впадали в летнюю спячку (из которой они его разбудили), они спали под землей, им снились исключительно кошмары — почему бы им не клевать носом с открытыми глазами? В замонийской природе было возможно многое, вообще все. — Может быть, мы сможем разжать его пальцы, не разбудив его? — спросила Крете. — А если он проснется? Крете задумалась. — Он все равно когда-нибудь проснется. Энзель глубоко вздохнул и коснулся лапы, лежавшей у него на шее. Он внимательно следил за выражением морды волка и медленно и осторожно попытался освободить хватку первого когтя. Взгляд Лиственного Волка оставался неподвижным и тупым. Коготь был жестким и холодным и оказывал некоторое сопротивление, но все же поддался. Контроль волчьих глаз: все неподвижно. Энзель отогнул второй коготь. Шевельнулось ли растение-чудовище? Нет. Да! Нет. Сердце Энзеля колотилось, как паровой насос. Третий коготь. Контроль: ничего. Четвертый. Энзель был свободен. Тем временем Крете тоже убрала лапу со своей шеи. Лиственный Волк оставался в своей стоической позе, взгляд застыл, как и все остальное тело, когти застыли в том положении, в которое их согнули дети: ужасающе, но безопасно, как жуткая фигура в музее восковых фигур. Энзель и Крете высвободились из-под чудовища и проползли между его ног, осторожно и бесшумно. Они приготовились к прыжку, Энзель бросил последний взгляд на волка. Он все еще был неподвижен. И в его спине торчали три длинные стрелы, все с зеленым оперением. — Ну, — раздался голос из леса, — он готов! Мертв. Можете немного пошуметь, он больше не проснется. Стрелы пропитаны контактным ядом, вызывающим мгновенное окоченение трупа. Энзель и Крете выглянули на поляну. Деревья. Листва. Кустарник. Никаких признаков жизни. — О, извините, — сказал голос, звучавший приглушенно и добродушно. — Маскировка. Если мы не двигаемся, нас не видно. Тут, казалось, зашевелился куст, листья затрепетали, как будто по ним пробежал ветер. Второй куст пришел в движение. Третий куст зашуршал, и из него вышли три медведя с шерстью разного оттенка зеленого (травянисто-зеленого, изумрудного и оливкового), замаскированные с головы до пят листвой. Они держали в руках большие длинные луки и несли колчаны, полные стрел с зеленым оперением, за спиной. Их было трудно отличить от окружавшего их леса.
— Ну, спускайтесь. Мы хорошие, — добродушно рассмеялся один из них. Энзель и Крете спустились вниз по лиане. Оливковый медведь, который, казалось, был за главного, подошел к ним, взял руку Крете и склонился для элегантного поцелуя руки. — Мадам? Разрешите представиться: меня зовут Хррхрмхррхрм! — Он аффектированно закашлялся, неразборчиво пробормотав свое имя в бороду. Два других медведя тоже искусственно закашлялись в кулаки. — Что, простите? — спросила Крете. — Хочу сказать: мое имя не имеет значения. Зовите меня просто Девятнадцать. Или Двенадцать. Мне все равно, как вы меня будете называть, только не моим настоящим именем. Или у вас проблемы с замонийской праматематикой? Тогда зовите меня Двойная Четверка. Или Двойная Двойная Четверка. Это не имеет значения. Это Два и Три. Их действительно еще воспитывали на замонийской праматематике, отсюда и незамысловатые секретные имена. Секретные имена? Энзель насторожился. Все, что содержало слово «секрет», его очень интересовало. Если бы его родители назвали все овощи, которые он не любил, «секретными овощами», он бы уплетал их с жадностью. Но взрослые не были такими проницательными. Медведь откашлялся и заговорил немного более официальным тоном. — Э-э, полагаю, вы двое - сбежавшие фернхахские дети? Энзель и Крете фон Хахен? Оба виновато кивнули. — Поздравляю. Вы — главная тема для обсуждения в Бауминге последние двадцать четыре часа. Энзель и Крете смущенно уставились на свои ботинки. — Ваши родители находятся под наблюдением врача. Ваша мать целый час страдала от гипервентиляции, когда узнала об исчезновении своих любимых детей. Фернхахские дети смущенно теребили пальцы. — Мэр Бауминга объявил чрезвычайное положение в стране, впервые с тех пор, как пятнадцать лет назад на нас обрушился большой фистербергский шторм. Вы знаете мэра Бауминга? Ну, вы с ним познакомитесь. Крете побледнела. У Энзеля на лбу выступил пот. — Ладно, мы здесь не для того, чтобы вас судить. Это дело мэра. — Медведь хотел было продолжить, но вдруг запнулся. — Есть только одна вещь… как бы это сказать?.. Таинственный медведь, казалось, смутился еще больше, чем Энзель и Крете. Его коллеги тоже издавали звуки смущения. Все трое шаркали лапами по листьям и опускали глаза, как влюбленные пестрые медведицы. — Ну, дело в том, что мы — Таинственные Лесничие. Это делает все дело несколько щекотливым. Два и Три утвердительно кивнули. Энзель насторожился. — Дело в том, что Таинственное Лесничество функционирует только до тех пор, пока оно таинственное. Иначе это будет уже не Таинственное Лесничество. А Общеизвестное Лесничество. Мы понятно выражаемся? Энзель и Крете сделали понимающие лица, но ничего не поняли. — Ну ладно, — вздохнул медведь. — Мне, наверное, придется объяснить подробнее… Энзель и Крете слушали. — Когда мы впервые заселили Большой Лес, это, конечно, облетело всю Замонию и, волей-неволей, оказало магнетическое воздействие на множество сомнительных личностей. Поэтому мы построили сторожки на подъездных путях, и благодаря этому отсеяли целую кучу Кровавых Окороков, Клыканов, Пещерных Троллей, Лиственных Волков и тому подобной нечисти. Но оставались еще территории между домиками, здесь мы могли патрулировать, но мы не могли и огородить весь лес. Было невозможно помешать той или иной нежелательной форме существования проникнуть в лес. Потом произошли неприятные вещи. Исчезли туристы. Даже несколько Цветных Медведей. Энзель и Крете переглянулись. В рекламных проспектах Бауминг всегда рекламировался как место, свободное от опасностей. Именно поэтому их родители из года в год проводили здесь свой отпуск. — Ну, нам удалось в значительной степени затушевать эти вещи… э-э, скрыть, чтобы избежать всеобщей паники. Хм-м… Медведь несколько раз откашлялся. — Чтобы разобраться в произошедшем, мы основали Таинственное Лесничество. У Пожарных Стражей, конечно, внушительное воздействие на туристов и небольшие пожары, но для профессиональных злодеев их недостаточно. Ведь их слышно за много километров с их Пожарной Песней, это все равно, что повесить им на шею колокольчики. Нужна была ударная группа тайно действующих Цветных Медведей, которые оперировали бы в тени леса. Таинственные Лесничие. Медведи между листьями. Нас не видят, нас не слышат, нас не знают — но мы всегда рядом. Два других медведя прыгнули в кусты, чтобы продемонстрировать свое искусство маскировки. Они растворились среди листьев до полной невидимости. Затем они снова появились и самоуверенно заворчали. Энзель был впечатлен. Это граничило с волшебством. — Принимаются только цветные медведи зеленого окраса, имеющие лицензию лучника, не состоящие в браке и умеющие хорошо прятаться. Энзель впервые в жизни пожелал быть зеленым. — Мы уже некоторое время следили за Лиственным Волком. Но я не думаю, что мы так быстро вышли бы на его след, если бы вы не выманили его из укрытия. Крете и Энзель распирало от гордости. — Ну, хорошо. Чтобы предотвратить дальнейшие беды в лесу, абсолютно необходимо, чтобы Таинственное Лесничество могло продолжать свою тайную деятельность. И поэтому я должен сейчас попросить вас о вашей тайной помощи. Энзель считал своим чертовым долгом оказать Таинственному Лесничему любую поддержку. Он и Крете серьезно и понимающе кивнули. — Что я, собственно, хочу сказать, дети: вы меня и моих коллег никогда не видели. Я не спасал вас от Лиственного Волка. Вы ничего не знаете о Таинственных Лесничих. Мы никогда не встречались. Нет никаких медведей между листьями. Ясно? Энзель и Крете подняли руки для клятвы. Энзель на мгновение задумался, не рассказать ли что-нибудь о сокровищах. Он решил приберечь это для встречи с родителями. Или для мэра. — Хорошо, — сказал Таинственный Лесничий. — Мы вернем вас к вашим родителям.
Ага — становится все интереснее и интереснее! Значит, Таинственные Лесничие были чем-то вроде политической полиции Цветного Медвежьего Леса. Они постоянно находились в укрытии, маскировались листьями и ветками и стреляли в спину замонийцам. Как бы я ни приветствовал спасение Энзеля и Крете, я далек от одобрения существования тайной полиции в Цветном Медвежьем Лесу. Теперь нельзя и шагу ступить в лесу, не чувствуя себя под наблюдением! Это куст, или тайный полицейский? Это дерево или приспешник лесничества? Получу ли я стрелу между глаз, если случайно сойду с тропинки или сорву охраняемый цветок? Буду ли я арестован, если наступлю на медведя, замаскированного под лесную подстилку? И наконец: что это за типы, чье существование заключается в том, чтобы красться по лесу или притворяться муравейником? Вы бы доверили такому парню лук и стрелы и лицензию на убийство? И если то, что они делают, якобы настолько морально безупречно, почему они так боязливо стремятся скрыть это завесой секретности? Просто несколько вопросов на полях.
Таинственные Лесничие проводили Энзеля и Крете до видимости пансиона «Эльфийский Покой». По пути им приходилось перепрыгивать от куста к кусту, от корня дерева к корню дерева, прятаться за крапивой и рыться в листве. Энзель еще никогда не передвигался более интересным способом. Они вышли на гребень холма и увидели дымящуюся трубу лесного отеля. Главный Таинственный Лесничий пожал руки обоим фернхахским детям. — Вот ваш пансион. Наша миссия завершена. И всегда помните: меня не существует. Два и Три никогда не существовали. Таинственные Лесничие — порождение больного воображения. Энзель и Крете отсалютовали. Таинственные Лесничие гуськом двинулись за тонкую березу — и исчезли. Они снова стали частью леса. — Вы Энзель и Крете? — спросил строгий голос. Брат и сестра обернулись и увидели отряд из шести Цветных Медведей. Четверо из них несли мертвого Лиственного Волка за руки и за ноги. Он все еще был таким же неподвижным, как жертва лавины, но стрелы исчезли. — Мы нашли это в лесу. Вы имеете к этому какое-нибудь отношение? Крете покачала головой, а Энзель кивнул. Лесные Стражи направились к пансиону, Энзель и Крете, как два пленника, шли между двумя медведями, возглавлявшими отряд. Цветные Медведи сделали окаменевшие, угрюмые лица. Возможно, во время поисковой операции им самим пришлось заночевать во внутреннем круге леса и перенести те или иные лишения. На террасе пансиона «Эльфийский Покой» стояли мать и отец фон Хахен и осматривали опушку леса в бинокли. Когда они издалека узнали своих детей, они подбежали к ним. Произошла слезливая встреча. Не было сказано ни одного плохого слова, потому что в фернхахских кругах нет ни упреков, ни наказаний, только привязанность и прощение. — Теперь мы должны отвести их к мэру, — сказал главарь Лесных Стражей и выхватил детей из объятий родителей. — Следуйте за мной, дети.
Энзель и Крете сидели в большом обшитом дубом вестибюле мэрии. Было темно, лишь немногие солнечные лучи проникали сквозь жалюзи в комнату, наполненную массивной мебелью и глубокими тенями. Конституция Бауминга висела в золотой раме на стене, между двумя большими каучуковыми деревьями с отполированными листьями, стоявшими в дубовых кадках. Часы тикали на каминной полке, пахло средствами для ухода за деревом и табачным дымом. На столе лежало развлекательное чтиво: выпуск «Баумингского Лесного Друга» (заголовок: «Дети туристов пропали!»), брошюра о выращивании деревьев бонсай и роман о принце Хладнокровном графа Кланту цу Кайномаца: «Лес с тысячью руками». Но Энзель и Крете были слишком взволнованы, чтобы читать. Брат и сестра каждые десять секунд переглядывались и терли влажные ладони. Они не решались разговаривать. Энзель пытался успокоить себя тем, что сможет разыграть козырную карту сокровищ. Вдруг в комнате что-то зашевелилось, словно воздух ожил. Зашуршали листья. Дверь в кабинет мэра открылась сама собой, и Крете показалось, что она видела, как в кабинет промелькнуло что-то вроде зеленой шерсти и сухих листьев, но дверь снова захлопнулась. Приглушенный шепот из кабинета. Зычный смех. — Медведи между листьями, — пробормотала Крете с восхищением. — Тайное совещание, — добавил Энзель. Другая дверь открылась, вошли медведи разного окраса и направились в кабинет мэра, серьезно оглядывая Энзеля и Крете. Хлопанье дверей, шум голосов. Топот ног. Снова хлопанье дверей. Тишина. Запах воска для мебели. Наконец, Энзеля и Крете позвали внутрь, глубоким, внушающим трепет голосом. Мэр был теперь один. Посетители, должно быть, исчезли через потайную дверь, как заметил Энзель, несмотря на свое волнение, потому что, кроме входной двери, не было никаких видимых проходов. У мэра была ржаво-красная шерсть, он сидел за своим дубовым столом и смотрел в пустоту. Позади него висели нарисованные изображения популярных лесных грибов, а в двух цветочных горшках перед ним росли два приметных остроконечных экземпляра того вида растений, которые Крете уже видела в лесу. Мэр выглядел так, словно обдумывает важное политическое решение. Затем вдруг, Крете это отчетливо видела, маленькая слезинка выкатилась из его левого глаза и затерялась в его шерсти. Он встал, глубоко вздохнул и подошел к Энзелю и Крете.
II. Большой Лес
Всего одно слово, зато какое длинное и уродливое: ЛесноеПаучьеВедьмино-зелье. Ну что? Никто не помнит? На уроках истории пропустили тему «Сожжение Лесной Паучьей Ведьмы»? Ладно, тогда небольшой урок замонийской истории: когда Цветные медведи заселили Большой Лес, в его глубине они обнаружили останки погибшей Лесной Паучьей Ведьмы. Такое никак не годилось для основания новой общины, и они решили сжечь кости чудовища. Это было связано с некоторыми неудобствами, в особенности с адским зловонием. При сжигании паучье зелье, находившееся ещё в теле, высвободилось в форме тёмного дыма, вызвавшего у Цветных медведей сильнейшие галлюцинации. Многие из них, надышавшись горьким дымом, потом целыми днями бродили по лесу, другие не могли перестать танцевать или кудахтать и нуждались в интенсивной душевной опеке. Однако тяжёлый дым снова осел и лёг в виде чёрной гари на окружавшие лес растения, которые продолжали неприятно вонять. Там, где жирная копоть непосредственно соприкасалась с лесной почвой, она впитывалась в землю и оставляла после себя серую, высохшую траву. Чтобы не ставить под угрозу запланированную индустрию иностранного туризма, дело было публично представлено как триумф над Лесной Паучьей Ведьмой. Но Цветные медведи – народ общительный, у них лёгкий язык, особенно когда они пропустят стаканчик-другой Парового пива, и со временем поползли слухи о том, что при сожжении Лесной Паучьей Ведьмы допустили оплошности. В связи с этим возникла замонийская поговорка: «Лесная Паучья Ведьма оставила свой колпак». Эту поговорку обычно используют, когда хотят указать на то, что что-то оставило плохой вкус или запах, что скверные обстоятельства трудно или вовсе невозможно изменить, или что-то подобное. Но что известно немногим: Лесная Паучья Ведьма действительно оставила свой колпак, и не только в переносном смысле. Когда Цветные медведи попытались сжечь похожий на колпак головной панцирь чудовища, они обнаружили, что это невозможно. Он дымил и вонял, обугливался по краям, но не горел. Они поливали его керосином, они соорудили над ним костёр из пропитанных смолой деревянных балок, они раздували огонь мехами, но колпак оказался несокрушимым. Кроме того, при нагревании он производил только новые ядовитые испарения и чёрную гарь, поэтому они решили его просто закопать. Они закопали его как можно глубже и с тех пор обходили место сожжения Лесной Паучьей Ведьмы стороной. Именно колпак в основном и заставил Цветных медведей с такой тревогой отгородить Бауминг от остального леса и создать свою параноидальную систему безопасности. Лишь время от времени туда отправлялись несколько особо отважных Лесных Стражей, чтобы проверить, всё ли под контролем. Через несколько сезонов рядом с местом, где был закопан колпак, начали расти маленькие чёрные грибы. Они выглядели аппетитно, испускали неприятный, одуряющий запах и имели шляпку, отдалённо напоминавшую шляпку Лесной Паучьей Ведьмы. Они обладали свойством быстро распространяться, поэтому Цветные медведи дали им название "Грибы-Ведьмины-Колпаки" и пытались уничтожить их везде, где только находили. (Лишь один достойный сожаления Цветной медведь с золотым мехом по имени Борис Борис однажды попытался съесть такой гриб. Он считал, что любой гриб можно обезвредить основательным отвариванием, и приготовил себе роскошное рагу из Грибов-Ведьминых-Колпаков. В результате он лишился рассудка, перестал контролировать свои руки и время от времени приставал к туристам. Какое-то время его терпели как деревенского дурачка, потом он однажды бесследно исчез. Цветные медведи предположили, что он теперь бродит где-то по Замонии, чему в Бауминге в связи с ростом туризма были не совсем и не рады.) Стражи Огня на самом деле были заняты главным образом тем, что выискивали и уничтожали Грибы-Ведьмины-Колпаки. Они собирали их в свои вёдра и выбрасывали в Медвежью бухту в море. Так со временем Лесная Паучья Ведьма, её колпак и грибы были забыты за пределами Бауминга. Ах да, кстати, между прочим: тот или иной мелочный критик вроде Лаптантиделя Латудаса (да отсохнет его пишущая рука!) возможно, упрекнёт меня в том, что в сцене с Лиственным Волком я время от времени занимаю его точку зрения, что, поскольку речь идёт о галлюцинации, действительно представляет собой художественный риск. На это я отвечу следующее: везде, где в моих произведениях появляется представитель редкого вида живых существ, будь то Мрачногорский Червь, Горная Шляпница или Лиственный Волк, я не могу не перевоплотиться в это существо. Назовите это даром, назовите это проклятием – у меня просто нет выбора. Я следую зову природы, не слышимому для обычных замонийских форм существования, ведь в конечном счёте я и сам принадлежу к вымирающему редкому виду живых существ, к прямоходящим, разумным динозаврам. Какими бы чуждыми и угрожающими ни казались мне некоторые редкие существа, нас всё же связывает фамильярное родство, которое обязывает меня как поэта выражать их чувства.
Считаю необходимым в этом месте немного просветить вас по теме ведьм. Что такое ведьма – если разобраться? В Замонии существует множество форм жизни, которые, по общему мнению, подпадают под общее понятие «ведьмы»: ореховые ведьмы, друидопугалки, альм-мумы, эфирные женщины, полевицы, домовые ведьмы, и это лишь малая часть – в основном безвредные, часто даже услужливые и в целом любимые существа. Их иногда эксцентричное поведение, пристрастие к причудливой одежде и шляпной моде, а также роковая склонность замонийского населения к обобщениям привели к тому, что все эти формы жизни, которые на самом деле кардинально отличаются друг от друга, были свалены в одну большую кучу с надписью: «Ведьмы». Или: «Осторожно, ведьмы!» Ну, друидопугалки, как говорят, могут предсказывать будущее. Что в этом зловещего, если, конечно, ваше будущее не заключается в том, что завтра вам на голову упадёт тачка, полная булыжников? Ореховые ведьмы варят кофе из лесных орехов, от которого на какое-то время деликатно теряешь вес. Что плохого в том, чтобы ненадолго зависнуть в полуметре над землёй, тем более что употребление орехового кофе, как доказано, не имеет никаких побочных эффектов, не считая случайных травм головы при проплывании через низкие проёмы. Альм-мумы: они живут в горных ущельях и говорят эхом. Их единственное преступление – повторять слова или части предложений несколько раз и всё тише и тише – разве это делает их общественно опасными ведьмами? Полевицы: они подстерегают летом в густых хлебных полях и питаются мелкими животными и детьми. Согласен, в случае с полевицами предупреждающая табличка «Осторожно, ведьмы!» вполне уместна. Но разве можно из-за этого огульно очернять целые группы замонийских форм жизни? Вопрос должен стоять так: как определить ведьму? Общепринятое определение – старое женское существо непривлекательной внешности с эксцентричным поведением и склонностью к болезненным привычкам – кажется недостаточным. Почему обязательно старое? Почему обязательно уродливое? Неужели привлекательная молодая ведьма немыслима? И почему обязательно женского пола? Может быть, у ведьмы вообще нет пола. Может быть, она даже не материальна. Просто состояние. Идея. Миф. Глупая детская страшилка. Что ж, посмотрим правде в глаза: я тоже ни малейшего понятия не имею, что такое ведьмы на самом деле. Но я вдруг слово в слово вспомнил, что мне говорила моя мать о ведьмах, когда я был маленьким мальчиком лет сорока пяти. Она сказала следующее: «Вот что я тебе скажу о ведьмах, мой мальчик: ведьмы всегда стоят между берёзами. Не спрашивай меня почему, но это так. Надеюсь, ты никогда не увидишь ведьму, потому что миг, когда видишь ведьму, – это миг смерти, так говорят. Ещё говорят, что они чёрные и высокие и носят остроконечные шляпы. И если тебе действительно когда-нибудь доведётся увидеть ведьму, где-нибудь в лесу, между берёзами – чего да не случится, – тогда помни: никогда не думай, что она далеко от тебя, – ведьмы всегда ближе, чем кажется». Моя мать рассказывала мне это в качестве колыбельной, и можете мне поверить, что следующая ночь для меня была чем угодно, но только не доброй. Что, кстати, натолкнуло меня в более поздние годы на мысль основательно пересмотреть этот литературный жанр и самому написать сборник коротких сказок на ночь, которые... но это уже другая история. Другая колыбельная, так сказать.
«Ведьмы всегда стоят между берёзами», – прошептал Энзель. Это была одна из тех мудростей, которые передаются детям от сверстников в детстве. Энзель получил эту информацию от своего приятеля Хенни фон Хекена, от которого также узнал, что маленькие фернхахи растут в тюльпанах. Он и сам не очень понимал, почему именно в этой ситуации он поделился этими знаниями с Крете, вероятно, он хотел сказать, что ведьмы не могут находиться в дуплах деревьев, если они постоянно должны стоять между берёзами.
Опять я. Хотел лишь вкратце заметить, что не я выдумываю эти лишённые фантазии имена фернхахов. Я-то могу придумать такие имена, что у вас волосы дыбом встанут, но фернхахи уж так называются: Фон Рахен, Ван Хахен, Фон Хокен, Ван Хокен, Ван Хекен, Фон Хекен, Фон Хакен, Ван Хакен – других фамилий у фернхахов не было. Это не имеет никакого отношения к нездоровым родственным отношениям, а связано с четырьмя фернхахскими городами, из которых в конечном итоге происходят все фернхахи: Хахен, Хекен, Хакен и Хокен. Если кто-то был из Хахена, его звали фон Хахен или ван Хокен, если кто-то происходил из Хокена, он называл себя ван Хокен или фон Хокен и так далее. Когда фернхаха спрашивали о его личных данных, это обычно звучало так, словно у него в горле застряла рыбья кость: Харри ван Хахен из Хахена, Фернхахингена. Или что-то в этом роде.
Они помолчали немного. Теперь и Крете услышала дыхание. Оно было неровным, хриплым и нездоровым. «Может быть, это просто какое-нибудь животное. Енот или бобёр». Что-то застонало и пробормотало мучительно, словно терзаемое дурными снами. «Может быть, это дикий кабан. Или гигантская обезьяна». Энзель читал о зелёных гориллах, которые, как говорят, обитают в замонийских лесах. У них якобы пять глаз и два рта, и они пожирают всё, что пытается от них убежать. «Хоррр!» – прохрипел голос. «Оно просыпается», – сказал Энзель. «Хоррр!» – повторил голос, на этот раз немного ближе. Энзель никогда не слышал ничего подобного. Разве в лесу водятся крокодилы? Он не знал, какие звуки издают крокодилы, но это вполне могло быть похоже. Или драконы. В Замонии, как известно, были драконы. Неужели они бывают такими маленькими, что помещаются в дупле дерева? Внезапно существо в стволе дерева заговорило. Оно говорило на многих языках, и это звучало страннее, диче и страшнее всего, что Энзель и Крете до сих пор слышали в Большом Лесу.
Шипение. Щебетание. Писк. Бормотание. Карканье. Вой. Мурлыканье. Скуление. Рычание.
«Что это, Крете?» «Не знаю».
Свист. Кваканье. Воркование. Жужжание. Завывание. Пыхтение. Шипение.
Звучало так, будто что-то говорит сразу всеми голосами леса. А потом снова: «Хоррр!» «Оно всё ближе», – прошептала Крете.
Ладно, будет вам сказка на ночь. Но только одна! Жил-был однажды хлеб. Это был ничем не примечательный хлеб. Нет, это не был один из тех современных мультизерновых хлебов, которые в последнее время так полюбились в Замонии и которые покупатели буквально вырывали из рук пекаря. Это был, скорее, самый обыкновенный, слегка кисловатый серый хлеб с твёрдой коркой. Так и лежал этот хлеб, словно приросший к полке, в то время как его собратья приходили и уходили: свежий тостовый хлеб, тминные палочки, дымящийся картофельный хлеб, булочки с изюмом, мультизерновая корочка, ореховый калач, плетёнка, замонийский луковый край, сладкий зерновик, глазированный ревеневый узелок, фернхахский пирог, гральзундская косточка любви, хлебцы-кнорцены, жирный мямлик, демонский ком, солдатский сухарь, шафрановый метр, флоринтский пумперникель и как их там ещё звали. И едва их выкладывали на прилавок, как их тут же раскупали. Но не наш серый хлеб. Тёмно-серый и невзрачный, он лежал там день за днём. Неделя за неделей. Месяц за месяцем. И поскольку в пекарне было довольно сухо, он не покрывался плесенью, а просто черствел. Черствел и черствел. Молекула за молекулой из него уходила влага, оставляя лишь окаменевшую выпечку: одна молекула, две молекулы, три молекулы, четыре молекулы, пять молекул, шесть молекул, семь молекул (поклонникам замонийской протоматематики рекомендуется следующий счёт: одна молекула, две молекулы, три молекулы, четыре молекулы, двойная четвёрка молекул, двойная двойная четвёрка молекул и так далее)... Что? Вам скучно? Ещё бы! Это самое главное качество эффективной сказки на ночь: она должна быть до тошноты скучной. Она должна быть как пытка водой, слово за словом вливая сонливость в мозги и сердца малышей, ведь их нужно не искусственно взбудоражить, а систематически измотать. Повествование должно быть настолько унылым и лишённым событий, чтобы дети предпочли ему всё что угодно, даже собственные сны, и послушно заснули. Мне ничего не стоило бы добавить в историю какой-нибудь душераздирающий поворот, превратив её в леденящую кровь хлебную страшилку: Однажды ночью в пекарню проникает хлебный вор и начинает стаскивать популярные сорта хлеба, только серый хлеб он оставляет лежать. Пекарь – он, как и большинство замонийских пекарей, четырёхрукий хоавиф – просыпается от шума и застаёт вора врасплох. Потрясающее открытие в ночи: это его считавшийся пропавшим брат, который из-за проваленного экзамена на пекаря попал в боло́тные пираты, где во время рыбалки крокодиловый акул откусил ему все четыре руки. Руки были заменены болотным знахарем на щупальца осьминога, которые он пришил ему в грозовую ночь. С этими мощными щупальцами осьминога подлый хлебный вор набрасывается на ненавистного брата и начинает его душить. Завязывается смертельная схватка. Тут можно было бы переключиться на внутренний монолог серого хлеба, который бессильно наблюдает за происходящими событиями. Он мог бы оплакивать свою неподвижность и бесполезность, искусно перемежаясь сценами битвы, бушующей в пекарне: мука вздымается в воздух, буханки летают, тесто разливается, возможно, короткая дуэль двумя хлебными лопатами. Затем вору удаётся захватить брата в осьминоговый удушающий захват и сунуть его голову в горячую печь. При этом они задевают полку с серым хлебом, и тот, теперь твёрдый и тяжёлый, как кирпич, падает на голову душившего. Последний получает перелом основания черепа, но и полное очищение: он отрекается от хлебных краж и начинает работать в пекарне, потому что его щупальца осьминога отлично подходят для замешивания теста. А засохший хлеб получает почётное место на полке, где и остаётся лежать во веки веков. Мораль: нужно просто достаточно долго оставаться на одном месте, и оно само собой станет правильным – или что-то в этом роде. А теперь представьте, что эта история натворит с ребёнком: он ещё долго будет лежать в постели, широко открыв глаза, и мечтать стать серым хлебом, а затем погрузится в беспокойный сон, в котором его будут одолевать крокодиловые акулы и чудовища с усаженными присосками цепкими руками. Задача действительно талантливого автора сказок на ночь – противостоять искушению нагнетать напряжение и сделать свою историю максимально усыпляющей, если он хочет привести этот литературный жанр к его истинному предназначению: гипнотизировать детей, чтобы они заснули. Поэтому моя хлебная история – скорее о лежании как таковом, высыхании и усталости материала, о прославлении неподвижности и нежелания чего-либо, и о погружении в состояние абсолютного отказа от событий, короче говоря: о сне. И я могу вас заверить, что это в высшей степени удалось мне во всех рассказах моего сборника «Засохший серый хлеб и другие сказки на ночь». В нём речь идёт исключительно о мёртвых, тяжёлых предметах, таких как кирпичи, валуны или списанные жернова, он напечатан на тяжелейшей гральзундской железнодревесной бумаге, продаётся по цене, которая по сравнению с предлагаемым литературным качеством и практической ценностью даже самому скупому скряге должна показаться подарком, и доступен во всех книжных магазинах, которые не позволяют таким горе-критикам, как Лаптантидель Латуда, диктовать свой ассортимент. Это ты, Латуда, так мученически стонешь? «Да этот малый действительно рекламирует свои собственные книги!» – слышу я твой стон. Ну, как ты, возможно, заметил, я сделал это в рамках мифорезовского отступления, что, в свою очередь, вполне литературно. У нас, у авторов, и так слишком мало возможностей указывать на достоинства наших произведений – почему бы не делать это в наших собственных? До сих пор это было возможно только на обложках, из-за традиционных границ стыдливости. Но мифорезовское отступление – это зона, свободная от стыда, в которой явно разрешается давать волю любому спонтанному импульсу, в том числе и потребности в саморекламе. Да, было бы даже возможно сдавать пространство мифорезовского отступления в аренду другим в коммерческих целях. Скажем, фабрике маринованных огурцов, которая хотела бы подчеркнуть пользу своих уксусных плодов. Или коллеге-поэту, который уже добился больших тиражей и может раскошелиться на пару золотых мешочков в рекламных целях. Почему бы и нет? Это пространство, свободное от критики и морали, почему бы не заработать на нём немного денег? По-моему, это достойнее, чем изображать литературного клоуна на платных чтениях. Будущие поколения поэтов будут благодарны мне за этот новаторский шаг. Могу уже сейчас сказать: пожалуйста. На чём мы остановились?
«Оно надвигается на нас», – прошептала Крете. «Хоррр!» – голоса снова стали немного ближе. Змеиное шипение. Ухнул филин. Ответила ему иволга. Карканье ворона. Энзель и Крете отступили. «Хоррр!» – теперь существо находилось от них на расстоянии не больше вытянутой руки. Крете показалось, что она чувствует горячее дыхание дикого зверя на своём лице. Брат и сестра попятились, проворно и не щадя своих нежных коленок, которые в мгновение ока усеялись крошечными царапинами. «Хоррр», – прорычал голос, низкий, раздражённый и слишком близкий. Энзель и Крете кувырком выкатились из древесной трухи. В спешке они едва успели схватиться за руки, а затем бросились бежать через поляну к опушке леса. Крете оглянулась через плечо. На небе висел тонкий серп луны. Так Крете смогла хотя бы разглядеть очертания того, что вылезло из мёртвого дерева у них за спиной: это была большая, прямоходящая фигура с длинными когтями на руках. Это было не животное, потому что на нём была остроконечная шляпа ведьмы. «Ведьма!» – закричала Крете и потащила за собой Энзеля. Они бросились в густой лес. Фигура на мгновение замерла и зашипела, как загнанная в угол лиса. Затем она побрела за детьми. Энзель и Крете бежали и прыгали, они спотыкались о корни и врезались в деревья, но они снова и снова помогали друг другу подняться и продолжали спотыкаться дальше. В лицо им хлестали листья и ветки, на волосах повисала паутина, крапива обжигала икры. «Хоррр!» – проревело по лесу. Энзель споткнулся, упал и потащил за собой Крете. Они покатились вниз по откосу, кувыркаясь друг через друга, как пустые бочки, и в конце концов упали в пустоту. Падение было неглубоким, всего два-три метра, но этого хватило, чтобы вызвать у них вопли ужаса. Дно ямы, в которую они упали, было покрыто толстым слоем листвы, что смягчило их падение. Существо в шляпе ведьмы остановилось и прислушалось, откуда донеслись крики. «Мы упали в яму. Тихо!» – прошептала Крете, когда Энзель нащупал её в темноте. «Мы останемся здесь. Если мы попытаемся выбраться в темноте, мы только поднимем лишний шум». Они слышали, как существо возится возле их ямы. Оно разрывало кусты и, казалось, разговаривало само с собой. Шипение и ворчание. Писк, свист. Щебетание. Затем оно наклонилось над ямой и издало крик кукушки. Энзель и Крете были тихи, как никогда за всю свою короткую фернхахскую жизнь. Они не двигались. Они не дышали. Они даже закрыли глаза и спрятали лица в ладонях. Они пытались стать несуществующими. Существо нюхало и рычало, как волк. Пищало, как крыса. Шипело, как лесная кобра. Хлюпало, как летучая крыса. В висках у Крете стучало от напряжения задержки дыхания. Она знала, что теперь невозможно бесшумно вдохнуть. Энзель сосредоточился на том, чтобы не двигаться, он подозревал, что даже малейшее движение может вызвать предательские звуки. Но чем упорнее он старался не шевелиться, тем больше его ноги, казалось, подчинялись собственной воле. Его пальцы ног потеплели и зачесались. Ахиллесово сухожилие свело, подошвы начали гореть, и Энзель невольно дёрнул правой ногой, совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы вызвать роковую цепную реакцию. Палец ноги Энзеля задел крошечную сухую веточку, которая с треском разлетелась на щепки. Жёлудь, слабо болтавшийся на ней, упал на древний сухой лист, который громко лопнул, как стекло. «Шууу!» – произнесло существо и наклонилось глубже над ямой. Глаза Энзеля, казалось, вылезли из орбит. Под ним что-то запищало. Лесная мышка, свернувшаяся калачиком под листвой, чтобы поспать, проснулась и запищала, жалуясь на шум. Существо в шляпе ведьмы запищало в ответ, это звучало как угроза. Мышка замолчала. Затем существо выпрямилось и побрело прочь. «Хоррр!» – прорычало оно в последний раз издалека, и вскоре оно исчезло. Ещё несколько секунд брат и сестра смогли задержать дыхание. Затем они вдохнули, жадно, как два ныряльщика за губками, возвращающиеся на поверхность воды с большой глубины. Никто из них не произнёс ни слова. Через полчаса Энзель и Крете почти одновременно погрузились в лёгкий сон.
Крете не знала, что делать. Энзель стоял по щиколотку в маслянистой воде, с закрытыми глазами, и вопил как резаный. Это был протяжный, непрекращающийся вопль в дикой панике, как у того, кто падает с большой высоты в пропасть. Это впечатление усиливалось ещё и тем, что Энзель яростно размахивал руками. Но Крете не видела ничего, что причиняло бы ему боль или оправдывало такое абсурдное поведение. Может быть, это одна из его идиотских шуток? «Энзель, прекрати! Вылезай оттуда!» Энзель продолжал кричать, непрерывно и пугающе. «Да вылезай же наконец, это не смешно. Может быть, это болото. Энзель!» Её брат непрерывно визжал. «Энзель!» Крете подумала о том, чтобы войти в воду и вытащить его. До илистой воды было всего ничего, но Крете колебалась. «Могу только искренне поздравить тебя с твоим колебанием, – произнёс знакомый голос у неё за спиной. – Я бы тоже не стал вступать в эту загадочную грязь».
Энзель рухнул в Большой Лес. Он был падающей горой, чудовищным пушечным ядром, врезавшимся в чащу. Листва взорвалась облаками кружащейся листвы, целые дубы разлетелись в щепки под тяжестью Энзеля, когда он с треском вонзился в землю. Затем наступила тишина. Абсолютная тишина. Жара. Энзель всё ещё плавился. Он пылал, горел, кипел и растекался по огромной яме, которую пробил своим могучим телом. Прошли дни, недели, месяцы. И Энзель остыл. Птицы снова запели. Он больше не был холодным, он больше не был горячим. Он больше не был твёрдым, и он больше не был тяжёлым. Теперь он был жидким, тёплым и лёгким. Он был озером из расплавленного космического льда. И он заметил, что в нём что-то пробуждается. Большое, длинноногое и злобное существо зашевелилось в Энзеле и расправило конечности. Он почувствовал, как оно поднялось со дна озера и опробовало свои ноги (их было восемь). Чудовище (оно чувствовало себя чудовищем) немного пошатнулось, затем твёрдо встало и вышло из Энзеля. Могучими шагами оно потрясло землю, исчезая в лесу.
Бромм! Бромм! Бромм! Бромм! Бромм! Бромм! Бромм! Бромм! «Погоди-ка! – подумал Энзель. – Что здесь вообще происходит? Где я? Почему так темно? Что это за история с космосом и падением и всё такое? И где Крете?» «Ты во мне!» – сказал голос, смертельно печальный и трогательно одинокий. – «Останься же!» «Я – в чём? Кто ты?» – спросил Энзель. «Я – озеро. Но я не всегда был озером. Когда-то я был метеоритом, могучим куском космического льда, плывущим сквозь вселенную. Я показал тебе свои воспоминания. Это был мой полёт через космос. Падение на эту планету. Ты мог бы хоть немного поблагодарить. Не каждому дано разделить воспоминания метеорита». «Э-э, спасибо!» – механически подумал Энзель. Как уроженец Замонии, он был знаком с феноменом телепатии. Существовал целый ряд форм жизни, которые могли общаться посредством мыслей. Но он ещё никогда не говорил с озером. Или, вернее: не думал с ним. «Это было моё лучшее время, там, в космосе. Невесомость. Бессмертие. Вернее: идеальная сохранность. Одиночество – ну да ладно. Но за всё нужно платить. Зато какой вид открывался. Вселенная, круговая панорама. Теперь я всего лишь одинок. Я жидкий, силы притяжения этой проклятой планеты сильно тянут меня вниз, я должен постоянно бороться, чтобы не просочиться в землю. Какая-то другая сила тянет с моей поверхности, хочет, чтобы я испарился. Довольно безжалостные законы природы здесь! Всё направлено на бренность. Нахожу это убогим. В космосе всё иначе». «Что это было за существо, которое вышло из тебя?» «Ты имеешь в виду ведьму?» «Это была ведьма?» Космический пруд замолчал. В голове у Энзеля глухо загудело, ему казалось, что он чувствует ощущения водоёма. Он чувствовал раскаяние. Ярость. Стыд. «Я ничего не знаю ни о какой ведьме». Голос озера звучал упрямо. «Ты только что сказал "ведьма"». «Не говорил я». «Говорил». «Не говорил!» «Говорил!» «Ни за что!» «Говорил!» «Ни за что!» Тишина. Что это было – упрямство, которое почувствовал Энзель? Он уловил эмоции, которые напомнили ему его ссоры с Крете. «Я ничего не знаю ни о какой ведьме», – сказал голос, всё ещё надувшись. «Я знаю только, что что-то было во мне, много миллионов лет. Замёрзшее. Мёртвое, как я думал. Но когда я растаял, оно снова проснулось. И ушло в лес. Это всё, что я знаю. Можем мы теперь сменить тему?» «Думаю, мне нужно идти», – неуверенно сказал Энзель. «Ты ведь не уйдёшь снова? Пожалуйста, останься здесь!» Страх. «Мы могли бы так много поговорить!» «И о чём же ты хочешь поговорить?» – спросил Энзель. Смущение. Напряжение. Беспомощность. «Э-э, ну, не знаю... Я ещё никогда не общался». Стыд. «Тебе нечего стыдиться. Я могу тебя научить». Радость. Благодарность. «Правда? Это было бы здорово. Я мог бы показать тебе взамен картины». «Картины?» Гордость. «Ну да, у меня есть виды почти всей вселенной. То, что ты видел до сих пор, было ничем. У меня также есть воспоминания о моей родной планете. До того, как нас разбил этот астероид. До того, как я стал метеоритом. Пойдём! Погрузись в меня! Мы отлично проведём время. Я покажу тебе вселенную. Давай же!» Желание. Энзель задумался. Это было предложение, от которого не так-то просто отказаться. Он мог бы стать первым фернхахом, побывавшим в космосе. «Можешь себе представить, как выглядит взрыв звезды? С близкого расстояния? Как сгущаются галактики? Ты когда-нибудь видел космических змей, из жидкой ртути и длиной в миллионы километров? Газовые медузы, пожирающие целые луны? Светососы Конской Головы? Я видел космические корабли...» «Космические корабли?» Энзель не имел ни малейшего представления о том, о чём говорил метеорит, но это слово его взволновало. Космические корабли. «Да. Космические корабли. Корабли, построенные на других планетах, которые плывут по космосу. Летающие диски из стали. Стеклянные трубы, километры длиной, наполненные светящимся туманом. Есть космические корабли, которые на самом деле являются живыми существами. Я видел такие, которые были из дерева и размером с луну. Или из резного белого камня, полные орнаментов, прекрасно сияющие в свете звёзд». Тоска. «На других планетах есть жизнь?» Возмущение. «Конечно. Думаешь, у вас единственная планета с живыми существами во всей вселенной?» Презрение. «Что, по-твоему, я такое? Что, по-твоему, было то, что вышло из меня и ушло в лес? Планета, с которой я родом, кишела живыми существами! Там даже минералы живут. Там воздух думает. По сравнению с этим этот континент – ничто!» Жалость. «Хочешь посмотреть несколько картинок? Глубоководных присосок или стеклянных гигантов? Ты когда-нибудь видел скачущую гору? Или замёрзшие молнии? Моря из тока? Хищных рыб из света, которые охотятся за живыми облаками на фоне золотого неба? Титанические машины в безжалостной битве? Хочешь это увидеть? Хочешь?» «Да! Да!» – закричал Энзель и открыл глаза. От хлынувшего света его так сильно ослепило, что он вскрикнул. Но это была не единственная боль, которую он почувствовал. Что-то грубо сжимало его запястье, и у него болела задница. Два силуэта надвинулись на него, отрезая свет, один слева, другой справа. Он узнал Крете, склонившуюся над ним и державшую его за руку. И он узнал зеленокожего гнома. «Ты в порядке?» – спросила Крете. – «Ты кричал как резаный». «Что?» Энзель огляделся. Он сидел на земле, у края пруда. Его ноги были покрыты чёрной грязью. Крете и гном разглядывали его с обеспокоенными взглядами. «Мы вытащили тебя из озера. Если бы не этот, э-э, лесной гном, я бы не справилась. Он держал меня, чтобы я могла перегнуться к тебе, не заходя в озеро». Гном отвёл руки в сторону. «Это был само собой разумеющийся поступок». Энзель встряхнулся и попытался встать на ноги. Покачиваясь, он встал на траву и постучал правой ладонью по виску. «Нам нужно дать ему время», – понимающе сказал зеленокожий. – «Радость от спасения ещё притупляет его способность поблагодарить нас». «Вы что, с ума сошли?» – яростно закричал Энзель. – «Я только что собирался познать чудеса вселенной. Я мог увидеть живых существ на другой планете! Космические корабли!» Он решительно направился к озеру. «Стой!» – закричала Крете. – «Этот пруд. Думаю, это ведьма». Энзель остановился. «Это не ведьма». Он бросил на Крете сочувствующий взгляд. «Это расплавленный метеорит». «Не хочу прерывать вашу братскую перепалку, но думаю, сейчас подходящий момент для моего признания», – вмешался гном. Все внимание переключилось на него. «Я должен вам кое в чём признаться», – сказал он приглушённым голосом. – «Я раскрываю своё инкогнито. Я вовсе не лесной гном. Я – горный тролль». Энзель и Крете были лишь слегка удивлены. Ещё в фернхахской школе их предупреждали, что не следует принимать помощь от горных троллей. Правда, там забыли раздать изображения этой презираемой замонийской формы жизни (замонийские иллюстраторы обычно считали, что увековечивать горного тролля – вредно для репутации), иначе они бы догадались об этом при первой же встрече с ним. Энзель и Крете знали только, что эти кобольды были низкорослыми и горбатыми. Но таких в Замонии было много. Крете даже знала нескольких фернхахов, которые по этому описанию сошли бы за горных троллей. «Да, я принадлежу к самой избегаемой форме жизни в замонийском обществе. Поэтому я предпочитаю жизнь в Большом Лесу. Я предпочитаю одиночество природы вытянутым указательным пальцам, щебетание птиц – голосам, которые только и будут кричать: Смотрите: горный тролль! Неприкасаемый, изгой. Держитесь от него подальше!» Тролля слегка качнуло, но он снова обрёл равновесие. «Пусть лучше падающая листва будет моей крышкой гроба, чем быть похороненным на замонийском кладбище изгоев. Вы когда-нибудь видели кладбище изгоев?» Ни Энзель, ни Крете никогда не слышали о таких местах захоронений. «У гробов там дыры, чтобы червям было легче проникать внутрь. Надгробные плиты вырезаны из мыла, чтобы первый же дождь смыл их. В качестве украшения из цветов разрешены только крапива и чертополох. И категорически разрешается проводить танцевальные мероприятия на могилах». Тролль взволнованно всхлипнул. Он вырвал пучок травы из земли, громко высморкался в него и бросил слизистые листья за спину. «Но что это я говорю о таких неприятных вещах? Я ведь хотел доставить вам радость. Поэтому позвольте мне, наконец, загладить свою вину за прошлые поступки: могу я на этот раз показать вам правильный путь?» Крете пристально посмотрела троллю в глаза. «Большое спасибо. Мы действительно ценим твою помощь у озера. Но этим мы квиты. Ты уже однажды отправил нас в неправильном направлении. Моя мама говорила, что горные тролли никогда не могут сказать правду, даже если захотят. Поэтому мы предпочли бы держаться от тебя подальше. Пойдём, Энзель». Она потянула Энзеля за рубашку, который уже снова как заворожённый уставился на озеро. «Ладно», – тихо и как бы про себя сказал тролль. – «Когда мы встретились в первый раз, наши отношения были, скажем так: непринуждёнными. Поэтому я позволил себе эту шутку. Эту глупую, жестокую шутку, о которой с тех пор горько сожалею. Едва вы исчезли в лесу, я осознал, что натворил. Я упустил возможность завести дружбу. И не в первый раз! Не в первый раз в своей жизни я променял этот дар на возможность мелкой, жалкой низости». Тролль в наказание ударил себя кулаком по лбу. «И я раскаивался! Да, я раскаивался каждый час, каждую минуту, каждую секунду, которая разделяла меня с вами». Он вцепился жёлтыми ногтями в грудь. «Теперь я снова был один в лесу. Избегаемый и презираемый даже самыми маленькими созданиями леса». Горный тролль опустил руки. Он едва слышно шмыгнул носом. Затем сжал кулаки и посмотрел на брата и сестру глазами, полными слёз. «Но теперь мы снова встретились. Судьба даёт нам второй шанс. Такое немногим дано!» Энзель и Крете переглянулись. У этого тролля крепкие нервы, подумал Энзель. «Но вы предпочитаете презирать меня, избегать моего общества. Я не только понимаю это, я даже уважаю это. Вам пришлось пережить нечто ужасное. И я беру за это на себя ответственность». Тролль решительно посмотрел вверх, словно ожидая за это замечание удара молнии. Крете попыталась увести Энзеля. «Позвольте мне сказать только ещё кое-что...» – прошептал горный тролль. Он глубоко вздохнул и выдохнул: «Как жаль». Крете остановилась, поражённая печалью, с которой горный тролль прошептал слово «жаль». Глаза гнома наполнились слезами, уголки его рта задрожали. «В разлуке с вами я много думал о наших отношениях. Ведь к тому времени кое-что выросло. Не просто симпатия, о нет. Не просто односторонняя дружба. Для этого есть только одно слово: любовь». Гном прошептал последнее слово так тихо, что его едва можно было разобрать. Он сел в траву, снял туфлю и начал играть пальцами ног. Его взгляд был устремлён в пустоту, и он улыбался, словно глядя в далёкое, более счастливое будущее.
"Что?" "А, ничего... Пещерный тролль был прав", – сказал Энзель. "Даже воздух здесь другой. Нам следовало его послушать". "Да что там!" – упрямо огрызнулась Крете, хотя чувствовала то же, что и брат. Она злилась на себя, на свою заносчивость, с которой отвергла помощь Тролля. Казалось, лес всеми возможными способами вторгается в них, чтобы наполнить их страхом, – через уши, через глаза, через нос, через мысли. Крете обнаружила, что невозможно одновременно заткнуть уши и нос, для этого ей понадобилась бы дополнительная рука. Энзель и Крете побрели дальше и через некоторое время с облегчением заметили, что, по крайней мере, пугающие запахи ослабевают, чем дальше они уходят от горящих деревьев. Но растения леса не собирались принимать более привычные формы. Энзель едва мог идти, все его тело охватила жестокая слабость. Руки дрожали, ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание, что он против своей воли засыпает. В нем поднимался зверский голод. "Еда!" – закричал Энзель! "Нам нужно наконец что-нибудь съесть, иначе мы умрем!" Он прислонился к пню, который хотя бы отдаленно напоминал остатки старого дуба, в который ударила молния. Медленно сполз спиной по узловатой коре и, тяжело дыша, сел. Холодный пот выступил у него на лбу. Он отчаянно оглядывался в поисках ягод. Между корнями пня росли зеленые щупальца и несколько черных грибов. За обломком дерева стояли еще два пня, поменьше, тоже обросшие грибами и растениями в виде щупалец. Энзель подумал, как можно накрыть эти три растительных уродства ветвями и листьями. Тогда у них будет крыша над головой на ночь. Может быть, он сможет обложить их и вокруг, тогда у них даже будет палатка. Но сначала ему нужно подкрепиться. "Я никуда больше не пойду", – сказал он. "Мы останемся здесь и съедим несколько грибов". "Мы не будем этого делать. Они выглядят ядовитыми". "Здесь все выглядит ядовитым, и мне все равно. Тогда я просто умру. Если я их не съем, я умру от голода. Если я умру от грибов, то хотя бы сытым". Логику Энзеля было трудно опровергнуть. Крете задумалась, сколько времени нужно, чтобы умереть от голода. Два дня, три? И как это происходит? Просто падаешь без предупреждения, как при сердечном приступе? Как далеко они вообще от голодной смерти? Может быть, они действительно близки к этому. Энзель сорвал один из грибов и внимательно его рассматривал. "Не стоит слишком присматриваться к этим штукам", – сказал он. "Существует абсолютно надежный способ определения ядовитых грибов. Нужно съесть совсем немного и подождать час. Если не появятся никакие симптомы, гриб безвреден. Если же появятся, то из-за небольшого количества они будут безвредны. Принц Хладнокровный так делает в "Лесу с тысячью руками"". И он поднес гриб ко рту.
Профессия писателя иногда (не всегда!) обязывает к откровенности, поэтому я должен кое в чем признаться, даже если это может привести к конфликту с замонийской юстицией. Но, как уже упоминалось, беззаконие относится к основным добродетелям поэта, поэтому я признаюсь здесь без всякого стыда: я однажды попробовал ведьмин гриб. Да, именно так. Хотя употребление этого гриба строго запрещено Министерством здравоохранения Гральсунда, в определенный период времени в художественных кругах Гральсунда считалось шиком иметь за душой парочку приходов от ведьминого гриба. Это не оправдание, но я все же хотел бы упомянуть, что тогда я был молодым сорванцом едва ли двухсот лет от роду. Сомнительные существа, кровохлебные контрабандисты, привезли их в Гральсунд и предлагали на черном рынке в форме, которая якобы делала гриб съедобным без серьезного вреда для здоровья. По крайней мере, так мы считали по своей юношеской беспечности. Его отваривали, обессоливали, сушили, замораживали, намагничивали, а затем превращали в порошок, и употреблять его можно было только в табачной смеси, выкуривая в крошечных дозах. Некоторые коллеги-художники попробовали и пообещали мне сенсационные видения и художественное вдохновение самого устойчивого рода. Это радикально повлияет на мою жизнь и мою творческую работу, заверили они меня, – что, к сожалению, должно было сбыться, но не так, как я надеялся. Что ж, художник обязан опьянению. По крайней мере, молодой горячий писатель охотно в это верит, когда печень и почки все еще само собой разумеющееся дело работают сверхурочно. Мы собрались впятером в задней комнате притона, выпили шнапса из скорпиона для храбрости и набили трубку табаком с ведьминым грибом. Я сделал из нее глубокую затяжку. На вкус было горько и едко, и у меня сразу же потемнело в глазах. Мне показалось, что подо мной разверзлась земля, и я упал в глубокий колодец. На стенах колодца росли странные растения, фиолетовые побеги с гладкой поверхностью, медузообразные грибы, колышущиеся водоросли. Я падал и падал, но без всякого страха, в нарастающем восторге. Затем я открыл глаза. Я все еще сидел в кругу своих друзей-художников, но они превратились в четырех всадников Апокалипсиса. На плечах у них были черепа, и когда они смеялись, из их жутких челюстей вылезали черви и мотыльки. Поэтому я снова закрыл глаза и продолжил падать. Насколько было ясно, я находился под Замонией. Яд гриба внушил мне, что я могу провалиться сквозь землю, я увидел пылающих лавовых червей и чудовищных многоножек, которые прокладывали здесь себе путь, я пронесся мимо скелетов динозавров, размером с парусные корабли, мимо гигантских алмазов и целых саблезубых львов, заключенных в янтарь. Затем я внезапно оказался на открытом воздухе, я провалился сквозь крышу гигантской пещеры, стены которой мерцали призрачным синим цветом. Наконец я приземлился, и приземлился неудачно. Я упал в чан с густым маслом, и чан был из камня и размером с кратер вулкана. Казалось, его подогревали снизу, масло начало кипеть и проникать в мои конечности, делая меня тяжелым, черным и отекшим. Только сейчас я заметил, что чан полон живых существ: вольпертингов и фернхахенов, и кровохлебов, и наттифтоффенов, и любых других мыслимых замонийских форм существования. Я видел, как эти существа сварились в масле и растворились. И тут произошло самое ужасное: я почувствовал, как мое собственное тело растворяется, как мои руки и ноги отваливаются от меня и уплывают в масле. Наконец моя голова тоже отделилась, а затем масло снова закипело, и все конечности, туловища и головы в чане ужасным образом снова слепились вместе. Моя голова сидела на туловище фернхахена, у меня были руки с клешнями и волосатые ноги кровохлеба. Затем я потерял сознание. Когда я очнулся от бреда, четыре всадника Апокалипсиса снова превратились в моих друзей-художников, а моя голова, казалось, была наполнена кипящим свинцом. После этого случая я полгода писал как одержимый. Я писал почти без перерыва, прерываемый лишь несколькими часами кошмарного сна, самое большее каждую третью или четвертую ночь. Я не знал, что я пишу на совершенно неизвестном мне языке, я просто строчил, полностью осознавая важность того, что я делаю, абсолютно невосприимчивый к попыткам моих друзей вытащить меня время от времени на свежий воздух. Если бы они время от времени не совали мне в рот кусок хлеба или не вливали немного воды, я, вероятно, умер бы от голода или жажды. Наконец мой писательский запой прошел, и вместе с ним исчезли последние симптомы употребления грибов. Я написал целую книгу, книгу на много сотен страниц. Я сделал это без каких-либо исправлений, без малейших колебаний, как будто мне это продиктовали. Когда я попытался расшифровать эту абракадабру, после долгих раздумий я наконец обнаружил, что произведение начинается с конца – а именно с последней буквы всего текста. Я писал на замонийском – но задом наперед. Затем я переписал текст в обратном направлении, мне нужно было просто читать его справа налево. Это было самое ужасное и ужасающее, что я когда-либо читал – а я читал много плохих текстов своих коллег, можете мне поверить, не говоря уже об автобиографии Лаптантиделя Латудаса. Простите мне мою маленькую шутку, но это болеутоляющий рефлекс на воспоминание о демоническом содержании конгломерата зверств, написанного мной в бреду. Только самый мрачный юмор может иногда изгнать призраков, которые преследуют меня снова и снова с тех пор, как я сделал эту запись. Книга была о вещах, об идеях, о желаниях, о формулах и пророчествах, которые никогда нельзя произносить. "Кровавая книга" была по сравнению с ней сказкой на ночь. Я знаю, мои уважаемые читатели, вы жаждете узнать невыразимое, но вы должны благодарить меня на коленях за то, что я соблюдаю данное себе обязательство молчать. Это единственная книга, которую я никогда не опубликую. Я запечатал ее в жидком свинцовом стекле и закопал в таком месте Замонии, которое известно только мне и одноглазым циклопическим грифам, которые кружили надо мной в это время. Таков был мой опыт с черным ведьминым грибом. Я излагаю его здесь, чтобы предостеречь молодежь нашего континента от употребления этого порождения Сатаны. Я принял его в, вероятно, самой мягкой форме, возможно, одну сотую грамма, тщательно очищенным от токсинов – и это стоило мне полгода моей жизни.
"Только совсем чуть-чуть, не полный рот", – сказал Энзель, – "это не повредит". Он уже собирался откусить гриб, когда что-то скользкое обвило его запястье. Это была лиана, одна из тех, что росли у подножия пня между грибами. Пень – или, вернее, то, что Энзель принял за пень, – открыл глаза. У него было очень много глаз, которые смотрели во все стороны, постоянно открывались и закрывались и катались туда-сюда. Между всеми глазными яблоками зияла широкая щель, которая, очевидно, была ртом существа, и оно произнесло: "Я бы на твоем месте не трогал эти грибы, сынок. Дурные сны. Очень дурные сны". Энзель выронил гриб и подскочил. Крете громко закричала от испуга. Лиана разжала запястье, пень слегка покачнулся и бешено закатил глаза. Затем он сказал глубоким, внушающим доверие голосом: "Извините, мы не хотели вас пугать. Не бойтесь. Мы ничего не сделаем". При слове "мы" и два предполагаемых пня позади открыли свои многочисленные глаза. "Мы не кусаемся", – сказали они одновременно. "Что это?" – дрожащим голосом спросил Энзель. Крете знала, что это такое. "Это звездоглазы", – сказала она.
Звездоглазы. Стражи Вселенной. Хранители вечной жизни. Бессмертные. У замонийской биологии есть разные названия для того, что Крете назвала звездоглазами, и все они были изрядно напыщенными. Ученые, проводившие полевые исследования звездоглазов, к сожалению, не были менее пафосными. Но их благоговение можно понять, в конце концов, речь шла о старейших живых существах Замонии. Возможно, даже старейших в мире. Тут уж пафос может и одолеть. В Замонии было всего несколько звездоглазов, несколько в Долине Раздумий возле Дуллсгарда и, предположительно, несколько отдельных экземпляров в долинах и на вершинах Мрачных гор. Ныряльщики за жемчугом сообщали о таковых на дне Замонийской Ривьеры. И несколько было в Большом лесу, где, по крайней мере, можно было услышать их стоны ночью. Происхождение звездоглазов вызывает больше споров, чем любой другой предмет замонийской науки. Сами они рассказывают об этом неохотно и, если вообще рассказывают, то загадочными метафорами. Почти у каждого ученого есть своя теория об их происхождении – я нахожу их почти все банальными и лишенными фантазии, за исключением теории профессора доктора Абдула Соловейчика. Да, как бы я ни презирал позитивистскую картину Замонии, которую рисует Соловейчик, как бы меня ни отвращала элитарная образовательная политика его Ночной школы, в его теории о звездоглазах что-то есть. Я хотел бы попытаться перевести ее из его "Лексикона нуждающихся в пояснении чудес, форм существования и феноменов Замонии и окрестностей" на общепонятный язык: Соловейчик предполагает, что звездоглазы – это первая попытка природы создать жизнь. Эксперимент, генеральная репетиция Вселенной. С эстетической точки зрения не самый удачный эксперимент, если присмотреться к звездоглазам повнимательнее: нет хорошо сформированных конечностей, нет правильного центра тела, неухоженная кожа, нет ног и явно слишком много глаз. Но они живут, они думают, они чувствуют и да, они даже говорят. Так что для первого наброска не так уж и плохо, тем более что им приписывают бессмертие. Это не удалось природе ни с одним другим живым существом. Вообще-то обидно. Говорят, что там, где сейчас находится наша Солнечная система, давным-давно было темное облако межзвездного газа. В наши дни это отрицают разве что пара чокнутых алхимиков, которые считают, что наша планета – это блин, плавающий в гигантской супнице. Интересен вопрос: из чего состоял этот газ?
Многоглазый вскинул все свои брови. "Звездоглазы? Значит, так вы нас называете? Слышите, парни? Они называют нас Звездоглазами!" Два его сородича позади него засмеялись, это звучало, как будто кашляют медузы. Первый Звездоглаз устремил все свои зрачки в небо. "Ну, мы, конечно, наблюдаем за звездами, но, честно говоря, там нечем особо восхищаться. Это просто горящие газовые пузыри, и все. Они загораются, горят, а потом гаснут. Пфф! Видели уже раз сто. Конечно, это очень большие газовые пузыри, но..." Звездоглаз замолчал и посмотрелна землю. "У нас очень хорошие глаза, но мы предпочитаем использовать их для наблюдения за окружающей нас природой. За микрокосмом. Вот где действительно много всего происходит, могу вам сказать. В одной травинке больше жизни, чем во многих целых галактиках". Энзель, основываясь на собственных наблюдениях за природой, мог это только подтвердить. "Ладно, не будем портить ваш юношеский восторг перед чудесами Вселенной. Хорошо, пусть будет так – да, мы Звездоглазы. Хранители Вселенной". Два других пня заискивающе засмеялись. "А теперь расскажите-ка мне, что привело вас в эту глушь. Вы первые говорящие существа, которые забрели к нам за очень долгое время". "В этом-то и наша проблема", – ответила Крете, которая решила взять на себя инициативу. Она как-то раз делала доклад о Звездоглазах в школе Фернхахена и получила за него высший балл, двойную четверку со звездочкой. Так что она была, можно сказать, экспертом в теме Звездоглазов. "Мы заблудились". "Это печально. И в то же время заставляет завидовать. Вас можно поздравить". "Что?" "Кто может заблудиться, тот может и ходить – это вызывает зависть. Мы, к сожалению, приросли к одному месту". "О". Возникла короткая неловкая пауза. Звездоглазы не привыкли к беседам, а Крете все еще была охвачена благоговением. Братья и сестра переминались с ноги на ногу, а Звездоглазы издавали звуки дискомфорта. Наконец Крете набралась смелости: "Может быть, мы сможем вам чем-нибудь помочь?" Большой Звездоглаз весело хмыкнул. "Единственное, что могло бы нам помочь, это если бы нас пересадили. Куда-нибудь, где больше движухи. Но вы слишком малы и слабы для этого. Мы весим... э-э, ну, неважно, сколько мы весим. Я не люблю говорить о своем весе. В общем, мы весим довольно много. Но спасибо за предложение". Крете попыталась задать более умный вопрос. "Правда ли, что вы бессмертны?" "Да. По крайней мере, надеемся на это". Два других Звездоглаза снова засмеялись. Говорящий вытянул свои щупальца. "Хочешь, я расскажу тебе кое-что о бессмертии, малышка? Ты когда-нибудь слышала о геннфовой вши? Она живет на нашей поверхности. Она микроскопически мала. Она пьет наши слезы и ест наши излишки кожи. У обычной геннфовой вши память всего одна минута. Когда она видит, что умирает ее сородич, она забывает об этом уже через минуту. Она просто не знает, что однажды и ей придется отправиться на тот свет, понимаешь? Вот это зависть! Быть глупым и смертным – вот это счастье! Мы даже не знаем, не придется ли и нам когда-нибудь сыграть в ящик. Пока что бессмертие – это всего лишь недоказанная теория. И сколько бы мы ни прожили, мы никогда не узнаем, правда ли это. В этом есть определенная трагедия, понимаешь? Но, черт возьми, мы не жалуемся. Одно могу сказать точно: мы о-о-очень старые". Остальные звездоглазы астматически вздохнули. — Вы, должно быть, невероятно умны, — прошептала Крете. — Мне бы очень хотелось с тобой согласиться, малышка, но и тут я вынужден тебя разочаровать, — он пошевелил щупальцами. — Ладно, допустим, мы — возможно — бессмертны, и нам укиллиарды лет от роду, но что нам это даёт? Любая улитка, проползающая мимо, умнее нас, потому что она больше видит в этом мире... стоп, неправильный образ, у улиток же нет глаз! Видишь, какой я глупый? Двое других звездоглазов одобрительно заворчали. — Но вы же понимаете, к чему я клоню. Любое подвижное существо в лесу умнее нас — если, конечно, можно измерить ум жизненным опытом. — Звездоглаз запнулся. — Послушай-ка, а ты вообще к чему-то конкретному ведёшь? Крете замялась. — Ну... я надеялась, что вы сможете объяснить нам, как выбраться из леса. Звездоглаз и его товарищи уставились на Крете всеми своими глазами. — Послушай, девочка, я боялся этого вопроса — лучше я сразу скажу тебе, и скажу прямо: из этого леса нет выхода. Крете испугалась. — Что вы имеете в виду? — То, что я сказал. У вселенной много направлений, дитя моё. Слишком много, на мой вкус, глаз не хватит, чтобы за всем уследить. — Звездоглаз бешено завертел зрачками. — Мы можем сколько угодно наблюдать за вселенной — в конечном итоге она всё равно поступает по-своему. То же самое и с лесом. Звездоглаз заговорил очень торжественно. — Совершенно неважно, в каком направлении вы пойдёте. Лес будет расти вместе с вами и снова и снова приведёт вас туда, откуда вы пришли. Вы находитесь в живом лабиринте. Выхода нет. Есть только путь вглубь. Мне жаль, что я не могу сообщить вам ничего лучшего. Теперь вы — часть леса. Как и мы. У Крете на глаза навернулись слёзы. Энзель топнул ногой. — Это неправда! — воскликнул он. — Послушайте, дети, мы не можем вам помочь, но можем кое-что рассказать. Это, конечно, не избавит вас от ваших несчастий, но хотя бы облегчит понимание вашей ситуации. Слушайте внимательно! Энзель и Крете с напряжённым вниманием стали слушать. — Некоторое время назад лес ещё был в порядке. И это не ностальгические бредни, это был просто нормальный, здоровый лес. Первоклассный лес, с большим количеством древесных, животных и растительных видов, чем в любом другом лесу на нашей планете. Поэтому сюда приходили самые разные замонийцы: путешественники, любители природы, учёные, искатели приключений, лесные жители... тогда мы были в курсе всех дел. Мы выучили почти все замонийские диалекты, просто слушая. Мы изучили замонийскую протоматематику. Блутшинский хамский язык. Замонийскую историю. Сплетни и слухи. В остальное время мы, три красавчика, торчали здесь, наблюдали за вселенной и за брачными привычками генфляузов и ели шампиньоны, которые росли у наших корней. В общем, мы хорошо проводили время. Двое других звездоглазов вздохнули. — Потом с неба упала эта штука. Пылающий шар, хвост длиной в километр. Он рухнул прямо в лес. Бабах! — Метеорит, — прошептал Энзель. — Точно. Метеорит. Он принёс в лес чудовище. Мы его никогда не видели, но часто слышали: «Бромм! Бромм! Бромм!» Это были его шаги, от которых дрожала земля в лесу. Так продолжалось долго-долго: «Бромм! Бромм! Бромм!» Понятия не имею, что оно там делало, но, вероятно, охотилось на обитателей леса. Постепенно все животные покинули лес. Даже насекомые. Стало очень тихо, если не считать шагов чудовища. Потом однажды шаги тоже прекратились. Из чего мы заключили, что чудовище либо погибло, либо исчезло. И вот, пожалуйста: животные вернулись. Лес снова был в порядке, по крайней мере, какое-то время. А потом появились чёрные грибы. — Вот эти штуки? — Точно. В какой-то момент шампиньоны перестали расти, и вместо них выросли эти уродливые грибы. Нам ничего не остаётся, кроме как есть их, иначе мы умрём с голоду, и тогда прощай бессмертие. Они поддерживают в нас жизнь, но вызывают кошмары, каких свет не видывал, это я вам точно говорю. Вообще, слышно ли наши стоны по ночам? Нам немного стыдно за это, но мы ничего не можем с собой поделать. Звездоглаз вздохнул и на мгновение закрыл все свои веки. — Когда мы видим сны, нам открываются картины мира, которого лучше бы не было. Мы видим во сне то, чего совсем не хотим знать. Мы видим места, в которых не хотим находиться — и иногда у меня такое чувство, будто мы и правда там были. Мы знаем вещи... — Звездоглаз запнулся. — Мне снятся вещи, которые находятся под землёй. Глубоко, глубоко внизу. И мне снятся растения в лесу... Растения, которые не растения, а... — Звездоглаз вздрогнул. Затем он с сочувствием посмотрел на Энзеля и Крете. — Что бы это ни было. Боюсь, вы ещё достаточно скоро их увидите. — Прекрати! — воскликнул один из других звездоглазов. — Ты пугаешь малышей. — Что вы знаете о ведьме? — вклинилась Крете. Звездоглаз беспокойно заморгал и покосился на своих товарищей. — Что за ведьма? Вы что-то слышали о ведьме, ребята? Звездоглазы смущённо уставились в землю. — Ведьма? Нет. Я не знаю никакой ведьмы. — Какая ещё ведьма? Мы ничего не знаем о ведьме. Крете так долго смотрела в многочисленные глаза большого звездоглаза, что он наконец опустил их все. — Ладно, — сказал он, — я и так уже слишком много наговорил, так что скажу и остальное: вы должны принести великую жертву. — Какую жертву? — Детскую невинность. Юность. Вот что является жертвой. — Что вы имеете в виду? — Э-э... вы же невинны, верно? Я имею в виду, у вас же нет ничего на душе? Никакой непростительной вины или чего-то в этом роде? — Мы убежали в лес, несмотря на запрет Цветных Медведей, — признался Энзель. — Ааах — это не вина! Это юношеское безрассудство. Вы действительно невинны, как ромашки. Ребята, только посмотрите на этих двух маленьких ангелочков. Они совершенно свободны от дурных мыслей. Двое других звездоглазов завистливо застонали. — Привилегия юности! — вздохнул один. — Вот подождите, вы тоже станете старше, и однажды... — Заткнись! — перебил его большой звездоглаз. — Они ещё находятся в состоянии благодати. У них действительно есть всё, чтобы принести великую жертву. Крете рассердилась. — Вы можете наконец объяснить, что вы имеете в виду под жертвой? — Боже мой, — вздохнул звездоглаз, — неужели я должен говорить так прямо? Жертва — это вы. Детская невинность или что-то в этом роде. Я полагаю, что кое-что здесь, в лесу, очень этого хочет. Назовите это, если хотите, "ведьмой". Юношеская невинность — это дар, который даже ведьмы не могут наколдовать. — Ведьма умеет колдовать? — Я не говорил, что это ведьма. И никто не умеет колдовать. Для всего есть научное объяснение. Но здесь, в лесу, есть нечто, обладающее могущественными, необычными силами. Силами, которые ещё не были эмпирически изучены. Это делает их загадочными, но не колдовством. Ну, это нечто очень хочет с вами познакомиться. Это можно сказать наверняка. Так говорят мои сны. Двое других звездоглазов одобрительно заворчали. — Вы хотите сказать, что мы должны принести себя в жертву ведьме? — Я не говорил, что это ведьма. — Неважно, что это — мы должны ему отдать себя? — Ну... мы полагаем, что тогда в лесу снова воцарится покой. Что снова начнут расти шампиньоны и всё такое... — Мы должны пожертвовать собой, чтобы вы снова могли есть грибы? Звездоглаз впервые за весь разговор задумался, что сказать дальше. — Пойдём отсюда! — воскликнула Крете. — Кажется, все существа в этой части леса не в своём уме. Крете и Энзель в ярости убежали. Двое других звездоглазов оценивающе посмотрели на своего сородича. Он примирительно поднял щупальца. — Что такое? Разве я что-то не так сказал? Ну, ребята, когда так долго не с кем поговорить, всё просто вываливается. Эй! Чего вы на меня так уставились?
— Это было одно из самых больших разочарований в моей жизни! — возмутилась Крете, когда они отошли от звездоглазов на достаточное расстояние. — Эти три старых картошки хотят, чтобы мы принесли себя в жертву! Вы можете себе это представить? Я думала, что самые старые существа Замонии будут немного умнее. — Они не дураки, — сказал Энзель. — Мы, дети, должны принести себя в жертву, чтобы старики могли полакомиться чем-нибудь вкусненьким. — И это всё, чему можно научиться, когда становишься таким старым? Приносить в жертву маленьких детей! Как бы не так! — Вот это правильный настрой! — похвалил Энзель и взял Крете за руку. — Мы просто пойдём дальше, пока не окажемся дома.
Ни Энзель, ни Крете не смогли бы ответить на вопрос, как долго они шли. Они бежали, пока хватало дыхания в их маленьких лёгких, потом спотыкались, пока снова не могли дышать, и наконец снова немного бежали. В какой-то момент они перешли на менее утомительный шаг, но ни разу не остановились. Через некоторое время они снова начали обращать внимание на растительность. Странность леса нисколько не изменилась. День заметно подходил к концу, тепло и дневной свет покидали лес. На краю синего луга, который охраняла высокая красочная орхидея, Энзель упал на землю. — Я останусь здесь лежать, — сказал он. — Я больше не могу. Я хочу спать. Я хочу есть. — Об этом не может быть и речи, — сказала Крете. — У нас ещё есть несколько часов, пока совсем не стемнеет. Мы должны использовать свет. — Зачем? — спросил Энзель. — Чтобы зря тратить силы? Лес над нами издевается. Звездоглазы были правы: он растёт вместе с нами. С таким же успехом мы можем остаться здесь сидеть. — Нет, — воскликнула Крете, — мы этого не сделаем. Мы будем идти, пока сможем. Каждый пройденный метр — это шаг в правильном направлении, потому что он доказывает, что мы ещё не сдались. Чтобы показать, насколько она серьёзна, Крете энергично шагнула вперёд в высокую траву. Бульк! — и она исчезла. Энзель был слишком ошеломлён, чтобы что-то предпринять. Его сестра ушла под луг, как в пруд. — Крете! — наконец закричал он и вскочил. Ответа не последовало. Синяя трава двигалась кольцевыми волнами, как вода, в которую бросили тяжёлый камень. — Крете! — отчаянно закричал Энзель. — Зыбкая трава, — сказала стоявшая рядом с ним орхидея. — Это не трава, это буйная подлость. Мне стыдно расти рядом с таким. Энзель уже слишком много пережил, чтобы впечатлиться говорящим растением. Орхидея открыла горизонтальную щель в середине своего цветка, которая, казалось, была её ртом. Два лепестка, росшие из её задней части, раскрылись, как веки, и обнажили два возмущённо глядящих глаза. — Что ты сказала? — только и спросил Энзель. — Я сказала: зыбкая трава. Кажется, что она всего несколько сантиметров в высоту, но на самом деле она десять, двадцать метров. Это не луг, это яма, полная травы.
— Как мне её вытащить? — Энзель очнулся от оцепенения и взволнованно забегал перед орхидеей. — Тебе? Никак. Если ты туда полезешь, то сам утонешь. Задохнёшься в стеблях. — В этом можно задохнуться? — Конечно. Твоя маленькая спутница сейчас именно этим и занимается. Чем глубже проваливаешься, тем меньше воздуха получаешь. За стебли нельзя ухватиться, они острые как бритвы. В конце концов, задыхаешься в траве. Я уже много раз видела, как туда прыгают косули. Через пару недель они снова выходят на поверхность — но только скелеты. Растущая трава выталкивает их наверх. Жуткое зрелище. Энзель взволнованно метался по краю луга. — Что же мне делать? Что же мне делать? — Может быть, ей повезёт, и её съест травяной мурена. Тогда ей не придётся долго задыхаться, — в голосе орхидеи прозвучала утешительная нотка. — Что за травяная мурена? — Ну, какой же травяной пруд без мурены! Если травяная мурена её поймает, всё быстро закончится. Один укус, и дело в шляпе.
Травяная мурена лежала на дне травяного озера и скучала. В этом не было ничего необычного: травяная мурена всегда скучала. Она различала семь видов скуки: утренняя скука, полуденная скука, обеденная скука, послеобеденная скука, вечерняя скука, полуночная скука и ночная скука. Они отличались друг от друга лишь тонкими нюансами, лёгкими градациями тоски, которые могли воспринимать только травяные мурены. Спасение во сне тоже не приходило, потому что травяные мурены не спят. Им не нужен отдых, потому что их жизнь настолько бедна событиями, что они почти не тратят энергии. Не то чтобы мурена страдала от скуки: она была для неё настолько обыденной, что она научилась ею наслаждаться. Напротив, травяная мурена ненавидела любую форму отвлечения, любой призыв к пробуждению от её похожей на сон летаргии. Но с этим ей время от времени приходилось мириться, ведь мурены тоже должны питаться, а они плотоядны. Поэтому она время от времени выходила на охоту, примерно раз в год, и ловила несколько белок или воробьев, запутавшихся в траве. Иногда в коварные заросли прыгала и косуля, тогда ей оставалось только скользнуть сквозь стебли и обглодать нежное животное.
— Что же мне делать? Что же мне делать? — Энзель в отчаянии стоял перед орхидеей. — Как я уже сказала: ты — ничего. А вот я. Я кое-что могла бы сделать. — Ты можешь ей помочь? — Конечно. Я могла бы опустить свой пыльцевой язык в траву и вытащить её. — Тогда сделай это! Давай же! — Лучше не надо. — Что? Почему нет? — Я не люблю вмешиваться в чужие дела. Как бы я ни презирала зыбкую траву: это мой сосед. Я здесь живу. У меня здесь корни — и это не просто фигура речи! Ты просто иди дальше. А я останусь здесь. Я должна приспосабливаться. Энзель ходил кругами и лихорадочно соображал, как уговорить орхидею спасти его сестру. — Скоро всё закончится, — сказала орхидея. — Это никогда не длится долго. — Сколько? — Уже немного меньше. Энзель ударил себя кулаками по вискам, чтобы ускорить мыслительный процесс. Орхидея попыталась его утешить: — Могу предположить, что длинный стебель травы обвился вокруг её шеи и задушил её. Или обезглавил. Тогда все было бы уже позади. Энзелю вспомнились звездоглазы. — Послушай: что, если мы тебя пересадим? — выпалил он очень быстро. — Что ты имеешь в виду? — Если ты вытащишь мою сестру, мы выкопаем тебя и пересадим туда, куда ты захочешь. Подальше от зыбкой травы. — Ты хочешь сказать, вы пересадите меня в место с приличным соседством? Подальше от этой больной зелени? — Да! Да! — Например, в тень тысячелетнего дуба? К ручью, в который я смогу пустить корни? Независимость от погоды? Собственное водоснабжение? Куда-нибудь, где нет муравьёв-листорезов? — Куда угодно. — Хм-м-м... — Цветок закрыл свои цветочные глаза и, казалось, взвешивал предложение.
Крете тем временем достаточно оправилась от испуга, чтобы запаниковать. Она затопала ногами, но это принесло ей лишь новые порезы на босых ногах. Стебли окружали её всё плотнее, давление со всех сторон становилось всё сильнее, трава забивалась ей в рот, нос и уши. «Я задыхаюсь, — подумала она. — Я тону на суше».
Орхидея открыла глаза и благосклонно посмотрела на Энзеля. — Хм... Ладно — договорились! — Вытащи её! Вытащи её! — закричал Энзель. Растение вытянуло из своего венчика невероятно длинный язык и протянуло его Энзелю. — Сначала ударь по рукам, — сказала она. Энзель ударил по рукам. Пыльца взлетела и защекотала его нос. Орхидея опустила свой язык в озеро из травы. Она некоторое время водила им там, как рыбак, забрасывающий наживку в нужное место. Затем замерла. Ничего не произошло. — Что такое? — нетерпеливо спросил Энзель. — Терпение, — проворчало растение. — Ты ловишь не в том месте! — Тише. Энзель замолчал.
Травяная мурена тяжело скользила сквозь травяные заросли. Каждый изгиб давался ей с трудом, каждое движение было неприятным. Она стонала от недовольства. Охота. Эта часть её существования была самой ненавистной, но в то же время она знала, что её существование не продлится долго, если она не будет заниматься этой деятельностью хотя бы время от времени. Последняя охота была уже давно, то была тощая птичка, которую она к настоящему моменту полностью переварила. Ах, вот и жертва! Это была косуля? Четыре конечности, стройное тело, маленькая голова — это могла быть молодая косуля. Но почему у неё нет шерсти? Ну, это неважно. Шерсть у косуль всегда была самым неприятным. Слишком жёсткая, да ещё и все эти волосы! Может быть, мольбы травяной мурены были услышаны, и ей наконец-то прислали косулю без шерсти. Она машинально коснулась языком кожи своей жертвы. Та вздрогнула от прикосновения и на ощупь не казалась особо прочной. Лёгкая, очень лёгкая добыча. Травяная мурена была в восторге.
Крете ничего не видела, но почувствовала что-то слизистое, скользнувшее по её голени. Она отдёрнулась и одновременно почувствовала что-то другое, обвивающееся вокруг её лица. Это была верёвка? Крете смело схватилась за это. Тем временем мурена открыла пасть как можно шире, чтобы откусить как можно больший кусок от своей жертвы. Затем она вытянула голову вперёд и щёлкнула зубами.
Растение, стеная, начало втягивать свой язык. — Ты её вытащила? Ты её вытащила? — кричал Энзель. — Хррмфф! — издала звук орхидея. — Быстрее! — крикнул Энзель. Растение от напряжения изменило цвет. — Харрррмпф! — простонала она. Было очевидно, что она действительно старается.
Мурена потеряла четыре зуба, когда её челюсти захлопнулись в пустоте. Её жертва внезапно исчезла, скользнув вверх. Это было неслыханно и вообще невозможно. В ярости она немедленно бросилась в погоню.
Голова Крете вынырнула из зыбкой травы. Она крепко держалась за язык, фыркала и выплёвывала пучки синей травы. Орхидея подняла Крете из взволнованной колышущейся массы. Она барахталась над лугом и жадно глотала свежий воздух, когда мурена вынырнула под ней и разинула свою многозубую пасть. — Мурена! — закричал Энзель. — Выше! Выше! — Хирррмпф! — издала звук орхидея и подняла Крете так высоко, как только могла.
Мурена щёлкнула зубами, во второй раз впустую, на этот раз потеряла три зуба, яростно потрясла заболевшей челюстью и снова нырнула в травяное озеро. Ещё немного шелеста и волнения в траве, со дна озера раздалось разочарованное шипение, затем снова воцарилась тишина. Орхидея мягко опустила Крете между собой и Энзелем. Крете упала на колени, хрипела и откашливала куски травы. — Вот видишь! — пожурил её Энзель, подняв указательный палец. — Не каждый шаг — это шаг в правильном направлении.
III. Дом
Наверняка он хорошо снабжен нескоропортящимися продуктами, такими как сардины в масле, запечатанный воском мед, соленая сушеная рыба, сухари и шоколад с изюмом. Вероятно, там есть теплые одеяла для ночи, свечи и штормовые фонари от темноты, а также назидательная литература для измученной детской души. И, конечно, он регулярно проверяется Лесными Стражами, так что у этой истории будет скорый и счастливый конец. Ура!"
Пессимисты же воскликнут: "Вы что, с ума сошли? Вы посмотрите на остальные страницы книги - разве это похоже на скорый конец? Это дом проклятой ведьмы! Она сожрет бедных детей и высосет их души или что-то в этом роде! Бегите, дети, бегите, что есть мочи!" Ученики суперпессимиста Хумри Шиггаля скажут: "Этот дом, возможно, пуст. Это нас огорчает, потому что, если дети в него войдут, там не будет никого, кто мог бы им помочь. Если он полупуст, то это огорчает нас еще больше, потому что это может быть одно из замонийских полуживых существ или духов со злым нравом, которое там прячется, например, Сумеречный демон или Грузельмума, а они, как известно, не очень хорошо относятся к маленьким детям. Но если он полон, то тем более спокойной ночи, потому что тогда, согласно принципам нашей философии, его содержимое может быть только самым худшим, а именно - ведьмой. Так что оставьте всякую надежду, дети, вы все равно пропали!"
Друзья рикшадемонической литературы ужасов будут восторженно хлопать в ладоши: "Ну, наконец-то - ведьмин дом! Ведьмины дома - это гарантия поворота к мурашкам по коже. Мы уже читали истории о ведьминых домах, в которых были сложены головы. Ведьмины дома нередко оклеены лицами или построены из костей, на фундаменте из трупов. Прямо туда, дети, - будет кровавая баня!"
Наттиффтоффские муниципальные политики среди читателей приподнимут очки для чтения и спросят: "Дом? В этом месте леса? Это документально подтверждено в земельном кадастре? Насколько нам известно, в этой части Большого Леса нет разрешений на строительство, даже для Цветных медведей. Фундамент проверен официальным архитектором? Есть ли в нем предписанные для лесных домов окна, защищенные от Лиственных волков? Если нет, дети, то это, вероятно, ведьмин дом, и вам остается только обратиться к Замонийскому основному закону (который вы, надеюсь, всегда носите под мышкой), а именно к § 445 E: Там изложены защитные положения, которыми замонийские несовершеннолетние пользуются до 50-летнего возраста от общественно опасных форм существования. Прочтите их ведьме, ведь она, разумеется, является общественно опасной формой существования. Остается только надеяться, что она примет замонийское законодательство в качестве ориентира".
Самые умные читатели, такие как профессор доктор Абдул Соловейчик и выпускники его Ночной школы, скажут: "Хм. Нам следует извлечь урок из прошлых событий и взглянуть на это чисто эмпирически. Опыт последних дней учит нас, что в этом лесу не все является тем, чем кажется. Возможно, это вообще не дом. Возможно, это даже не что-то. Вероятно, это всего лишь очередная из этих галлюцинаций, вызванных растворимыми в кислороде выделениями секрета ведьмы. По нашим (частично статистическим, частично гипотетическим) расчетам, бедные дети снова находятся там, где была похоронена Лесная Паучья Ведьма, и просто воображают себе все это. Наша рекомендация: дети, разворачивайтесь и возвращайтесь в лес".
А Лаптантидель Латуда скажет: "Ах, боже мой, ведьмин дом. Теперь он действительно вытаскивает из своего старого цилиндра еще и самое старое кролика замонийской литературной истории. Почему бы ему сразу не убить весь свой персонал метеоритом? Тогда у мучений хотя бы был быстрый конец. Но я говорю: Тише! Возможно, это ничего из этого. Возможно, этот дом ни пуст, ни полон. Возможно, вам просто стоит продолжить чтение и наслаждаться моментом".
"Вот это место! Здесь я хочу жить! Здесь я хочу умереть!" - взволнованно воскликнула Орхидея.
Поляна была действительно необычайно красива. Сочная зеленая лужайка, украшенная маргаритками и маками, кристально чистый лесной ручей, протекавший посередине, вокруг великолепно выросшие дубы. Несколько берез. Никаких черных грибов. Никаких обугленных стволов деревьев. Вместо этого маленький забавный домик с садиком перед ним.
"Закопайте меня! Закопайте меня!" - кричала Орхидея. "Вот здесь. Рядом с домом. В полутени! Там, где течет ручей. У маргариток".
Энзель сделал, как пожелала Орхидея. Они медленно пошли к дому. Внутри никто не шевелился.
Подойдя к ручью, Энзель начал руками рыхлить мягкую землю.
"Отсюда я смогу пустить корни прямо в ручей", - восторгался цветок, когда Крете утрамбовала землю вокруг него.
"Привет, ребята!" - крикнула Орхидея маргариткам. "Будем добрыми соседями!"
Маргаритки не шелохнулись, что Крете посчитала хорошим знаком.
Брат и сестра еще раз поблагодарили за оказанную помощь. Но Орхидея была уже слишком занята тем, что знакомилась с травами в окрестностях.
Энзель и Крете с опаской обошли вокруг дома. Перед лестницей на веранду они остановились и осмотрели небольшой сад. У Энзеля, который обычно последовательно презирал овощи, потекли слюнки. Цветная капуста. Помидоры. Ревень. Редис. Петрушка и зеленый лук. Морковь и лук.
"Это дом ведьмы", - вдруг сказала Крете.
"Мне все равно, чей это дом", - проворчал Энзель, уставший, изголодавшийся и раздраженный. Он бродил по лесу уже несколько дней. У него были галлюцинации, он убежал от существа с тысячью голосов, видел растения с мордами животных, горящие, танцующие, стонущие деревья. Он разговаривал со Звездоглазами. Он летал в космосе и упал на землю. Он больше никого и ничего не боялся, даже ведьмы. Он был голоден, как Лиственный волк. Если и была какая-то ведьма, ей следовало остерегаться, чтобы не быть съеденной им.
"Кто бы это ни был, его или ее нет дома. Возможно, это станция Лесной стражи. Мы до сих пор не знаем, есть ли вообще ведьма".
"Я ее видела. Ты ее слышал".
"Это не меняет того, что это не может быть домик Лесной стражи".
"Откуда ты знаешь, что здесь никого нет?" "Потому что никто не выходит".
"Так и работают ловушки. Кто-то сидит внутри и делает вид, что его нет".
Энзель замолчал. Потом ему пришел в голову план:
"Мы еще посмотрим, ведьмин ли это дом. Убежать мы всегда успеем. Если это ведьмин дом, и ведьмы нет дома, мы, возможно, найдем что-нибудь поесть. Или мы разграбим сад. Мы могли бы ее обмануть. Что в этом плохого?"
У Крете кончились аргументы. Она тоже была так утомлена и голодна, что это пересилило ее страх.
"Ты первый", - сказала она.
"Ладно", - ответил Энзель и ступил на лестницу.
"Я бы на вашем месте еще раз хорошенько подумал", - сказал голос, уже хорошо знакомый им обоим.
Они обернулись. Позади них, в траве на поляне, сидел горный тролль и обрывал лепестки у маргаритки.
"Я знаю, что вы больше не придаете значения моим советам, но в прошлый раз вам было бы лучше прислушаться ко мне. Кхе-хе-хе".
"Ты знаешь, что в этом доме?" - настороженно спросила Крете.
"Конечно, нет. Только сумасшедший добровольно пойдет в дом, стоящий посреди одинокого леса. Есть страшные истории, в которых об этом рассказывается".
"Что бы ты нам тогда посоветовал? Ты же обычно все знаешь", - спросила Крете.
"Я вам больше ничего не советую. Я буду остерегаться давать советы. Их все равно пропустят мимо ушей". Тролль обиженно выпятил нижнюю губу и опустил взгляд на оборванную маргаритку. "Я предлагаю альтернативы для обсуждения, вот и все. Разве не это делают друзья, когда хотят помочь, но не хотят никому навязывать свою волю? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я еще тренируюсь".
"Это дом ведьмы?" - строго спросила Крете, чтобы прервать болтовню тролля.
"Я ничего не знаю о ведьме. Я знаю только о слухах о ведьме. Я также знаю о слухах о ведьмах, которые привели к тому, что невинных дам, которые вовсе не были ведьмами, сожгли как таковых. Темная глава в замонийской истории".
Тут тролль выбил Крете из колеи.
"Ты хочешь сказать, что мы все это выдумываем? Крики в лесу? Мертвых животных?"
"В Большом Лесу и не такое представится, по сравнению с тем, что видели вы. У ночи много голосов". Тролль помахал руками над головой и закатил глаза, чтобы изобразить умственное расстройство. "Это может быть дом ведьмы - верно. Но это может быть и домик Лесной стражи. Это может быть и дом дождевого червя, который преуспел в сфере недвижимости. Я действительно не знаю. Я не привык проникать в уединенные лесные домики с намерением совать нос в чужие дела. Или совершать кражу со взломом".
Горный тролль ухмыльнулся.
Удивительно, как меняются вкусы на протяжении жизни. Принято считать, что с возрастом они становятся тоньше, изысканнее и чувствительнее. Я считаю это идеализацией процесса старения, слухом, пущенным сластолюбивыми старикашками, которым трудно смириться со старостью. Я убежден в обратном. Я думаю, что вкус наиболее восприимчив и чувственен в детстве. Как чутко он реагирует на горечь и терпкость пищи, как тянется к сладкому. Как строго отделяет съедобное от несъедобного, как радикально осуждает одни продукты, чтобы возвысить другие. Вот что я называю истинным гурманством, полным страсти и неприятия. Пылкая, слепая любовь и яростная, несправедливая ненависть, и ничего между ними нет. Во взрослом возрасте на такое уже не способен, начинаешь взвешивать, становишься мягким и беззубым, принимаешь любые размякшие овощи. С каждым годом не только зубы, но и язык и нёбо притупляются, изнашиваются от повседневного использования и разнообразия блюд и специй. Считается вершиной гурманской изысканности умение проглотить живую, дышащую, воняющую гнилой медузой устрицу, а на самом деле это лишь печальный конец карьеры вкусовых рецепторов.
Только в детстве можно по-настоящему оценить простую еду, бесконечно ею наслаждаться. Ах, соусы моего детства! Жидкий, но ароматный свиной сок к жареному рису. Густая кисло-сладкая подливка к жаркому из говядины с изюмом. Светлый сливочный соус с каперсами к припущенной тефтельке из телятины. Соусы открывают детям свои самые сокровенные тайны, от взрослых же они скрываются. Это могут быть темные воды, на дне которых покоятся затонувшие города. Бурные потоки лавы, прокладывающие себе путь через картофельные горы. Для взрослых это тарелка с лапшой и томатным соусом, для детей это многократно запутанный магический узел в делающей неуязвимым драконьей крови, который можно распутать только самым ловким обращением с волшебной вилкой. Положите руку на желудок: есть ли что-нибудь вкуснее того соуса, который получается при жарке свиных отбивных в масле? Золотистая соленая подливка из масла и мясного сока, перемешанная с хрустящими мясными волокнами, соскобленными со дна сковороды, - ааах! Но что стоит в меню наших замонийских ресторанов? Написано ли там: "Добро пожаловать, здесь есть тот самый золотистый соус, который сам собой получается при жарке свиных отбивных? Сегодня с картофельным пюре?" Нет, там написано: "Трижды жареный пещерный тритон с салатом из ушей летучей мыши". Или: "Сырая печень саламандры в соусе из слез геккона". "Форелевое жабо в оболочке из телячьего мозга". Считается кулинарной изысканностью требовать все новые и неизвестные блюда, а на самом деле это лишь упадок, притупление, старческое одряхление вкусовых рецепторов. Наблюдая за взрослыми во время еды, редко увидишь горящие глаза или гордость первооткрывателя. Ни восторга, ни неприятия. Никто не играет с едой! Как будто они сидят с заложенными ушами на концерте скрипичной музыки.
Истинная юность, невиннейшее, чистейшее наслаждение заключается в том, чтобы извлекать все те же самые ощущения из самых простых любимых блюд. И что может быть проще и в то же время неизменно вкуснее, чем клецки в густом соусе?
"О-ох-а-ам-ня-ам!" - издал Энзель и закатил глаза от восторга. "Это были лучшие клецки, которые я когда-либо ел". Крете вылизала свою тарелку. "Хм", - проворковала она. "Это лучшее, что я вообще когда-либо ела". Энзель ослабил пояс штанов и еще глубже откинулся на стуле. Он закинул ноги на стол. "Смотри", - сказал он. "Я могу закинуть ноги на стол". Крете сделала то же самое и ухмыльнулась. "Знаешь, что я сейчас подумал?" - спросил он. "Что?" "Я подумал, что это, возможно, ничей дом". "Ах. А кто же тогда приготовил клецки?" "Вот именно. Кто-то приготовил клецки и ушел. И больше не вернется. Не спрашивай меня, почему я так подумал". "Знаешь что, Энзель?" "Что?" "Я подумала точно так же". Они помолчали, глядя друг на друга. Энзель задумался. Крете продолжала, обводя взглядом уютную обстановку дома: "А потом я подумала: может быть, мы уже выросли. Может быть, нам больше не нужно возвращаться домой. Может быть, мы уже дома". "Ты могла бы готовить, а я бы ухаживал за садом", - предложил Энзель. "Или наоборот". "Мы больше никогда не пойдем в школу". "Никогда". Оба вздохнули. Крете стала серьезной. "Ты думаешь, мы могли бы жить вместе, как отец и мать?" "Нет. Так не пойдет. Но мы будем жить вместе, как Керро и Герти ван Хакен. Наши соседи. Они тоже брат и сестра". "Но у ван Хакенов не все дома. Они разговаривают со своей печкой. Три раза в неделю к ним должен приходить доктор для головы". "Это был всего лишь пример". Энзель, покряхтывая, встал из-за стола (ему больше не нужно было сползать со стула, как дома) и подошел к горшку, чтобы вылизать остатки соуса. Он поднял крышку и увидел, что горшок снова полон клецок. Четыре штуки. В густом соусе. Энзель уронил крышку. Его меньше напугало бы, если бы горшок был полон червей. "Крете?" "Да?" "Это дом ведьмы". "Откуда ты знаешь?" "Клецки снова появились". Крете вскочила, а Энзель уже был на пути к двери. "Хоррр!" - раздалось из леса. "Быстро!" - прошептал Энзель. "Ведьма возвращается. Нам нужно убираться отсюда!" Энзель медленно открыл дверь и выглянул, чтобы посмотреть, не появилась ли ведьма на поляне. Нет, ее не было на поляне. Она стояла прямо перед ним. Энзель отшатнулся, и ведьма вошла в комнату, шаркая ногами. Она выглядела именно так, как ее представляют брат и сестра, да и, собственно, все: высокая, худая, горбатая, одетая в черное платье, с остроконечной черной шляпой на голове. Длинный кривой нос торчал из морщинистого лица, злобные маленькие глазки сверкали на Энзеля, красные радужки, фиолетовые зрачки. Зеленоватая чешуйчатая кожа, покрытая бородавками и толстыми венами, зелено-коричневые руки, желтые длинные ногти на длинных пальцах. Ведьма, ухмыляясь, показала свои гнилые зубы и провела по ним языком, который был похож на крысиный мех. От нее исходил запах, напоминающий компост, от которого Энзель и Крете еще больше отпрянули. "Ах, гости, гости, гости!" - прохрипела старуха голосом, напоминающим говорящую козу. "Давно у меня не было гостей". Ведьма повернулась и заперла дверь на деревянный засов, затем повернулась к брату и сестре. "Дайте-ка подумать. Да, последний гость - это был такой Цветной медведь. Из Лесной стражи или что-то в этом роде, он был в щегольской форме. Он заблудился в лесу, был полуголоден. В мое отсутствие он съел мои клецки, которые были приготовлены для моего ужина. Не следовало ему этого делать. Поскольку у меня больше не было ужина, мне пришлось съесть его. Я съела его живьем. Так сохраняются самые важные витамины". Энзель оглядел комнату в поисках подходящего оружия. В конце концов, это была всего лишь старая, дряхлая женщина, а не сильный лесной бандит. Хорошо, она была в три раза выше его, но их было двое. Большого половника над очагом должно было хватить, чтобы вывести ведьму из строя. Словно ужасная старуха прочитала его мысли, она бесшумно, как гигантская змея, скользнула к очагу и преградила путь к половнику. "Предпоследние гости - это были три лесных бандита. Сильные, мускулистые парни, настоящие йети. Они пришли ночью, позарились на мои сокровища. Одному я сломала ноги. Другому завязала руки узлом. Третьего я сразу съела. Остальных позже". Энзель задумался, не блефует ли ведьма, но в ее голосе было что-то самоуверенное, что-то гибкое в ее движениях, что заставило его отказаться от плана с половником. "Ну, с вами двумя красавчиками такого, конечно, не случится. Вы не похожи на тех, кто крадет ужин у старых, беспомощных женщин". Ведьма постучала острыми ногтями по крышке горшка. Затем она медленно провела ногтем указательного пальца по крышке, издавая высокий и неприятный звук, от которого у Энзеля и Крете волосы встали дыбом на затылке. «Вам тоже не поздоровится, ведь клецки отравлены», — небрежно пробормотала она. — Отравлены? — выдохнула Крете. — Хм, — задумчиво протянула старуха. — Яд шляпочных грибов ведьмы. Только ведьмы невосприимчивы к нему. Все остальные живые существа от него сходят с ума. — Хоррр! — раздалось из леса. Ведьма резко обернулась и замерла. Она сузила глаза в крошечные красные точки и прислушалась. — Хоррр! — снова раздалось снаружи. Уродливая женщина взмахнула руками и издала странный звук, напоминающий стрекотание сверчка. Затем ведьма становилась все тоньше и тоньше. Энзель и Крете крепко обнялись. — Она уменьшается! — прошептала Крете. Ведьма действительно становилась все уже и меньше, пока не превратилась в черно-зеленый щупалец растения, хлеставший по комнате. Наконец, она с чавкающим звуком исчезла в щели в полу.
— Хоррр! — раздалось снаружи. — Что происходит? — вскричала Крете. — Мы сходим с ума? Из-за отравленных клёцок? — Нам нужно выбираться отсюда! — решил Энзель и побежал к входной двери, чтобы открыть ее. Он снял деревянный засов и открыл дверь. — Стой! — крикнула Крете, стоявшая позади него. — Там что-то есть! У опушки поляны стояла фигура, высокая и черная, она ждала в тени деревьев. На ней была остроконечная шляпа. И она стояла между двумя березами. «Ведьмы всегда стоят между березами», — одновременно подумали Энзель и Крете. — Как она туда попала? — спросил Энзель. — Это не та же самая, — сказала Крете. — Это другая ведьма. — Она все еще на опушке леса. Давай исчезнем через заднюю дверь, — прошептал Энзель. — Здесь нет задней двери. Фигура пришла в движение, она приближалась к дому. Брат и сестра отступили в комнату. — Давай запрем дверь, — крикнул Энзель. — Нет, мы убежим в лес. Еще есть время. — Может быть, там их еще больше. Может быть, здесь много ведьм. Вдруг задрожала земля, и Энзель и Крете пошатнулись от двери. Они замахали руками, чтобы не потерять равновесие. Половица завизжала. Деревянная ложка задрожала на стене. Ведро начало танцевать по комнате. — Что это? — прошептала Крете. — Землетрясение? Фундамент дома завибрировал, как танцпол. По стенам пробежали судороги, некоторые доски вылезли вперед, другие выгнулись назад. Дерево пустило пузыри из густой прозрачной смолы. Вся хижина вдруг словно ожила. Половицы сдвинулись, стулья разлетелись на части и провалились в темные щели, стол заковылял по комнате на высоких ножках. Перед окнами опустились занавески из густых лиан, из сучков на дверной раме выросли ветки и сплелись в густую растительную решетку. Крышка на кастрюле зазвенела, как будто в ней закипало молоко, затем кастрюля перевернулась. Из ее края вывалились толстые белые личинки, которые лопнули и сгорели на горячей плите. — Мы больше не сможем выбраться, — отчаянно закричала Крете. Поднялось адское зловоние, запах серы и компоста наполнил комнату, как будто открылись врата в преисподнюю. Стены начали пульсировать, их древесный рисунок исчез, успокаивающий коричневый цвет сменился темно-фиолетовым, распространилась сырость, здесь и там выросли отверстия. Стены чавкали и начали поглощать горшки и сковородки, висевшие на них. Раздался долгий, чавкающий звук, когда ковер под ногами Энзеля и Крете засосало в пол. Там, где раньше висела деревенская люстра, теперь с потолка свисал большой, тугой мешок, который изнутри светился разноцветными огнями и ритмично пульсировал. То, что раньше было мертвым деревом, теперь было живой массой из колышущейся растительной плоти. — Ведьма! — закричал Энзель, который вдруг все понял. — Но где она? Она здесь? — Крете в ужасе огляделась. — Нет. Мы в ней. — Что? «Дом — это ведьма. Ведьма — это дом. И она только что начала нас есть». Сначала плита раскалилась докрасна, затем ослепительно побелела. Волна тепла прокатилась по комнате, когда печь с шипением расплавилась и белой жидкостью просочилась в пол. Стол разлетелся на множество частей и осколков, которые также были поглощены колышущейся землей. В стенах дыры щелкали, как голодные пасти, из них сочилась густая белая слизь. Что-то очень большое сладострастно застонало, и в полу открылись новые дыры. Комната начала наполняться желудочным соком.
Ну, вот и все. Так заканчивается замонийская сказка об Энзеле и Крете: Комната начала наполняться желудочным соком. Вы же знаете, что все замонийские сказки традиционно заканчиваются трагически, не так ли? Погодите, минутку! Есть еще одна фраза: Сказка кончилась, пошла мышка, и кто ее поймает, тот сделает из нее большую меховую шапку. Так заканчивается раннезамонийская версия Энзеля и Крете – наши предки, должно быть, были довольно бесчувственны к мелким животным. Что ж, теперь это действительно все. И если они не умерли – что при описанных обстоятельствах крайне маловероятно, – то они живы до сих пор.
Пользуясь случаем, хочу еще раз четко заявить, что использованный в последнем предложении прием является моим запатентованным изобретением, а не, как это часто ошибочно полагают, моего уважаемого коллеги-писателя Хорхена Шмё. Речь идет о мифорезовской угрозе события, которая к настоящему времени стала стандартным приемом замонийской литературы. Почти в каждом значительном произведении современной литературы вы встретите фразы вроде «Это еще аукнется» или «Он и подумать не мог, какое важное значение будет иметь этот флагшток в его жизни». Она служит для поддержания читательской лояльности у тех читателей, которые не отличаются высокой концентрацией внимания. Меня упрекали в том, что я апеллирую к низменному инстинкту любопытства, но я считаю, что в наше время всеобщей перегрузки раздражителями (друидские рынки, танцевальные мероприятия, ярмарки демонов) это законное средство удержания публики. Я бы не стал особо подчеркивать, что этот прием был впервые применен мной в моем романе «Говорящая печь» («Дверца печи открылась сама собой, и то, что произошло дальше, должно было придать жизни угольщика поворот, который…» и т. д. С. 34), но в последнее время участились некомпетентные голоса, утверждающие, что угроза события впервые была использована в романе Хорхена Шмё «Ни одна чаша не миновала» («Он посмотрел в чашу. То, что он увидел в ней, было будущим. И оно было полно событий, настолько авантюрных…» и т. д. С. 164). В связи с этим только следующие факты: «Говорящая печь» вышла весной того же года, когда был опубликован роман Хорхена Шмё «Ни одна чаша не миновала». Птицы ликовали в моем саду, и первые ростки спаржи пробивались сквозь комья земли, когда я держал в руках первый отпечатанный экземпляр моего романа. Столько о сезонных обстоятельствах приурочивания даты публикации моей книги. Теперь о Шмё: я точно помню день, когда его роман поступил в книжные магазины: когда я пошел в город, чтобы приобрести его новое произведение, с деревьев начала опадать листва. Прохладный ветер пронесся по переулкам и возвестил приход осени. Нужно ли мне выражаться еще яснее?
В дверях стоял медведь. Его грязная шерсть, усеянная иголками, едва намекала на то, что когда-то она была золотисто-белокурой. Взгляд был диким, решительным и в то же время пугающим, впечатление усиливалось тем, что радужка его правого глаза была красной, а левого — желтой. Он был одет в изодранную коричневую мешковину, свисавшую до колен, и темный кожаный жилет, а на голове носил один из больших зонтиков шляпочных грибов. В лапах он сжимал тяжелый топор. Казалось, медведь не обращал внимания на детей. Он поднял топор в приветственном жесте и прорычал громовым голосом: — Хоррр! Я здесь! Я пришел убить тебя. Готовься к мучительной кончине, проклятая ведьма! Затем он повернулся к Энзелю и Крете, наклонился к ним и сказал заметно более мягким голосом: — Привет, детишки! Меня зовут Борис Борис. Я сумасшедший. — Он покрутил пальцем у виска. — Я пришел освободить вас и прикончить ведьму. — Его палец теперь указал на его горло и изобразил горизонтальный разрез. Затем он выпрямился, зашагал по комнате и огляделся. Стены дрожали, словно в тревожном ожидании. — Примерно так я себе это и представлял, — тихо проворчал медведь. — Отвратительно. Он посмотрел вверх и окинул взглядом набитый мешок, свисавший с потолка. — Ага! Это, должно быть, мешок с бедными душами животных. Все как в моих снах. Хоррр! Медведь упер кулаки в бока. — Вам бы сейчас увидеть этот дом снаружи. Он выглядит как один из этих отвратительных войлоков. Только намного больше. Ведьма опасно застонала и зарычала, но медведь не обратил на это внимания. — Послушайте, дети: я Борис, Безумец из Большого Леса. Идиот, который попробовал ведьминых грибов. Кстати, на вкус они были не так уж и плохи, но последствия… ну, проехали. Мы уже встречались, при довольно неблагоприятных обстоятельствах. Помните выдолбленное дерево? Существо со множеством голосов? Это был я. Энзель и Крете переглянулись с широко раскрытыми глазами. Медведь снял шляпу. Он с отвращением посмотрел на нее, а затем бросил на пол. — Извините за несколько аппетитный головной убор, но ведьмины грибы случайно моего размера. В лесу нужно защищаться, там есть коварный клещ, который может передать энцефалит. А у меня и так хватает проблем с моим мозговым ящиком. Он трижды постучал костяшкой пальца по черепу. Энзель задумался, действительно ли существует этот медведь. Он вспомнил принца Хладнокровного, Лиственного волка, Таинственных лесничих, клецки, дом. И вот теперь — сумасшедший медведь. Может, он сейчас превратится в кухонный стул. Или в шляпочный гриб. В этом лесу нельзя было ни на что положиться. Борис Борис с пониманием посмотрел на Энзеля и положил ему лапу на плечо. — Я знаю, что ты сейчас думаешь, мой мальчик. Галлюцинации. Здесь, в лесу, это большая тема. Но я могу тебя успокоить: у меня есть галлюцинации. Но я не галлюцинация. Хоррр. Энзель не был в этом до конца уверен. — Дело в том, что этот дом — не дом, а… ну, честно говоря, я и сам толком не знаю. Но нам всем будет проще, если мы будем называть его «Ведьма». — Медведь подбирал слова. — Она… ну, скажем так, нечто, что растет под землей в Большом Лесу. Она умеет создавать дурные сны. Она убивает животных леса своим пением. Она похищает их души, и я боюсь, что она ими питается. Это ясно. Чего я не знаю, так это того, откуда она взялась. — Она прилетела с другой планеты, — пояснил Энзель. — Она прилетела с другой планеты? Откуда ты это знаешь? — Я, э-э, когда-то был метеоритом и летал в космосе, и э-э… Энзель запнулся. — Ты когда-то был метеоритом? — Борис широко ухмыльнулся. — А я-то думал, это я здесь с прибабахом. Если мы выберемся отсюда целыми и невредимыми, парень, нам нужно будет вместе сходить к мозгоправу. Энзель покраснел. Медведь резко развернулся и закричал на стены: — Слышишь, ведьма? Я наконец-то здесь! Годами я брожу по твоему проклятому лесу, чтобы отомстить тебе! И каждый раз ты водила меня за нос. Но в своей жадности до детей ты забыла обо мне, верно? И теперь я здесь, чтобы прикончить тебя. Борис Борис замахнулся топором и с силой ударил им в пол. Ведьма завизжала, все пришло в движение. Энзель и Крете кувыркались, желудочный сок обжигал им руки и ноги. Медведь снова повернулся к детям: — Я знаю, я сумасшедший, и это уже не изменить. Иногда я часами думаю задом наперед, и я несу чушь, и мои руки живут своей жизнью. Но я не опасен для общества, честно. Я имею в виду, я же не хожу с топором и не убиваю людей или что-то в этом роде. Медведь снова взмахнул топором и вонзил его в противоположную стену. — Я научился жить со своими ограничениями. Хоррр! Хоррр! — кричал он, снова и снова вбивая лезвие топора в стены. Крете заметила, что дверь снова зарастает. — Мне кажется, нам лучше уйти сейчас. Дверь снова зарастает, — крикнула она Борису Борису. Медведь наклонился к ней, подмигнул и заговорщицки прошептал: — Это часть секретного плана. Затем он снова принялся за свою ужасную работу. Крете повернулась к брату. — Нам нужно уходить, пока дверь еще открыта. — Но у него есть секретный план, — ответил Энзель. Крете понизила голос: — Он сам сказал, что он сумасшедший. У него не все дома. Давай уходить. Она схватила Энзеля за руку и потащила его к двери. — Хоррр, — злобно зарычал Борис Борис и преградил детям путь. — Стоять! — приказал он им, угрожающе поднимая топор. — Вы же не хотите пропустить самое интересное. Энзель и Крете отступили. — Если я правильно помню, — прорычал медведь и сузил глаза, — то, возможно, я здесь вовсе не из-за ведьмы. Может быть, я хочу немного фернхахского гуляша. В конце концов, у меня не все дома. У меня есть медицинская справка! Хоррр! Дверь за спиной у медведя снова заросла. Он поднял покрытый слизью топор, оскалил зубы и двинулся на Энзеля и Крете. Пространство снова начало заполняться желудочным соком.
Я сказал: «Возможно». Возможно, им еще удастся освободиться. А может быть, они еще глубже вляпаются в неприятности. Возможно, у них теперь еще и безумный медведь на шее, жаждущий фернхахского гуляша. Возможно, это будет самый кровожадный, беспощадный, безнадежный финал в истории замонийской литературы! Я предупредил уважаемую публику! О да! Я хотел закончить историю на относительно милостивом месте. Набросить на нее благожелательную завесу преждевременного завершения. Но нет. Кому-то непременно нужно выпить чашу до дна. Что ж, пожалуйста! И с этого момента никаких мифорезовских отступлений.
Пространство снова начало заполняться желудочным соком. Энзель и Крете забрались в угол, куда едкая жидкость пока еще не доходила. Медведь перепрыгивал через лужи, размахивал топором и истерически хохотал. — Фернхахский гуляш! С желудочным соусом! Это мне понравится! Хоррр! Он молниеносно наклонился к Энзелю и Крете и прошептал: — Не бойтесь! Я говорю это только для того, чтобы сбить с толку ведьму. Нам нужно выиграть время, пока не прибудет подкрепление. Здесь вам безопасно. Снаружи сейчас начнется ад. Золотой медведь был действительно не в себе, в этом Энзель и Крете единодушно согласились. Они находились в пищеварительном тракте грибной ведьмы, который заполнялся разъедающей кислотой — и это их предполагаемый спаситель считал безопасным. Они горько пожалели, что не сбежали раньше. Борис Борис подошел к одному из заросших окон. Он выглянул сквозь щели наружу и торжествующе рассмеялся: — Превосходно. Все идет по плану. Подойдите, дети, посмотрите на это. Энзель и Крете осторожно подошли к окну. Они старались не наступить в желудочный сок и при этом не спускали глаз с Бориса Бориса и его топора. Крете выглянула сквозь дыру в сплетении ветвей на лесную поляну. Вся поляна была заполнена животными. Земляные гномики, зайцы, вороны, змеи, филины. Единорожки. Дятлы. Жуки. Муравьи. Многоножки. Голуби. Сверчки. Гусеницы. Бабочки. Лес почти не был виден. Каждое дерево, каждая ветка, каждая травинка были заняты. — Это мои люди, — не без гордости в голосе сказал Борис Борис. — Я — повелитель леса. Он наклонился вперед и что-то крикнул в окно. Это звучало так, будто несколько животных говорят одновременно. Рычание. Писк. Шипение. Чириканье. — Это одно из немногих преимуществ, когда теряешь рассудок, — объяснил медведь детям. — Я могу разговаривать со всеми животными в лесу. Я, конечно, не понимаю, что они говорят, но они меня понимают. Я что-то говорю, и они это делают. Они что-то говорят, а я это не делаю. Хоррр! Я — повелитель леса! — Он безумно захохотал. Затем Борис стал серьезным и положил лапу себе на грудь. — Дети: настал великий миг. Это исторический момент: битва за Большой Лес началась. Держитесь за оконную решетку! Скоро будет неспокойно. Медведь прокричал отрывистые звуки сквозь решетку из вьющихся растений. — Я отдал приказ земляным гномикам атаковать, — перевел он для брата и сестры. — Это первая волна. Мои пионеры. Держитесь, дети! Энзель и Крете вцепились в вьющиеся растения и сквозь щели наблюдали, как сотни земляных гномиков кувырком бросились в лесную почву. — Земляные гномики — это единороги земного царства! — восторгался Борис. — Они с невероятной скоростью прорываются сквозь землю и вонзаются в плоть грибной ведьмы. Храбрые маленькие ребята! Бесстрашен каждый из них. Энзель увидел, как со всех сторон на дом накатывают небольшие волны листвы. Лесная почва зашуршала, словно от сильных порывов ветра. Ведьма начала дергаться, сначала едва заметно, затем все сильнее и сильнее. Со всех сторон в ее плоть вонзались лесные гномики. — Она еще не знает, что такое испытывать боль на собственном теле. Мы покажем ей, каково это, — торжествующе крикнул Борис и ударил топором в пол. Ведьма мученически застонала. Борис Борис снова заковылял к окну. Он издал в вечернее небо какой-то хриплый звук, похожий на звук существа, запутавшегося в волосах Крете. Небо над поляной потемнело. — Становится темно, — заметил Энзель. — Не в это время суток, — ухмыльнулся Борис. — Это мои летающие отряды.
Борис Борис снова выпрямился и взмахнул топором. — Вставайте, дети, — крикнул он перепачканным грибной плотью брату и сестре. — Танец окончен! Мы уходим. Он сделал три быстрых шага к двери и принялся рубить вход. Дерево разлетелось в щепки, ведьма застонала тихо и надломленно. Энзель и Крете стояли рука об руку позади Бориса, как нетерпеливые пассажиры, желающие покинуть тонущий корабль. Комната действительно качалась, как ветхая лодка в неспокойном море, яростно подбрасываемая предсмертной агонией ведьмы. Окна потемнели, толстые комья земли посыпались сквозь щели. — Мы тонем, — закричала Крете. — Мы тонем вместе с ведьмой в лесной почве. Животные на поляне подняли взволнованный гвалт. — Помогите мне, дети! — крикнул Борис и бросил топор в корни. Теперь он обеими руками разрывал ветви, с силой, которой не смог бы развить ни один топор. Энзель и Крете тоже тянули ветви, но безуспешно. В комнату повалила влажная лесная почва. Дверь была свободна от ветвей, но больше половины выхода уже было завалено землей. Вокруг все скрипело и визжало, когда гриб снова погрузился в землю. — Скорее, дети, — крикнул Борис, подхватил Крете под руки и вышвырнул ее в оставшуюся щель. Затем он сделал то же самое с Энзелем. Оказавшись снаружи, брат и сестра сразу же вскочили на ноги, чтобы помочь Борису выбраться. В этот момент они впервые увидели грибную ведьму снаружи, черную и испещренную дырами, местами все еще светящуюся от яда насекомых. Она уже наполовину погрузилась в землю. Борис попытался выбраться из сужающейся дверной щели, но лесная почва под его ногами была слишком мягкой и рыхлой, он не мог зацепиться за нее. Руки Энзеля и Крете были слишком коротки, чтобы дотянуться до него. — Бесполезно, дети! — крикнул он сквозь щель. — Я уйду вместе с ведьмой. Борис принял воинственную позу, отсалютовал и запел:
"Треск нам не по душе, Ведь где треск, там часто и дым в клубах уже. И треск не оставит нас равнодушными, Ведь где треск, там лес горит неугасимо.
Ведьма тяжело дышала, и с новым рывком она еще глубже погрузилась в землю. — Он тонет! — закричал Энзель. — Он тонет! Крете заплакала.
"Да, пожарные - это мы, Мы здесь только для тушения огня, увы. Огонь - водой потушим, Жажду - пивом приглушим..." - пел Борис Борис из глубины.
"Послушайте, не могли бы вы попросить вашего друга петь немного потише?" - сказал кто-то позади Энзеля и Крете. В суматохе они не заметили, что говорящая орхидея стоит позади них и скручивает свои растительные пальцы. "Я действительно сомневаюсь, подходящее ли это для меня место. С тех пор как вы меня закопали, здесь настоящий ад…!" "Орхидея!" - воскликнул Энзель. - "Она может спасти Бориса!" "Давай же!" - приказала Крете растению. - "Наш друг. Он тонет!" "Это просто проклятие какое-то", - вздохнула орхидея. - "Куда бы я ни пришла, люди тонут в земле. Может быть, это место не так уж и хорошо, как я..." "Давай же!" - закричала Крете. - "Опусти свой язык вниз!" "Не знаю", - замялась орхидея. - "Я только начинаю здесь осваиваться. Я не хочу сразу вмешиваться в чужие дела. До того, как я впервые помогла вам, у меня все было сравнительно хорошо. А в благодарность за мою помощь вы пересадили меня в эту кризисную зону". "Пожалуйста", - взмолился Энзель: "Мы перенесем тебя в гораздо лучшее место". "Место без ночных нарушений тишины? Без военных действий? Без этого бездушного визга? Без мелких животных, которые роются в земле? Без летучих мышей, которые сосут мои цветы? Без гигантских грибов, которые с криками тонут в земле?" Голос орхидеи звучал скептически и укоризненно. "Все, что захочешь!" - хором воскликнули Энзель и Крете. "Ну ладно", - вздохнула орхидея. - "Но только последний раз". Она широко раскрыла свою пасть, развернула язык и опустила его глубоко в расщелину. "Борис!" - крикнула Крете. - "Держись за него!" "Мы здесь только для тушения огня, увы. Огонь - водой потушим, Жажду - пивом приглушим..." - донеслось в ответ от Бориса. "Язык!" - прокричал Энзель во все горло в щель. "Что, простите?" - спросил Борис. Стало так темно, что он почти ничего не мог разглядеть. "Там висит веревка! Хватайся за нее!" Борис ощупью поискал вокруг. Он нащупал что-то длинное, влажное в темноте и крепко схватился за это. "Это что, веревка? Да она вся мокрая!" "Держись крепче!" - закричала Крете. - "Мы вытащим тебя!" Орхидея, хрипя, втянула свой язык, как будто у нее на привязи был кит. Медведь был необычайно тяжелым, ничего подобного на ее языке еще не висело. Затем голова Бориса Бориса наконец-то высунулась из оставшейся щели. Он ухватился за траву, орхидея тянула и задыхалась, дети тянули его, как могли, пока он наконец не оказался на свободе. Он быстро выполз на четвереньках от ведьмы и поднялся на ноги. Шатаясь и задыхаясь, он остановился. Затем он обернулся и посмотрел на ужасное зрелище. Только сейчас он заметил, что гриб ведьмы стоял между двумя березами. Раздался еще один рывок, еще один безнадежный стон ведьмы. Она уже погрузилась в землю по самую шляпку. Борис и дети отступили к кругу светящихся муравьев. В лесной почве что-то с силой загрохотало, и остатки гриба опустились в землю. Глубокий подземный плач прокатился по лесу, распространился во все стороны и затих в сотне печальных отголосков между деревьями. Затем на том месте, где была ведьма, зияла лишь глубокая черная дыра. Небо над поляной теперь превратилось в шатер, полный танцующих разноцветных звезд. Освобожденные души неистово резвились над Большим Лесом, перешептывались друг с другом, а затем решили провести свою новообретенную призрачную свободу в Заливе Блуждающих Огней, ниже Замонийской Ривьеры, недалеко от Болот Кладбищенских Дулов. Хихикая, они сформировались в светящийся рой и исчезли в юго-западном направлении, оставив за собой кометный хвост из цветных искр.
Борис Борис и дети стояли перед черным кратером, все еще ошеломленные и взволнованные произошедшими событиями. "Злая ведьма теперь мертва?" - спросила Крете. "Это никогда не знаешь наверняка", - задумчиво сказал Борис Борис. - "Может быть, она просто ушла домой. Я подозреваю, что под Замонией происходят вещи, которые еще предстоит выяснить". Энзель начал выкапывать орхидею руками. Борис и Крете присоединились к нему, чтобы помочь. "Не составит большого труда найти место лучше этого", - сказала орхидея не без укора в голосе. - "Любое место лучше этого". Борис Борис прижал орхидею под мышкой. Он взял Крете за руку, та, в свою очередь, взяла за руку своего брата. Так они и шли сквозь толпу из тысяч маленьких лесных животных, мимо земляных гномиков, светящихся муравьев, единорожков и полевок, мимо саламандр, короедов и енотов, которые молча расступались, освобождая им дорогу. "Мы идем домой", - сказал Борис. - "Я знаю дорогу". "Ты уверен?" - спросила Крете. "Хоррр", - ответил медведь.
И вот опускается занавес над Энзелем и Крете, над Борисом Борисом и Цветными Медведями из Бауминга, над Замонией и Большим Лесом. Моя сказка окончена, там бежит мышка, и кто ее поймает, ни в коем случае не должен делать из нее меховую шапку или варить из нее суп, потому что изготовление меховых шапок и варка супа из маленьких лесных животных с сегодняшнего дня и навсегда запрещены.
Часть II: От Линдвурмфесте до Блоксберга
биография первой половины жизни
Хильдегунста фон Мифореза
от Вальтера Моэрса
"Встань у края бездны ада И танцуй под музыку звезд!" — Девиз жителей Линдвурмфесте
Хильдегунст фон Мифорез — самый известный и самый читаемый писатель Замонии. Его творчество охватывает все мыслимые литературные жанры, от романа до экспериментальной лирики и монументальной театральной пьесы в девятисот актах. Мифорез писал сонеты и афоризмы, новеллы, басни, сказки, эпистолярные романы, дневники, драмы, трагедии, комедии, либретто, памфлеты, сказки на ночь, путевые заметки, литературные любовные письма и даже лирические кулинарные рецепты{12} — его спектр охватывает все цвета радуги замонийской литературы. Что касается насыщенности событиями и переменчивости, его жизнь вполне соответствовала его творчеству — как можно справиться с задачей воздать должное такому гиганту хотя бы в кратком пояснительном тексте, подобном этому? Это невозможно, и даже не стоит пытаться. Все, что я могу предложить, — это приближение, фрагмент, воля к неудаче. Мифорез был мастером скрывать, прославлять, фальсифицировать или даже отрицать обстоятельства своей жизни. Трудно отделить зерна достоверной информации от плевел слухов, поддельных дневников и документов, легенд и злословия. У Мифореза было столько же друзей, сколько и врагов, а количество неавторизованных биографий превышает даже количество его собственных произведений. Как при его жизни, так и после были имитаторы, выдававшие себя за него, публиковались многочисленные пиратские издания, сам он в зрелые годы отказывался признавать свои более слабые ранние работы своей интеллектуальной собственностью. Так с чего же начать?
Линдвурмфесте
Хильдегунст фон Мифорез, это исторически засвидетельствовано, родился в Линдвурмфесте{13}, монументальной обитаемой известняковой скале в Западной Замонии, расположенной между Лох Лох и плоскогорьем Дулл, недалеко от юго-западных отрогов Сладкой пустыни. Он был, как и все жители Линдвурмфесте, литературно одаренным, прямоходящим потомком тех замонийских динозавров, которые произошли из Лох Лох. Мифорез — типичная фамилия жителей Линдвурмфесте, как и Эпеншмид, Ферзендрехслер или Химненгиесер, — имена, которые должны были одновременно сигнализировать о литературном чутье и солидном мастерстве{14}, поскольку почти все саурии, живущие в крепости, были практикующими литераторами с врожденной склонностью к ремесленной тщательности. Документально подтверждено, что Мифенмец провел там большую часть своего детства, около семидесяти лет. Он пережил несколько осад Линдвурмфесте (в том числе особо легендарные осады Медных Парней и Хульдлингов), свои травмы от этого раннего военного опыта он переработал в более поздних работах. Здесь он написал свои первые пятьсот стихов, автобиографический фрагмент «Ливень стрел в апреле — Дневник осад Линдвурмфесте», двадцать две новеллы (от авторства которых он позже пытался отказаться, потому что они больше не соответствовали его возросшим требованиям) и множество писем, которые он адресовал самому себе (собраны в: Хильдегунст фон Мифорез: «Любимый Хильдегунст» — Письма к самому себе){15}.Годы путешествий
После того как Мифорез покинул крепость, начались его годы странствий{16}. Он исколесил Замонию в запутанном путешествии, которое он в основном совершил пешком и фактические этапы которого больше не поддаются проверке. Его "Путевой дневник сентиментального динозавра", созданный в то время, во всяком случае, не может служить серьезным источником, если вы придаете значение научной точности. Мифорез описывает в нем многочисленные места Замонии очень подробно, но, как можно доказать, литературно преувеличенно, так что можно усомниться в том, действительно ли он там бывал. Среди прочего, он сообщает о путешествии по городу мертвецов Дулльсгард, в который на самом деле ни один живой не мог войти, не будучи мумифицированным заживо жителями этого жуткого места. Описание Мифореза, тем не менее, долгое время использовалось на уроках географии Замонии, поскольку других документов о внешнем виде внутреннего Дулльсгарда не было, и его подробные объяснения были настолько убедительными, что даже эксперты по Дулльсгарду были введены в заблуждение.Гральсунд
Достоверно известно, однако, о его длительном пребывании в Гральсунде, где он путем самообразования (Мифорез презирал академическое образование) систематически освоил местную университетскую библиотеку от А до Я, что было письменно задокументировано штатными библиотекарями академии{17}. Здесь, по собственным словам, Мифорез написал от скуки и за один день стихотворение, которому суждено было стать основой его будущей славы:Какой образованный житель Замонии не знает наизусть все семьдесят восемь строф "Мрачногорской девы", стихотворения, положившего начало целому литературному жанру, поэзии о редких существах{18}. Благосклонная судьба распорядилась так, что стихотворение было предписано Министерством образования Замонии для обязательного чтения во всех школах, особенно из-за его образцовой метрики: теперь Мифорез был у всех на устах. Конкель Церниссен, один из самых влиятельных литературных критиков Замонии того времени, наряду с Лаптантиделем Латудой, писал о "Мрачногорской деве": "Стихотворение, как волшебная бутылка благороднейшего вина, которую можно пить снова и снова, и которая с каждым разом становится все более зрелой и восхитительной". Вероятно, Церниссен действительно выпил ту или иную бутылку вина во время чтения, потому что, если оценивать "Мрачногорскую деву" с сегодняшней точки зрения на предмет ее литературного качества, поднимается изрядная пыль. Сам Мифорез, говорят, неоднократно пренебрежительно отзывался о своем стихотворении. В то же время он зарекомендовал себя как видный член богемы Гральсунда и собрал вокруг себя кружок молодых строптивых литераторов, которых он посвятил в свои еще довольно сырые представления о литературе и художественной работе. Он, должно быть, обладал немалой харизмой, потому что их называли Бандой Линдвурма, хотя Мифорез был единственным жителем Линдвурмфесте в группе. Говорят, его последователи настолько рабски имитировали манеру Мифореза одеваться, говорить и даже его рептильный способ передвижения, что это должно было выглядеть гротескно.{19} Пребывание в Гральсунде также знаменует начало интенсивной дружбы с Хоркеном Шмё, пишущим волтерком из Мидгарда, с которым Мифорез разделял литературные и политические концепции революционного толка. Вместе они написали "Манифест Линдвурма", бессвязный конгломерат незрелых политических идей и напыщенных формулировок, который они прибили к двери Гральсундской библиотеки. Манифест не имел политического эффекта, но с тех пор прибивание манифестов к университетским дверям стало популярным обычаем в замонийских студенческих кругах. Шмё впоследствии стал величайшим соперником Мифореза в борьбе за присвоение замонийских литературных премий.{20} Во время своего чрезмерного чтения в Гральсундской библиотеке Мифорез попал под влияние рикшадемонической литературы ужасов{21} и попутно изучал биографические труды алхимика Цолтеппа Цаана.{22} Под этим влиянием (и не в последнюю очередь под влиянием Гральсундского трактирного вина) он написал здесь свой первый действительно опубликованный роман "Замомин", которому суждено было стать классикой замонийского экспрессионизма, литературного жанра, который был обязан скорее диктату спонтанного вдохновения, чем мелочному редактированию. В то время Мифорез писал пером, обмакнутым в красное вино, на обратной стороне неоплаченных счетов из трактира. Еще влажные, его излияния сразу же отправлялись в печать, он не допускал никаких исправлений. Говорят, в более поздние годы он неоднократно сожалел об этом методе работы. В конце концов, произошел разрыв с Хоркеном Шмё из-за оплаты счета в трактире. Шмё вызвал Мифореза на дуэль с ручными арбалетами. Мифорезу, убежденному пацифисту, противнику физического насилия и хроническому ипохондрику, была невыносима мысль о стреляной ране. Он покинул Гральсунд ночью и в тумане. Шмё был настолько взволнован бегством своего бывшего друга, что случайно выстрелил себе в ногу. Он заразился столбняком и с тех пор должен был носить деревянную ногу.
Героиды
Разрыв с Хоркеном Шмё вызвал распад Банды Линдвурма и ознаменовал начало этапа в биографии Мифореза, который он впоследствии пытался скрыть. "Замомин" сначала продавался посредственно (он станет классикой только после его более поздних успехов), Мифореза преследовали некоторые кредиторы, и поэтому он скрылся в Бухунге, где получил доступ к полуподпольным кругам. В то время на юго-востоке Замонии ходили так называемые "Героиды"{23}, или письма героев, написанные от руки любовные письма с сильно напыщенным уклоном, которые якобы были написаны популярными замонийскими героями и адресованы определенным дамам из высшего общества, в основном наттифтоффинкам. В этих письмах к адресованным женщинам обращались с горячей любовью, всегда тринадцатисложными александрийскими стихами высокого мастерства, если не считать китчевого содержания. Обычно посредник подходил с таким письмом к даме из высших кругов, конфиденциально сообщал ей, что он обладает письмом некоего героя, который боготворит данную даму, - и амурное послание уже исчезало в вырезе платья знатной дамы. Первое письмо всегда было бесплатным - с этого все и начиналось. В нем обычно говорилось, что герой из-за своей героической занятости (удушение змей, охота на драконов и т.д.) может поклоняться соответствующей возлюбленной только издалека, но она должна позволить ему воспеть нежную молочность ее кожи или жемчужное сияние ее зубов в нескольких неуклюжих стихах. За этим следовала гирлянда александрийских стихов, которые (это должны были признать даже убежденные замонийские эксперты по александрийским стихам) были безупречны и не оставляли желать лучшего с точки зрения свидетельства красоты и плотности восхвалений. Примечательно, что письма никогда не были адресованы легкой добыче, то есть разочарованным или обманутым женам, а гордым, уверенным в себе женщинам, которые любили своих мужей и возглавляли счастливые семьи, - что, вероятно, многое говорит о силе убеждения этих писем. Короче говоря: по современным данным литературоведения и графологии, автором этих "Героид" был однозначно Хильдегунст фон Мифорез, который в то время, должно быть, принадлежал к кругу изощренных мошенников, действовавших из Бухтинга. Мифорез был способен говорить о таком расплывчатом понятии, как любовь, как если бы он описывал осязаемый предмет, пейзаж или картину. Он находил метафоры для душевных состояний, которые другие великие поэты его эпохи тщетно пытались найти, он мог так чутко переложить на трогательный язык хаос чувств, бушующий в любящей женщине, что у человека выступали слезы на глазах - даже если он был мужчиной. Заполучив первую наживку, пострадавшая дама жаждала дальнейших писем, которые посредник затем и доставлял, за плату за доставку, которая по своей бесстыдности едва ли уступала содержанию стихов. В этих письмах герой, кстати, постоянно заверял в своей героической незаменимости, рассказывал на закопченной бумаге о своей борьбе с коварными канальными драконами или другими столь же общественно опасными чудовищами и восхвалял часть тела обожаемой - кстати, всегда только одну на письмо. Письма становились все дороже, причины, которые приводил посыльный, все более надуманными, но дамы жаждали их все сильнее, потому что одновременно возрастала - назовем это так: сомнительность - формулировок и, с другой стороны, количество и опасность для жизни опасностей, которые герой якобы должен был отражать при написании писем. В какой-то момент посыльный исчезал с лица земли (не без получения солидного заключительного гонорара), и цепочка любовных заверений обрывалась. Каждый раз оставалось разбитое сердце.Дом Наттиффотоффенов
Но, как гласит популярная замонийская пословица: Шарах{24} стачивает все края{25}. Вина давно истекла, и "Героиды" Мифореза стали классикой замонийской любовной лирической поэзии. То, как Мифорезу удалось вырваться из криминальной среды Бухтинга и возобновить свою писательскую карьеру, является предметом многочисленных псевдобиографических спекуляций, в которых мы здесь не хотим участвовать. Сам Мифорез любил распространять слух, что он ушел в дикую местность для очищения, чтобы поститься в течение года, а затем, подпитываемый голодными видениями, написать "Дом Наттиффотоффенов", книгу, которая положила начало настоящей карьере Мифореза. Против этого утверждения говорит тот факт, что нет ни одного портрета Мифореза, на котором он был бы изображен иначе, чем упитанным.{26} В "Доме Наттиффотоффенов" Мифорез посвящает себя классическому общественному роману и открывает читателю панораму почти ста лет замонийской истории, с более чем двумястами пятидесятью действующими лицами. В центре сюжета - Флоциан фон Гральсунд, молодой дворянин наттиффотофф, который по ходу романа превращается в бессердечного магната по производству масла из виноградных косточек и разжигает вражду со своим братом-близнецом Броцианом, который любит девочку-йети по имени Фелла. Роман делает неожиданный поворот после восьмисот страниц, когда выясняется, что девочка-йети - переодетая наттиффотоффка и наследница империи по производству тыквенного масла. Броциан и Фелла женятся, он берет на себя руководство империей тыквенного масла своей жены, в результате чего начинается непримиримая борьба между двумя братьями, торгующими пищевым маслом. Как ни странно, книга становится невероятно многословной именно в том месте, где она, кажется, набирает обороты. Мифорез мучает читателя бесконечными, кропотливыми балансами двух крупных компаний, сотнями страниц с таблицами, колонками цифр, моделями амортизации и юридической перепиской, которые действительно необходимо прочитать, если вы хотите следить за (теперь уже скудным) сюжетом романа. Непонятно, почему Мифорез получил Кубок Замонийского Эпоса именно за эту мазню, но пути литературной критики неисповедимы, и Мифорезу впоследствии было позволено в полной мере доказать, на что он действительно способен. Носмото Троссномо, производитель масла из виноградных косточек и ярый поклонник "Дома Наттиффотоффенов", привез Мифореза в Бленхейм и предоставил в его распоряжение одну из своих многочисленных вилл. Ему было позволено жить там бесплатно, он обедал за знаменитым столом Троссномо и получал княжеское карманное пособие при условии, что в его следующих трех романах будет регулярно упоминаться определенный сорт масла из виноградных косточек.{27} Мифорез попытался развить успех "Дома Наттиффотоффенов" с помощью романов "Кашляющий Грааль", "Дети между каплями дождя" и "Трубка сардин" (действие которых происходит в среде производства масла из виноградных косточек), что, однако, удалось ему только в коммерческом отношении - критики были уничтожающими и обвинили его в художественной распродаже. Особенно влиятельный в то время главный критик Лаптантидель Латуда обрушился на Мифореза с почти миссионерским рвением. В ежедневной колонке "Гральсундского Культурного Курьера" стилистические ляпы Мифореза стали постоянной темой. С чем, по собственным словам, поэт справлялся на удивление уверенно: он якобы читал колонки своей глухой таксе, а затем выстилал ими клетку своего говорящего стихами Мифореза попугая. Его тогдашний личный слуга, фертнахийский карлик по имени Корри фон Хакен, напротив, сообщает в своей автобиографии о приступах ярости, плача и алкогольных излишествах Мифореза по случаю каждой из статей Латуды.{28}Ранние причуды
Мифорезу исполнилось 189 лет, для динозавра это все еще нежный возраст, когда становилось все более очевидным, что он не справляется со своим ранним успехом. Его тогдашний редактор Роперт фон дер Хё сообщает: «Это, безусловно, был самый сложный этап в жизни Мифореза. Во время визитов в издательство он настаивал на том, чтобы его носили по издательству - лично издатель! Ратом Ро был довольно хрупким человеком, а Мифорез к тому времени набрал изрядный вес - сладкая жизнь успеха. Это было мучительное зрелище - видеть, как этот старый заслуженный мидгардский гном таскает по офисным помещениям своего чопорного звездного автора. Мифорез действительно не оставил нам в издательстве места для того, чтобы мы могли развить чувство собственного достоинства в своей работе. Мне приходилось писать свои корректуры невидимыми чернилами - чтобы они вообще не оскорбляли глаз Мифореза. Что, возможно, было бы лучше, потому что тогда ему удалось бы избежать нескольких досадных ошибок в "Трубке сардин". Мы собственноручно составляли письма поклонников, потому что он был склонен к истерикам, если его ежедневно не засыпали письмами, в которых молодые замонийцы угрожали самоубийством, если новый Мифорез не появится в ближайшее время. Если он обнаруживал в книжном магазине, что мы издаем какие-то другие книги, кроме его собственных, он начинал рвать их и нападать на книготорговцев. Он явно не справился со своим успехом».{29} С той же скоростью, с какой приходили деньги, Мифорез выбрасывал их на ветер. Он окружил себя сомнительными друзьями-художниками, проиграл малые и большие состояния в игре Гебба и загубил несколько экономических предприятий, включая производство собственных чернил, использование которых якобы должно было помочь даже дилетанту добиться лучших писательских результатов. Мифорез начал диктовать. Он придерживался мнения, что каждое слово, пришедшее ему в голову, стоит того, чтобы быть напечатанным. С этой целью он всегда носил с собой трех секретарей, которые подхватывали каждое его высказывание, записывали его и на следующий день отдавали в печать. Результатом стал поток печатных банальностей, непродуманных идей и ужасающе посредственных философских высказываний, перемежающихся монологами, в центре которых, конечно же, стоял сам Мифорез. Его тогдашняя поэзия все больше вращалась вокруг него самого, его политические и литературные взгляды становились все более эксцентричными, и однажды произошел странный инцидент.Огуречный конфуз
За ужином за столом Троссномо Мифорез заявил, что его произведения теперь диктуются ему свыше. Он действительно был убежден, что его диалоги ему нашептывают — сверх- или внезамонийские силы. Тот факт, что эти диалоги всегда имели одно и то же содержание, а именно описание консервирования морских огурцов, добычи соли и очистки меха пихтовым маслом, побудил его написать философский памфлет, в котором морской огурец был центром космологического учения о спасении, другими столпами которого были морская соль и замонийское пихтовое масло. Затем случайно выяснилось, что Мифорез мог подслушивать разговоры в столовой соседней фабрики по производству морских огурцов из-за ошибки в установке вентиляционной системы. Разговоры в основном вели йети, которые обменивались мнениями о том, как смыть с меха морскую соль, используемую для консервирования морских огурцов, после работы. В то время популярным средством была ванна с подогретым пихтовым маслом. Когда эта история стала достоянием общественности, крутая карьера Мифореза внезапно оборвалась. Он стал всеобщим посмешищем, его книги распродавались за бесценок, а Носмото Троссномо сменил замки в своей вилле.{30} Мифорез эмигрировал во Флоринт.Флоринт
В тамошней ссылке (чтобы драматически подчеркнуть свой уход из замонийского общества, Мифорез поселился в заброшенном маяке) с ним случилось то, что может случиться с любым замонийским существом, хотя статистическая вероятность этого события сравнима с вероятностью попадания метеорита: во время одной из своих длительных прогулок, которые поэт прописал себе от депрессии, он споткнулся и упал в пространственную дыру. Точные обстоятельства падения Мифореза в пространственную дыру неясны, сам он сделал все возможное, чтобы скрыть это событие. Если верить описанию событий Мифорезом в его книге "Свободное падение в небрежной кататонии", то он вывалился из той же пространственной дыры всего несколько дней спустя, что, по мнению экспертов по пространственным дырам, является крайне редким явлением. О других подробностях своего падения он высказывался исключительно в лирической форме, в чрезвычайно насыщенных метафорами стихах величайшей многозначности - возможно, его самое загадочное произведение, которое все еще ждет своей окончательной расшифровки. Фактом является то, что после возвращения Мифореза словно подменили. Он снова стал появляться в обществе, посещал многочисленные художественные салоны в близлежащем Флоринте и там познакомился и полюбил свою будущую жену Йетте, уроженку Линдвурмфесте из семьи писателей фон Штанценмахер. В здоровом климате Флоринта поэт снова расцвел и даже начал писать в лучшей форме. За три четверти столетия он написал там сто одиннадцать коротких романов, а также бесчисленное множество стихов и писем, в том числе такие шедевры, как "Съеденные ломтики", "Монокль циклопа" (предшественник его шедевра "Корона циклопа"), "Спираль наутилуса", "Глубокие центры", "Дни ворчания" и "Говорящая печь".Говорящая печь
В «Говорящей печи» Мифорез обратился к теме одушевления мертвой материи. Писатель-динозавр, который после смерти своей сварливой жены хочет спокойно провести остаток жизни в уединенном лесном домике, однажды вечером обнаруживает, что его маленькая чугунная печь умеет говорить. Поначалу диалоги служат ему для развлечения, но вскоре он обнаруживает, что с ним говорит дух его жены, вселившийся в печь. Поскольку сейчас суровая зима, он не может ни покинуть дом, ни избавиться от печи. Напротив, он должен неустанно кормить ее и тщательно за ней ухаживать. Мифорез превращает сказочный сюжет в гнетущую психологическую драму, в которой, очевидно, переработаны автобиографические переживания — его жена Йетте, как говорят, после нескольких десятков лет брака оказалась настоящей мегерой. Остроумные диалоги и горькие взаимные упреки определяют сюжет романа, но не обходится и без экспериментальной прозы, например, когда за месяц, в течение которого динозавр и печь не разговаривают друг с другом, Мифорез на более чем 150 страницах описывает тиканье напольных часов и свист ветра. После суровой зимы наступает весна, писатель переплавляет печь на пушечные ядра и женится на юной девочке-динозавре. Мифорез убедительно перевоплотился в печь. Нагрев и расширение чугуна, рев огня, треск горящих поленьев, изнурительная борьба с древесным углем, едкий дым, избавление от ночного охлаждения — все это было описано настолько правдоподобно, что после прочтения нельзя было не взглянуть на печи с новой чувствительностью. Многие читатели романа начали отождествлять себя со своими собственными обогревателями, давать им имена и вести с ними беседы. Образовались кружки радикальных любителей печей, убежденных в одушевленности обогревателей. Одна крупная атлантическая компания по производству печей выпустила серию, где на каждом экземпляре было выгравировано индивидуальное имя. Некоторые замонийцы верили, что могут научить свои печи говорить, сжигая в них роман Мифореза — снова и снова, что привело к нескольким дополнительным тиражам. Прием одушевления мертвой материи, похоже, затронул нерв времени и нашел не только много читателей, но и подражателей в замонийской литературной среде, что привело к появлению собственного жанра — литературы о мертвой материи. На рынок хлынул настоящий поток книг, в которых машины, инструменты или другие неодушевленные предметы повседневной жизни болтали или ввязывались в приключения и романтические отношения, — правда, ни одна из них так и не достигла психологической глубины печного романа Мифореза.{31} Расчески, ножницы, тарелки, коврики, соковыжималки, колокольчики, носовые платки и дверные ручки стали героями новой литературы, пользовавшейся огромным спросом. В течение определенного периода времени в Замонии нельзя было даже подавать в издательства роман, в котором не было хотя бы одного говорящего предмета. Критики оценивали качество в основном по количеству говорящих предметов, которые в нем фигурировали, независимо от качества диалогов или сюжета. Книжные магазины расставляли свои полки в алфавитном порядке по неодушевленным предметам повседневной жизни, потому что о почти каждом из них было написано не менее дюжины романов. Лишь немногие из этих книг действительно достигли определенного литературного уровня, в том числе «Из жизни поршневого насоса» Намлы Уркук, «Я, наковальня» (также Уркук) и «Воспоминания юности кузнечного меха» Хоркена Шмё.Триумф
Сам Мифорез после написания романа отошел от литературы о мертвой материи, развелся и снова женился — на юной девочке-динозавре, которую звали Арзамия фон Ферсверкер. Отношения продлились менее двух лет, Мифорез снова развелся и вернулся в Гральсунд — героем, отвергнутым сыном, который сделал свое счастье вмире. Следующие сто лет стали для Мифореза сплошным триумфом. Он неделю за неделей, год за годом доминировал в списках бестселлеров, получил все мыслимые замонийские литературные премии (среди прочих орден Вальтрозема и Премию мира Наттиффтоффа), стал почетным председателем библиотеки Гральсунда, городским писарем Штайнштадта и первым писателем Замонии, которому при жизни был воздвигнут памятник (на рыночной площади Флоринта). В это время Мифорез написал свою «Линдвурмфестскую октологию» (восемь романов, действие которых происходит в течение восьми столетий вокруг восьми судеб на Линдвурмфесте, каждый из которых насчитывал восемьсот восемьдесят восемь страниц, опубликованных 8 августа тиражом восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь экземпляров). Для «Светла ночь» он использовал собственную бессонницу, чтобы задокументировать мир ночных существ Замонии. Он связался с другими подверженными бессонницей, чутко спящими, лунатиками, даже вампирами и оборотнями. Он спустился в подземные канализационные лабиринты, работал в ссудной кассе крови, ночевал на кладбищенских болотах Дулла и даже проник в одну из печально известных пирамид Гральсунда, где наткнулся на давно забытую цивилизацию, обычаи которой он задокументировал с научной точностью, но при этом литературно преувеличил. Его журналистско-поэтический метод работы стал новаторским для нового жанра замонийской литературы, который соединил поэзию и правду в полудостоверное повествование: родился новый жанр - фактоман. Вскоре после этого Хоркен Шмё написал «Точильщики ножниц из Кляйнкорнхайма», явно подражая методу Мифореза. Это был лишь умеренный коммерческий успех, и он принес ему лишь стипендию точильщика ножниц из Кляйнкорнхайма, что побудило Мифореза к насмешливым комментариям. Даже «Дневник страданий» самого Мифореза имел огромный успех. Хотя он оплакивал в нем исключительно свои воображаемые болезни (по крайней мере, одну каждый день), критики превозносили книгу как первый великий роман ипохондрика, и она лежала во многих замонийских кабинетах врачей для чтения.{32}Кризис смысла
Возможно, чтобы противопоставить что-то своей чудовищной славе, Мифорез избрал именно профанацию в качестве определяющего стилистического приема своих последующих работ. В своих произведениях он теперь обычно сначала брал высокий, претенциозный тон и приподнимал настроение читателя торжественным пафосом, чтобы затем внезапно обрушить все в неловкое, пошлое или смешное. Наиболее последовательно это удалось ему в его девятисотстраничном романе «Заан из Флоринта», в котором искусно и с большой тщательностью плетутся и переплетаются сюжетные линии, а также тонко прорабатываются характеры, и все это обрывается совершенно внезапно рецептом «Идеальной яичницы-болтуньи а-ля Мифорез» («Двенадцать яиц, два фунта сливочного масла, жарить на самом слабом огне один час, постоянно помешивая. Поперчить, посолить, готово»). Поколения замонийских литературоведов ломали голову над этим «художественным приемом» и готовили по рецепту. К удовлетворительному суждению так и не пришли, кроме того, что яичница-болтунья, приготовленная по методу Мифореза, действительно фантастически вкусна.{33} Подобным образом он поступал и в своих лирических произведениях. Стихотворение «Слушай» — яркий пример поэтической техники Мифореза того времени:Komaune Na, umhülle mimit hatten Undeckede mideine wärze zu Derungestö ich will mitonnen gatten Uni mezirk derelfen uchet uh Ja, ilf meinach! eh dunowirt entwinden Mit inderhand on einer ele inden. (Непереводимая игра слов)
Это было уже едва выносимо даже для ярых фанатов Мифореза. «Чтение мифемской поэзии Мифореза было бы достаточным поводом, чтобы с криком убежать в лес», — заявил обычно благосклонный к Мифорезу критик Конкель Церниссен после чтения в книжном магазине Флоринта. Недоступный даже для доброжелательной критики, Мифорез заставил своего издателя выпустить альтернативное полное собрание сочинений в мифем-версии, дорого переплетенное в лучшую кожу канального дракона. Это издание лежало на прилавках как свинец, из чего Мифорез заключил, что современная публика просто еще не созрела для его мифемской техники, которая будет признана опередившей свое время в далеком тысячелетии.{34} Мифорез все больше и больше занимался уничтожением литературы — предпочтительно своей собственной. «Я распадаюсь, значит, и литература должна, черт возьми, распадаться», — было его кредо, которое, вероятно, объяснялось его растущей ипохондрией и проблемами с естественным процессом старения. На презентации книги в Гральсунде Мифорез представил изумленным читателям, критикам и поклонникам изношенный зонтик и упорно утверждал, что это его новый роман. Лишить роман его романности считал он в то время своим важнейшим долгом. Он обстрелял издание своего «Дома Наттиффтоффенов» стрелами, а затем объявил его «переработанным изданием». Он отказывался подписывать свои собственные книги на встречах с читателями и, в свою очередь, требовал от собравшихся поклонников, чтобы они подписывали ему книги других авторов, которые он приносил мешками. Подобные выходки не способствовали лояльности читателей и критиков: звезда Мифореза начала закатываться. Политические беспорядки в Замонии, вызванные Наттиффтоффскими малыми гражданскими войнами, не способствовали улучшению саморазрушительного настроения Мифореза и ввергли его в глубокий кризис смысла. До этого он был убежден, что его произведения составляют моральную основу замонийского общества, что-то вроде литературной конституции, которая скрепляет весь континент, — как могли ухудшиться условия, хотя он написал так много хорошего? С наивным изумлением он должен был теперь обнаружить, что его литературная работа мало — возможно, вообще ничего — не имеет общего с реальностью. Мифорез отреагировал с логикой психически больного: что могло быть более очевидным в таких обстоятельствах, чем объявить саму реальность фикцией?


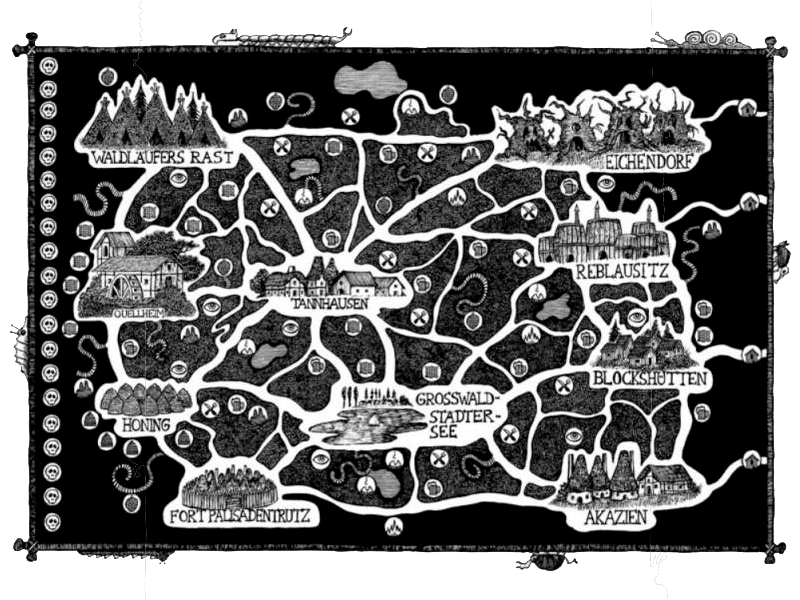





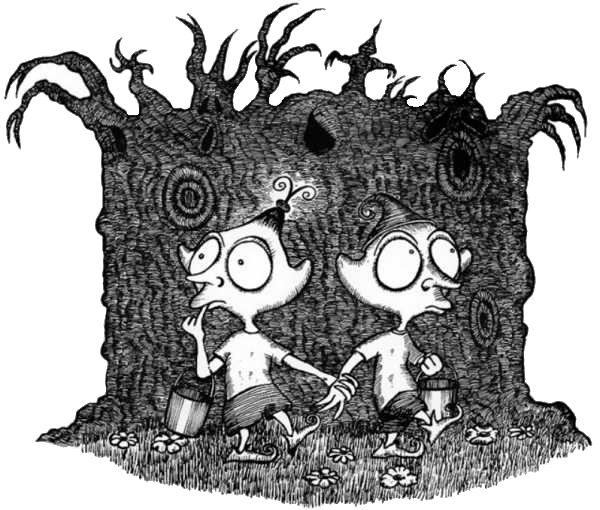

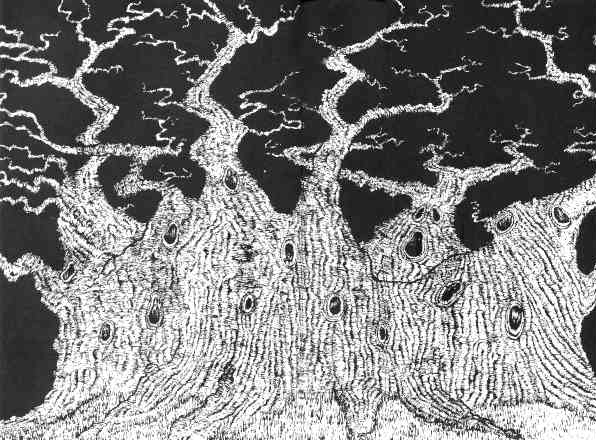
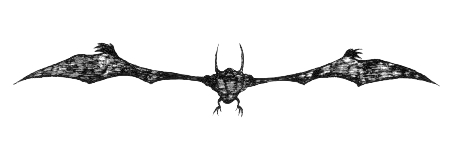



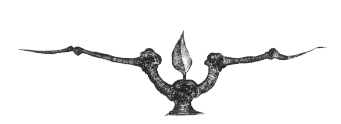
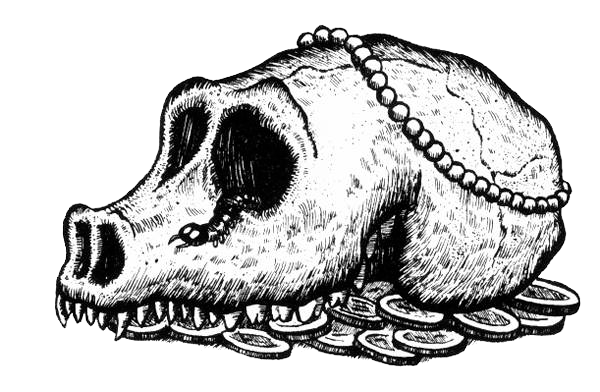
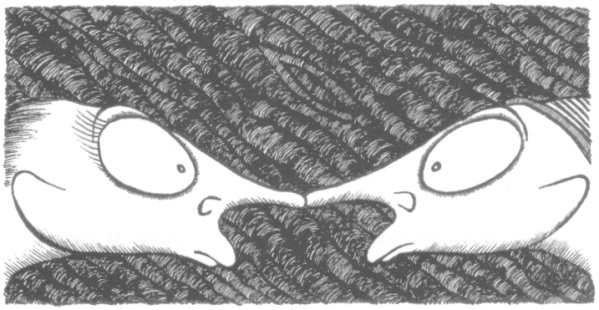
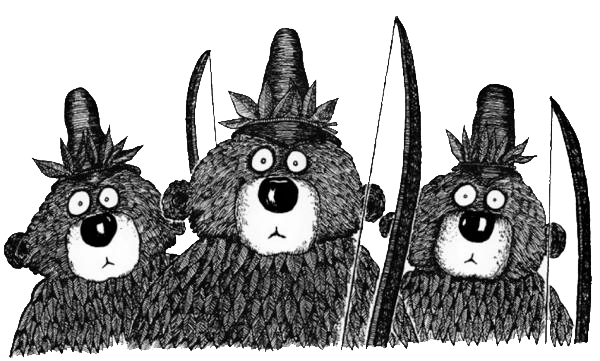

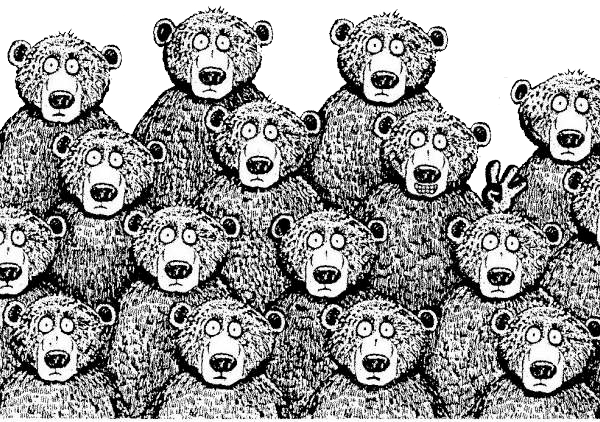


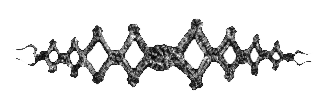
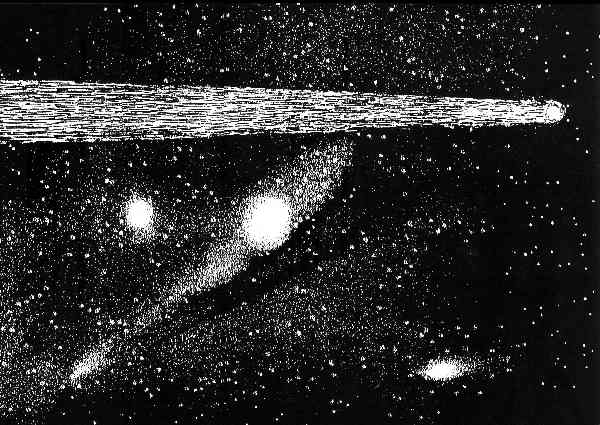


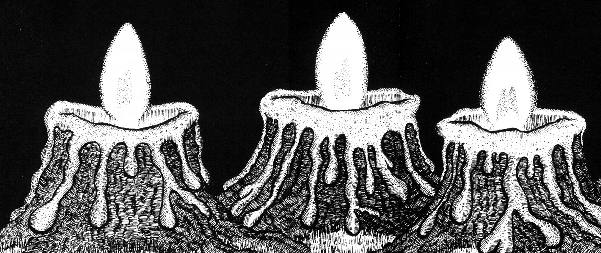





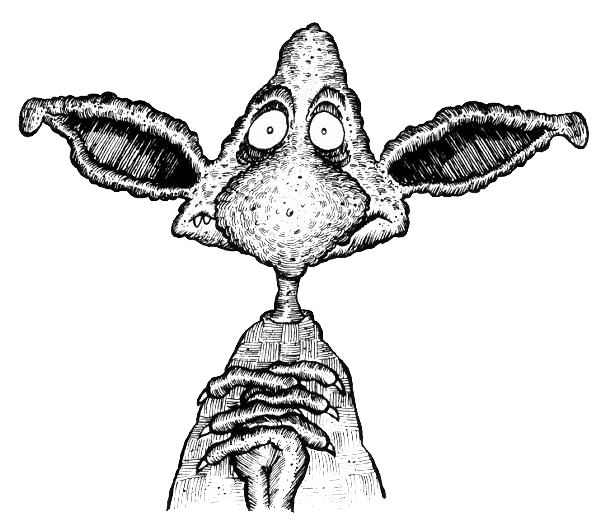
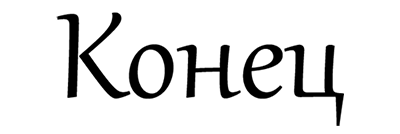

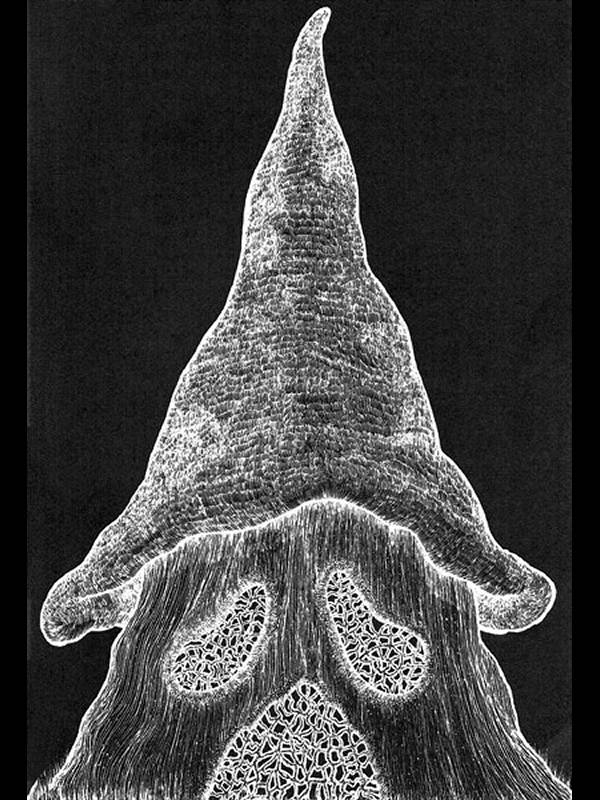




Последние комментарии
2 часов 2 минут назад
2 часов 12 минут назад
2 часов 12 минут назад
20 часов 55 минут назад
21 часов 5 минут назад
21 часов 19 минут назад